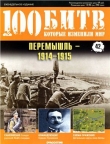Текст книги "Австро-Венгрия: судьба империи"
Автор книги: Андрей Шарый
Соавторы: Ярослав Шимов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Будапешт. Венгерский полдень
Весной этот город пахнет фиалками – как благоухают фиалками дамы, фланирующие по променаду над рекой в Пеште. А осенью тон задает Буда. Молчание города нарушают в эту пору лишь далекие звуки военного оркестра из беседки на другом берегу да стук падающих на тропинки у замка случайных каштанов. Осень и Буда рождены одной матерью.
Дьюла Круди. Подсолнух
В Будапеште Дунай течет быстрее и мощнее, чем в Вене. Ни один другой город эта река на своем трехтысячекилометровом протяжении не разрезает пополам с такой естественной точностью; пятисотметровое дунайское русло не объединяет ни один другой город столь гармонично и соразмерно. Но вода в голубом Дунае вовсе не голубая. С любого из восьми будапештских мостов прекрасно видно, с каким ровным рабочим усилием река перекатывает с севера на юг мускулистые серо-зеленые волны. Дунай в Будапеште – монотонный, грустный, словно цыганская скрипка, поток. В любое время дня, даже в полдень, в любое время года, даже летом, в любую погоду, даже если над головой ни облачка, дунайские берега, будапештский горизонт, венгерское небо затянуты дымкой меланхоличной неопределенности.
В трудном венгерском языке есть выражение temetni tudunk. В несовершенном переводе оно означает “мы знаем толк в похоронах”. Откуда такая тоска, откуда эта мрачная уверенность, подтверждаемая статистикой – венгры числятся среди народов с самой высокой склонностью к самоубийствам? Один из ответов дает автор исторического исследования “Тысяча лет венгерского народа” Пауль Лендваи, сопроводивший свою книгу подзаголовком “К поражениям через победы”. Этот публицистический образ характеризует сложный алгоритм строительства венгерского государства. Пришедшие с Урала кочевники, начавшие освоение Карпатской котловины одиннадцать столетий назад, венгры после двух с половиной веков удачных захватнических походов сами оказались жертвой монгольского нашествия. Еще через триста лет процветанию Венгерского королевства, покорившего половину Центральной Европы, положило конец поражение от Османской империи. Освобождение от власти турок пришло сюда в конце XVII века вместе с европейскими армиями, основу которых составляли войска Габсбургов. А северные и западные венгерские земли попали под габсбургскую власть полутора веками ранее.
Сожительство с Габсбургами венгров, нации эмоциональной, воинственной, с гордой шляхетской культурой, было непростым. Рука императора казалась тяжелой: из Австрии на многоконфессиональную Венгрию накатывались волны рекатолизации, а традиционные вольности местного дворянства раздражали Вену. Венгры восставали, выдвигали ярких, умных, но равно неудачливых вождей – Ференца Ракоци в начале XVIII века, Лайоша Кошута в середине XIX – и неизменно героически проигрывали. Эта печальная традиция продолжилась и в ХХ веке, когда Венгрия после Первой мировой войны пережила катастрофу Трианонского мира[32]32
Трианонский договор, подписанный державами-победительницами в Первой мировой войне и Венгрией в июне 1920 года в одном из дворцов Версаля, закрепил потерю Венгрией большей части своих территорий. Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии; Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев; Словакия и Подкарпатская Русь (ныне Закарпатская область Украины) достались Чехословакии; Бургенланд был передан Австрии.
[Закрыть], лишившего страну большей части ее земель. В неблагоразумном союзе с Гитлером регент Миклош Хорти попытался вернуть хотя бы часть утраченного – лишь для того, чтобы после 1945 года нацизм сменился коммунизмом, а узкие трианонские границы вернулись. Венгры с сочувствием к собственному горю цитируют главного национального поэта-революционера Шандора Петефи: “Мы – самый покинутый народ на земле”. Журналист Артур Кестлер, в 1956 году наблюдавший из-за пролива Ла-Манш за трагическими событиями на родине, констатировал: “Быть венгром – это коллективный невроз”. Похоже, метафору писателя Дьюлы Круди можно расширить: не только Буда, но и весь венгерский народ рожден той же матерью, что и осень.

Михай Зичи. Шандор Петефи читает толпе стихотворение “Вспрянь, мадьяр!” 15 марта 1848 года.
Местный историк-патриот написал: “Только в XIX веке характерный для венгерского ума пессимизм сменился оптимизмом, часто вовсе не обоснованным. Этот оптимизм, ставший проявлением динамичного национального роста, выглядел столь же наивным, сколь близоруким”. Парадокс заключается в том, что Будапешт, главный город этой ныне скромной по размерам и влиянию страны, пережил пору самого бурного своего расцвета, свою восхитительную belle époque, являясь скорее не полноценной столицей, но только духовным и культурным центром нации. Тысячелетняя идея государственности расцвела и во многом была воплощена на практике под властью иноземной династии в ту пору, когда корона святого Иштвана венчала чело австрийского старика. Еще одна цитата из исторической книжки: “Венгры стали свободной нацией, но их страна не стала независимым государством”.
Сегодняшний Будапешт – элегантный, оживленный, просторный – памятник всепоглощающей идее национального величия, попытка овеществить в бетоне, граните и мраморе то царствие небесное, которого нация завоевателей так и не дождалась на земле. Историки умеют точно определять временные координаты, как астрономы – положение тел в пространстве. С 1867 по 1914 год наблюдался максимальный подъем солнца Венгрии над политическим горизонтом. Это зенит будапештского благоденствия и благополучия: это пора реформ, возведения величественных монументов (во второй половине XIX века в Будапеште появилось 63 “полноформатных” памятника), казавшейся беззаботной жизни. Это без малого полвека научных, социальных, экономических достижений. Это еще и полустолетие пышных венгерских похорон.
1 апреля 1894 года сотни тысяч безутешных венгров провожали в последний путь бывшего вождя революции Лайоша Кошута. Когда-то его сторонники утверждали, что “шляпа Кошута весит больше, чем короны всех королей, вместе взятые”. Гроб с телом покойного доставили из Италии на траурном поезде. Кошут надолго пережил свою революцию. 45 лет после поражения он провел в эмиграции. Его родина, где идеи о независимости в 1867 году отчасти были реализованы австро-венгерским компромиссом, пользовалась благами самоуправления. А Кошут собирал травы в Альпах, вел из Турина романтическую переписку с последней любовью своей жизни, юной трансильванской красавицей Шаролтой Зейк, и выдумывал утопические государственные проекты – вроде Дунайской федерации в составе Венгрии, Сербии, Болгарии и Румынии. Но главной для него оставалась мечта о независимости. В предсмертном письме девяностодвухлетний Кошут патетически напомнил соотечественникам: “Стрелки часов не определяют движение истории, они только указывают время; мое имя – такая стрелка. Время, которого я ждал, придет, если сама судьба не остановит будущее моего народа. У этого будущего есть имя: свободная родина для венгров”.
Траурная процессия за гробом Кошута растянулась на несколько километров, от здания Национального музея до главного будапештского кладбища у Восточного вокзала. Император Франц Иосиф (в Венгрии – король Ференц Йожеф) не объявил государственного траура после смерти опального политика и публициста, деятельность которого когда-то потрясла габсбургскую монархию, но и препятствовать массовому проявлению венгерских чувств не желал или был не в состоянии. На просторном кладбище Керепеши саркофаг с останками революционера вот уже столетие поднят на десятиметровую высоту громадного мавзолея. Вечный покой народного вождя охраняют две каменные пантеры. Напряженный оскал дикой кошки справа символизирует ярость; расслабленный оскал той, что слева, означает настороженность.
Памятник Кошуту (по всей стране таких установлен не один десяток) замыкает бронзовую череду четырнадцати венгерских героев на колоннаде Мемориала Тысячелетия. Когда-то последним в этой шеренге – на месте нынешнего бронзового Кошута – стоял император-король Франц Иосиф. После каждой из мировых войн памятник модернизировали, постепенно всех Габсбургов заменили на анти-Габсбургов. В число венгерских титанов не попал ни один из пяти прежде красовавшихся на колоннаде королей. Справедливо? Вряд ли, ибо Австрийский дом пусть и не сроднился со своими венгерскими подданными, но и безжалостным угнетателем все же не был. После крушения монархии венграм довелось жить и при куда более жесткой власти. Но такова логика исторической борьбы: где есть Кошут, там не бывать Габсбургу.
В мае 1900 года на той же площади Героев, замкнутой с двух сторон сундуковатыми музейными зданиями, венгры прощались с другим национальным гением, художником Михаем Мункачи. Он скончался в Германии от душевного расстройства и последствий сифилиса. Как и погребение Кошута, это были не столько похороны, сколько праздник бессмертия из числа тех, смысл которых подметила американский историк Джоанна Ричардсон: “XIX век должен был уйти в прошлое – вместе с людьми, которые лучше других выразили энтузиазм и страсть старой эпохи”. Мункачи родился в закарпатском городе Мункач (ныне Мукачево на Украине) в немецкой семье чиновника фон Либа. В Европе взявший географический псевдоним живописец получил громкую известность благодаря масштабному триптиху на библейские темы – “Христос перед Пилатом”, “Голгофа”, “Се человек!”. Громадное, без малого пять на почти двадцать метров, полотно “Обретение родины”, над которым Мункачи увлеченно работал несколько лет, изображает приход в 896 году на Паннонскую равнину с Урала вождей венгерских племен под водительством князя Арпада. Картина была написана к помпезному празднику, которым Венгрия отметила на исходе позапрошлого века свое тысячелетие. Отметила, сделав заметный акцент на мистически понятых мотивах степных кочевий; должно быть, азиатчина казалась венграм вызовом утонченному европеизму Габсбургов.
Это понятие – “Обретение родины”, Honfoglalás – служит отправной точкой венгерского державного порыва. Картина Мункачи и центральная скульптурная группа Мемориала Тысячелетия (семерка могучих всадников, первый из них – грозный Арпад) стали еще одним, художественным воплощением Главной Венгерской Идеи. Разве что чугунный Юрий Долгорукий напротив московской мэрии не оробеет перед этими мадьярскими исполинами, суровыми взглядами провожавшими в последний путь, вдаль по проспекту Андраши, катафалки с останками тех, кому довелось вложить свой политический, военный, социальный, творческий кирпичик в здание вечной Венгрии.
Так что кладбище Керепеши, открытое на тогдашней окраине Будапешта (как на заказ – вскоре после поражения революции Кошута), помнит не один десяток пышных похорон. Temetni tudunk – жизнь и смерть сплетались в Будапеште ради достижения национальной цели. Огромные толпы собрались на перезахоронении останков премьер-министра революционного правительства графа Лайоша Баттяни, казненного в 1849 году по приказу императора. Граф умер красиво, скомандовав расстрельному взводу сразу на трех языках: Allez, Jäger, éljen á haza![33]33
“Вперед (фр.), егеря (нем.), слава Отечеству (венг.)!”
[Закрыть] В этой фразе слились воедино патриотизм и космополитизм венгерской аристократии. Сотни тысяч венгров молились на панихиде по воспевшему прошлое и оплакавшему настоящее Dulcis Patria (“милой Родины”) поэту-романтику Михаю Верешмарти; скорбели по Ференцу Деаку, одному из немногих политиков, приверженных не отчаянному, обреченному на поражение мадьярскому романтизму, а осторожному реализму, тому, что сулит хотя бы частичный успех. В июне 1897 года парадных похорон удостоился и Карой (Карл) Камермайер, четверть века прослуживший мэром Будапешта. Благодаря и его усилиям Будапешт в последней трети XIX века вошел в число крупнейших городов Старого Света и превратился для многих европейцев в образец продуманного хозяйственного и социального развития.
Немец Камермайер занял кресло бургомистра в 1873 году, эта дата официально считается датой объединения Буды, Обуды и Пешта. Еще в начале XIX столетия суммарное население трех придунайских городков не превышало пятидесяти тысяч человек. На Будайском холме вокруг заложенного королем Белой IV, но так и не достроенного его наследниками серокаменного дворца – с куполом, напоминавшим шлем венгерского кочевника (сейчас заменен полусферой классических пропорций), – теснились домишки ремесленников и мещан. На правом, пологом берегу Дуная, в Пеште, обосновались торговцы, некогда перебравшиеся в Венгрию в основном из германских земель. Обуда, возникшая близ развалин античного Аквинкума, жила рыбной ловлей и мукомольным промыслом. Административная и политическая жизнь Венгрии долгое время текла в иных краях. Многие представители венгерской знати проводили время в Вене, при габсбургском дворе. Административным центром королевства полтора века, со времен, когда в Буде и Пеште хозяйничали турки, оставался скромный город Пожонь (в немецком варианте Пресбург, ныне словацкая столица Братислава). Именно там заседал венгерский сейм, там кипели политические страсти, там звучали патриотические речи. Но не по-венгерски, а на латыни – до 1844 года этот мертвый язык оставался административным языком Венгрии.
В 1908 году будапештский публицист Аладар Шёпфлин опубликовал эссе “Город”. Шёпфлин обратил внимание на такую национальную черту венгров: “Если народы покрупнее и поудачливее строили себе города по своему образу и подобию, то у венгров чутья к городскому быту долго не было. Города в Венгрии отстраивались за счет немецкого элемента, а коренные венгры жили в деревне. Если они и селились кучно в городах, то на ремесленный и торговый люд все равно смотрели свысока, со смесью раздражения и насмешки, как на чудаковатых чужаков. Сам город был для них чужеродным телом в теле нации”. Это положение изменилось только к концу XIX столетия, когда за время жизни одного-двух поколений, по крайней мере в объединившихся Буде – Пеште, это “чужеродное тело” стало родным и привычным.
Постепенно Буда и Пешт превратились в центр притяжения всех венгерских земель – поначалу экономический, чуть позднее культурный и, наконец, политический. Выражение “американский темп” не случайно превратилось в то время в журналистское клише. Город стал не только большим, но и очень пестрым, в том числе в этническом отношении. Тем не менее, согласно переписи населения 1910 года, 86 % населения уже более чем миллионного Будапешта называли родным языком венгерский. Венгерские источники утверждают, что во всей восточной части двуединой монархии (с населением 17 миллионов человек) в ту пору венграми себя считали 700 тысяч евреев, 600 тысяч немцев, 400 тысяч словаков, 100 тысяч румын, 100 тысяч южных славян и еще 100 тысяч представителей других национальностей. Это, однако, не означает, что политика венгров, которые сами боролись с австро-немецким засильем (истинным или мнимым), была мудрой по отношению к “своим” национальным меньшинствам. В этом тоже проявлялась двойственность, преследующая венгров чуть ли не все тысячелетие их европейской истории, – свобода для себя оборачивалась несвободой для других. Так или иначе, национальность многих будапештских подданных императора оказалась “утопленной” в идее венгерской государственности.
Венгерское возрождение и будапештское процветание не случайно начались с родной речи, хотя еще двести лет назад существовала угроза того, что этот сложный для восприятия и освоения язык если и не исчезнет вовсе, то так и останется исключительно средством устного общения. В чопорной Вене к “мадьярской тарабарщине” относились с презрением. Придворный драматург Франц Грильпарцер[34]34
Франц Грильпарцер (1791–1872) – крупный австрийский поэт и драматург, автор множества лирических стихов и нашумевших при дворе Габсбургов исторических трагедий: “Софокл”, “Величие короля Отакара”, “Верный слуга своего господина”, “Волны моря и любви”, комедии “Горе лжецу”. Драму Грильпарцера “Праматерь” перевел на русский язык Александр Блок.
[Закрыть], слывший, между прочим, либералом, в 1840 году оставил в дневнике язвительное замечание: “У венгерского языка нет будущего. Его идиомы не соответствуют европейским понятиям, распространение этого языка ограничено несколькими миллионами преимущественно необразованных людей. Если бы Кант написал “Критику чистого разума” на венгерском, у него не нашлось бы и трех читателей. Венгр, говорящий только по-венгерски, останется мужланом, даже если обладает выдающимися способностями”.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
АРМИНИЙ ВАМБЕРИ,
толмач и дервиш

Арминий Вамбери (Герман Бамберберг) родился в 1832 году в городе Дунасердахей (сейчас Дунайска-Стреда в Словакии) в бедной семье еврея-портного. Был хромым от рождения. В юности переехал в Пожонь, затем в Пешт, где учился и работал домашним преподавателем иностранных языков. Вамбери обладал феноменальной памятью и невероятными лингвистическими способностями, знал несколько десятков языков. В середине 1850-х годов отправился в Стамбул, где стал секретарем видного царедворца Фуата-паши. Принял ислам. Написал несколько научных трудов, составил немецко-турецкий словарь. В 1861 году в одеянии нищенствующего проповедника-дервиша совершил путешествие по Османской империи, Персии, Афганистану, Хивинскому и Бухарскому ханствам, выясняя вопрос о возможном тюркском происхождении венгерского языка. По некоторым данным, выполнял поручения британского Министерства иностранных дел. После возвращения в Европу написал книгу “Путешествия и приключения в Центральной Азии”. Сорок лет руководил кафедрой ориенталистики в Будапештском университете. Крестился. Приятельствовал с ирландским писателем Брэмом Стокером, автором “Дракулы”, которого консультировал по истории и этнографии Трансильвании. Вамбери умер в 1913 году в Будапеште.
Будущее рассудило иначе: именно идея сохранения и кодификации венгерского языка дала толчок революционной деятельности молодых мадьярских дворян и мещан. Быть венгром в их многонациональной стране означало прежде всего говорить по-венгерски. На рубеже XVIII–XIX веков возникло активное движение за языковую реформу, самой заметной фигурой которого стал писатель Ференц Казинци. Реформаторы возрождали язык мадьяр, стремясь осовременить и обогатить его, приспособив к запросам новой эпохи. Правда, первый литературный журнал на венгерском Казинци выпустил в 1788 году не в Буде или Пеште, а в провинциальной Кашше (ныне Кошице в Словакии). Другое языковое (а на самом деле политическое) событие произошло в 1825 году уже в Буде, на заседании периодически собиравшегося здесь сейма: капитан Иштван Сечени, известный при императорском дворе повеса и бонвиван, неожиданно произнес речь на венгерском языке (которым, кстати, владел неважно). Это выступление произвело фурор.
Наследник одной из самых богатых и знатных венгерских семей, Сечени с юных лет путешествовал по миру, посетил Францию, Италию, Британию, Турцию, содержа в свите не только слуг и повара, но и художника. Четверть века по моде времени вел дневник, в который помимо политических размышлений и этнографических заметок заносил отчеты о своих и чужих романтических приключениях. Как гласит исторический анекдот, после смерти графа его секретарь, выполняя завещание патрона, уничтожил более пяти тысяч страниц интимных записей, компрометировавших многих некогда прелестнейших светских дам. При этом граф был меланхоликом, с молодости размышлявшим о самоубийстве, которое он в конце концов и совершил в 1860 году. В Вене над молодым Сечени посмеивались и снисходительно называли “графом Штефи”. Вскоре выяснилось, что у насмешек не имелось оснований.

Мост Сечени. Фото 1928 года.
Сечени говорил на нескольких языках, но в совершенстве не знал ни одного: немецкий, на котором граф вел переписку, биографы считают корявым; с такой латынью в габсбургской Венгрии никого не приняли бы на госслужбу; он бегло, но тоже небезукоризненно, изъяснялся на итальянском и французском. С годами в речах и дневниках графа появлялось все больше патриотических интонаций. Сечени пожертвовал годовой доход от своих поместий на организацию Венгерской академии наук. Затем этот дворянин, считавший себя образцовым англофилом, организовал в Пеште первые в Венгрии скачки и открыл по образцу лондонских клубов National Casino, ставшее символом и одним из очагов национального возрождения. В австро-венгерских провинциях понятие casino долго сохраняло первоначальный смысл. В таких заведениях не столько играли в азартные игры, сколько музицировали, заводили деловые и политические связи, дискутировали о судьбах родины, иногда плели заговоры. Подобно английским клубам, венгерские казино функционировали как закрытые и часто снобистские сообщества, строго охранявшие социальные границы: в National Casino собирались только аристократы голубых кровей, Ország Casino объединяло дворян со “средними” родословной и достатком, Leopoldstadt Casino – состоятельных буржуа и госчиновников.
Лозунгом Иштвана Сечени стало утверждение “Венгрии не было! Венгрия будет!”, хотя в самых смелых своих проектах он, либеральный националист, не лишенный антисемитских предубеждений, представлял себе Венгрию частью габсбургской монархии, оставаясь в этом отношении оппонентом сторонника полной независимости Лайоша Кошута. Благодаря Сечени в 1830-х годах стали меняться и Буда, и Пешт, усилиями этого “величайшего венгра” будущая объединенная столица начала приобретать черты, которые и теперь определяют ее облик. На деньги и благодаря организаторским усилиям Сечени устроили первую современную пристань на Дунае; неутомимый граф нашел средства и на оборудование общественного променада. По инициативе Сечени открыты Венгерский национальный театр, консерватория, ремесленная школа, первые паровые мельницы, первое литейное производство; он основал спортивный клуб и учредил гребное общество – опять-таки первые в Венгрии.
Главный будапештский памятник патриотизму и энергии Сечени – спроектированный и построенный по его инициативе и при его финансовом участии британскими инженерами Уильямом и Адамом Кларками (однофамильцы) Цепной мост, впервые прочно соединивший не только берега Дуная, но и восток и запад Венгрии. Этот мост, украшенный стальными гирляндами и к концу XIX века получивший имя Сечени, в момент своего открытия (1849) заслуженно считался одним из технических чудес света. Мост и сейчас ох как хорош: и для автовладельцев, и для влюбленных, и для туристов, но особенно (в ночную пору, с иллюминацией) – для фотографов. Краеведы утверждают: объединение Буды и Пешта началось с моста, а главным объединителем городов и всей нации стал Иштван Сечени.

Франц Иосиф и Елизавета на улицах Будапешта. Фото 1897 года.
Этот человек зримо, как ни один другой персонаж истории, присутствует и в сегодняшнем Будапеште. Его имя помимо моста носят крупнейшие в Европе купальни с термальными ваннами, площадь, две улицы, набережная, ресторан, пивной погреб. Именем отца Сечени названа Национальная библиотека. В Пеште установлены и многофигурный памятник, и скромный бюст Иштвана Сечени.
ПОДДАННЫЕ ИМПЕРИИ
CАМУЭЛЬ ТЕЛЕКИ,
искатель приключений

Граф Самуэль Телеки де Сек (1845–1916) родился в Трансильвании в семье богатых землевладельцев. Среди его предков был основатель открытой в 1802 году в Марошвашархее (сейчас Тыргу-Муреш в Румынии) одной из первых венгерских публичных библиотек. В 1881 году Телеки стал депутатом венгерского парламента. Увлечение охотой привело его к идее организации сафари. В 1887 году экспедиция под руководством Телеки и морского офицера-картографа Людвига фон Хохнеля отправилась по руслу танзанийской реки Руву. Первыми из европейцев они достигли линии снегов Килиманджаро (5300 метров), а также покорили вторую по высоте в Африке гору Кения (4300 метров). Экспедиция Телеки–Хохнеля открыла в Великой рифтовой долине озеро, названное графом в честь друга, кронпринца Рудольфа (сейчас озеро Туркана). Другое озеро, на юге Эфиопии, Телеки назвал в честь жены Рудольфа, принцессы Стефании (ныне озеро Чев-Бахир). Экспедиция, которую сопровождали четыреста носильщиков, провела научные наблюдения, открыла новые виды насекомых и растений. В районе Момбасы Телеки обнаружил действующий вулкан, которому присвоил свое имя. Впечатления граф обобщил в “Восточноафриканских дневниках”; фон Хохнель назвал отчет об экспедиции “Открытие озер Рудольфа и Стефании”. В 1895 году Телеки совершил новую экспедицию, но покорить Килиманджаро ему не удалось. Фон Хохнель также еще раз побывал в Африке, затем командовал крейсером “Пантера” в походе в Австралию и Полинезию.
Портрет графа украшает купюру в 5000 форинтов. Больше, чем революционер Лайош Кошут, чем поэт Шандор Петефи, даже в большей степени, чем местный король-креститель Иштван и местный “король-солнце” Матиаш Корвин, граф Сечени – венгерское “все”. И кажется, не только в силу замыслов и деяний: Сечени умел пылко любить родину – как полагалось венгерскому патриоту; умел широко жить – как полагалось венгерскому магнату; он и умереть сумел трагично, как умирают великие в народном эпосе.
Столетие назад в Будапеште, как и по всей Австро-Венгрии эпохи заката, вот так же едва ли не все, подлежавшее наименованию, носило имя императора-короля Франца Иосифа. Но память о старом монархе в последние десятилетия начисто вымарана с городской карты. Словно и не бывал он никогда в Будапеште, словно не короновался под восторженные возгласы придворных и горожан, под ружейные залпы почетного караула и пушечные выстрелы. Словно не открывал торжественно и с помпой 2 мая 1896 года Национальную венгерскую выставку, посвященную тысячелетию “обретения Родины”. Словно не праздновал здесь, в белом мундире гусарского генерала, четвертьвековой юбилей своего царствования.
К концу XIX века и в этой стране вечных бунтовщиков габсбургская династия воспринималась как символ традиции и знак стабильности. Об этой укоренившейся и в Венгрии монархической традиции интересно писал в литературном журнале Nyugat публицист Пал Кери: “Монархия правит по отлаженным принципам господства, в которых всегда перевешивал патриархальный абсолютизм. Заботиться о благе народа, давить, но не чересчур, пусть живет себе в достатке, но не слишком умничает; пусть будут буржуазия и промышленность, это попридержит дворянскую крамолу; пусть крестьянин по возможности крепнет, буржуа богатеет. И пусть каждая завоеванная провинция будет объемистым резервуаром, из которого можно черпать побольше добрых солдат и налогов. Вот и все правило”. Для многих венгров крушение государства Габсбургов стало в первую очередь отказом от этих правил.
В конце концов крупнейший дунайский город рассчитался с австрийской династией сполна. Будапешт тщательно, до мелочей, продумывался как столица великой свободной страны – вопреки своему тогдашнему, отчасти подчиненному положению. Город замышлялся и строился не похожим на Вену – не равным ей, а равным самому себе. Оттого так широки проспекты и бульвары Пешта, так уютны парки и дворики Буды, так элегантны площади и памятники, так узорчаты и нарядны дома, потому так гармоничен весь городской архитектурный ансамбль. Движения грифелей и циркулей маститых австрийских, немецких, итальянских, английских зодчих, строивших новый Будапешт, вдохновлял не только их несомненный талант, но и политическая воля “отцов венгерского народа”. Здесь венгерские историки культуры, кстати, проявляют самокритичность: особенности исторического развития страны, по их мнению, не позволили сформировать национальный архитектурный стиль (за исключением Трансильвании). Поэтому венгры в меру сил творчески осваивали и применяли в своих условиях привнесенное.

Императорская семья в поместье Гёделлё с детьми Рудольфом, Валерией и Гизелой. Литография 1870 года.
Если вы не освоили учебника венгерской истории, вам будет сложно правильно понять Будапешт. Неподготовленному гостю трудно определить, куда направлена и против кого обращена городская идеологическая вертикаль, из каких источников черпается освободительная энергетика Будапешта, на какую борьбу зовут многие его бронзовые герои. Будапешт несет на себе печать сложного отношения венгерской нации к Габсбургам. Бульварное полукольцо в центральном районе Пешта, охватывающее пространство между мостами Маргит и Шандора Петефи, на четырех своих участках сохранило присвоенные улицам более века назад имена членов монархической фамилии, а пятое название (бывший бульвар Леопольда I) теперь чтит память первого венгерского короля Иштвана. Хотя как раз Леопольда могли бы и пощадить, ведь именно при нем Буду и Пешт освободили от турок.
Исключение из правила – отношение Будапешта к супруге Франца Иосифа, императрице Елизавете, или, по-венгерски, королеве Эржебет. Она подолгу гостила в Венгрии, часто останавливалась в подаренной ей местной шляхтой летней резиденции Гёделлё под Будапештом. В молодости Елизавету связывали теплые отношения (степень их близости историки оценивают по-разному) с графом Дьюлой Андраши, который начал политическую карьеру с участия в революции, а продолжил на посту министра иностранных дел Австро-Венгрии, отстаивавшего международные интересы Габсбургов. Елизавета симпатизировала венграм, вероятно, потому, что рыцарственность, выставляемая здешней знатью напоказ, импонировала романтической натуре королевы, а совсем не показное веселье шляхты помогало развеять невротическую меланхолию. По настоянию супруги Франц Иосиф в 1867 году амнистировал бунтовщиков 1848-го, более того, распорядился оказать помощь семьям расстрелянных участников восстания против его же власти. Мадьярофильство унаследовал от матери и несчастный кронпринц Рудольф. Венгрию он называл “Англией Востока” и даже считал эти свои будущие владения образцом для либерального переустройства всей огромной и сложной империи: “В Будапеште жизнь, уверенность в себе, вера в будущее – особенности, которые приносит с собой эпоха свободы и которых нет на других желто-черных[35]35
По цвету знамени Габсбургов, соответствовавшему традиционным цветам Священной Римской империи. Верность этим цветам династия сохранила и после роспуска старой империи в 1806 году.
[Закрыть] территориях”.

Проспект Андраши. Фото 1896 года.

Метро в Будапеште. Открытка начала 1900-х годов.
Будапешт помнит и любит Эржебет. Один из дунайских мостов назван ее именем (соседний мост Франца Иосифа давно переименован в мост Свободы), а сама печальная бронзовая королева примостилась у подножия холма Геллерт. В Пеште вы можете прогуляться по бульвару Эржебет, в одном из парков Буды – подняться на башню Эржебет, в большом книжном магазине – купить биографию Эржебет с сентиментальным заголовком “Одинокая императрица”. К площади Эржебет (отчего-то посередине этой площади установлен фонтан с Нептуном) сходятся чуть ли не все главные дороги Пешта, а летними вечерами здесь, у клуба Gödör, собирается столичная молодежь – потанцевать, погалдеть, покурить травку. Портреты Елизаветы на туристических лотках красуются рядом с ликами венгерских героев и картами несчастливо утраченных Венгрией территорий. Королева Эржебет (в отличие от Вены, в Будапеште ее не называют фамильярно Сисси) стала и секс-символом венгерской истории, и примером романтизации прошлого силами масскульта, и даже парафразом грустного венгерского счастья.
В отличие от центральных кварталов других европейских столиц, облик которых складывался веками, венгерский город будущего строили одним историческим махом и фактически по единому плану. К середине XIX века в Пеште регламентировались и высота зданий, и параметры фасадов, и размеры окон. Оттого по городским проспектам и бульварам гуляешь как по огромной квартире, меблировка и оформление которой продуманы хозяевами до мелочей. Восхищаешься не стариной, а тем смирением, с каким архитекторы подчиняли фантазию модным в пору будапештского полудня неоренессансу и неоклассицизму. Строили не кто как хотел, а в соответствии с национальной идеей о красоте преуспевания. Получилось богато и стильно. Нарядные столетние четырехэтажки на авеню Андраши (в начале 1950-х эта улица носила имя Иосифа Сталина) – вот розовая с виньетками над окнами, вот зеленая с пилястрами во весь фасад, вот бежевая с кариатидами у подъездов – и теперь тщательно подогнаны одна к другой. По широкому проспекту вплываешь на восьмиугольную площадь Октогон (в 1930-е годы, когда Венгрия дружила с фашистской Италией, – площадь Бенито Муссолини) на пересечении с бульварным пештским полукольцом: все просторно, все воздушно, все размеренно. Еще через квартал – нарядная Опера: попроще парижской, поменьше миланской, поизящнее венской. В 1895 году по этому проспекту с ветерком пронесся первый в Будапеште автомобиль марки Benz. До 1941 года дорожное движение в Венгрии было левосторонним. Кое-кто из историков считает, что и таким образом Будапешт стремился подчеркнуть независимость от Вены. Возможно, сказалось также традиционное англофильство венгерской элиты.