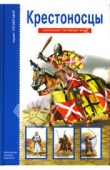Текст книги "Барон Унгерн. Даурский крестоносец или буддист с мечом"
Автор книги: Андрей Жуков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Поэт Алексей Широпаев имел все основания сказать, что «Унгерн – единственный из белых вождей, кого можно представить скачущим в составе опричных сотен». «Опричные казни превращались в своеобразное русское чистилище перед Страшным судом», – пишет тонкий исследователь эпохи Грозного историк А. Юрганов. «Белый террор» Унгерна – также своеобразное чистилище, через которое должна пройти Россия, дабы смыть с себя скверну большевизма и обрести утраченный «золотой век».
Сможет ли наш современник, живущий в век торжества политкорректности и «общечеловеческих ценностей», в век новых надежд на победу «цивилизации и прогресса», попытаться понять мысли и идеи барона Унгерна? Поддается ли феномен барона Унгерна вообще адекватному описанию, или для нас он является своего рода «областью молчания», недоступной пониманию современного человека? Давайте прислушаемся к словам современного русского философа о. Романа Бычкова, высказанным им в книге, носящей символическое название – «Воля к средневековью»: «Современность же возросла на отрицании всего того, на чем устроялось Средневековье, – Царство Божие заменив царством человеческим, органичность Средневековья – своей раздробленностью, объективность Средневековья – своей субъективностью, конкретику Средневековья – своей отвлеченностью, самособранность Средневековья – своей поверхностностью. В нашем понимании Средневековье и современность – суть два взаимоисключающих образа Бытия, две антагонистические системы, между которыми невозможно никакое «мирное существование». Или одно – или другое». В этих довольно горьких, но совершенно справедливых словах вполне объясняется причина того, почему барон Унгерн выглядел «безумцем» и «сумасшедшим бароном» даже среди своих сотоварищей по белой борьбе, а наше зрение, напрочь искалеченное современным миром, видит в рыцаре Белой идеи «маньяка-убийцу» и «патологическую личность».
Глава 11
Путь на Ургу
… С середины осени 1919 года военная ситуация в Сибири и Забайкалье неуклонно изменялась в пользу красных. Поспешно был оставлен Омск – столица Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Потеря Омска оказалась не просто военным поражением, но также и огромным моральным ударом по всему Белому движению. Люди, отдававшие борьбе с большевиками все свои силы, внезапно лишились какого-то стержня, каркаса, на котором выстраивалась убежденность в неминуемой победе. Известия с юга России только укрепляли всеобщий пессимизм – армии генерала Деникина, уверенно приближавшиеся к Москве, исчерпав все свои силы, покатились назад, под контрударами красных. Под влиянием военных поражений стала стремительно ухудшаться политическая ситуация непосредственно внутри Белого движения. Потеря Омска белой армией полностью развалила всю структуру всероссийской власти. Сам Колчак, его правительство, Ставка не могли полностью контролировать оперативную обстановку, а вскоре вообще утратили возможность как-либо влиять на нее: Верховный правитель России оказался, в полном смысле слова, заложником так называемых союзников, – французов и чехов, решавших исключительно свои задачи, не имевшие ничего общего с задачами белых армий и объективно способствовавших своими действиями большевикам.
В военном руководстве белых армий произошел раскол – начались постыдные грызня, склоки. Если ранее линия политического разлома проходила между «белым большевизмом» атамана Г. М. Семенова и либеральнореспубликанскими настроениями, господствовавшими в окружении Верховного правителя, то теперь единство было утрачено даже в среде самих колчаковских генералов. Генерал М. К. Дитерихс, отказавшийся оборонять Омск и заявивший, что «защищать Омск равносильно полному поражению всей нашей армии», был немедленно отправлен в отставку и заменен на генерала К. В. Сахарова. Через месяц с небольшим, 9 декабря 1919 года, на станции Тайга генерал А. Н. Пепеляев арестовал генерала Сахарова и потребовал от Колчака суда над ним и восстановления в должности генерала Дитерихса. Колчак был вынужден обратиться к Михаилу Константиновичу с предложением вновь возглавить руководство фронтом. Как отмечают историки, ответ последнего был «безжалостным» – он согласился возглавить армию только при условии немедленного отъезда Колчака из России. Отъезда неважно куда – на юг, к Деникину, или в эмиграцию… Однако вскоре уже сам Верховный правитель был передан «союзниками» в руки проэсеровски настроенного Иркутского политцентра, который немедленно выдал Верховного правителя большевикам.
Ближайшие сотрудники адмирала Колчака своими поступками продлевали цепь предательств, по сути, начатую ими еще в февральско-мартовские дни 1917 года. Генерал от артиллерии Михаил Васильевич Ханжин, назначенный 6 октября 1919 года военным министром правительства Колчака, отправил Верховному правителю телеграмму с предложением отречься от власти в пользу генерала А. И. Деникина. После чего, попросив убежища в одном из поездов иностранных миссий, Ханжин бежал из Иркутска, бросив своего Верховного главнокомандующего на расправу коммунистам. Если так поступали даже люди, связанные военной присягой, что уже говорить о гражданских чинах Омского правительства. Заместитель Председателя Совета министров и Управляющий Министерством иностранных дел Третьяков, вовремя оценивший обстановку и оказавшийся в безопасном Харбине, отправил оттуда А. В. Колчаку телеграмму, в которой, во-первых, заявил о сложении своих званий, а во-вторых, сообщал, что отправляется в Японию для «выяснения настроений». В самое ближайшее время Третьяков оказался в Париже, где уже в 1941 году был разоблачен германской службой безопасности SD как давнии агент советской разведки, причастныи к похищению возглавлявших РОВС генералов Кутепова и Миллера чекистами.
Подобный трагичный исход всего Белого дела на востоке, по мнению Унгерна, можно было предугадать. Белых губило отсутствие единой позитивной идеи (антибольшевизм такой идеей считать было нельзя – он весь строился на отрицании, на «минусе»; кроме того, антибольшевиками были и эсеры, и меньшевики, и прочие кадеты, сыгравшие в гибели российской монархии гораздо более роковую роль, чем непосредственно большевики) и допущение в среду высшего офицерства партийности и политиканства. Мы уже говорили, насколько отличалось мировоззрение Унгерна от мировоззрения подавляющего большинства белых генералов. Эти различия подчеркивал и сам Унгерн, отзываясь о высших чинах Белого движения: «сентиментальные девицы из колчаковского пансиона» или «все они кадеты и шли в одной упряжке с большевиками…» Всем, кто на политическом фланге был «левее» него, барон просто не мог доверять – они были для него революционерами. Китайские республиканские войска Унгерн многократно именовал не только «революционными», но и прямо «большевицкими». Правда, и монголы называли китайских солдат «гаминами» – от китайского слова «гэмин» – революция.
Сам Унгерн был не просто идейным, но истово верующим монархистом. Только монархическая идея, только священная особа монарха, стоящая надо всеми возможными политическими течениями и идеями, способна остановить расползающуюся идеологию большевизма, которая, по словам Унгерна, «как страшная зараза распространяется по всему миру. Эта зараза хуже чумы, хуже холеры». «Я знаю, что только восстановление царей спасет испорченное Западом человечество, – писал в одном из писем Роман Федорович. – Как земля не может быть без неба, так государства не могут быть без царей».
Какое место в политических построениях Унгерна занимали Монголия и Китай? Прежде всего следует сказать, что все политические планы Унгерна не были отвлеченными фантазиями далекого от жизни полусумасшедшего мистика, каковым часто изображают барона в популярной литературе. В данном случае Унгерн мыслил как вполне «реальный политик». После того как белые армии откатывались все дальше на восток под натиском красных, стало ясно, что в отсутствие надежной тыловой базы вести боевые действия против советских войск с военной точки зрения совершенно бесперспективно. Создание же подобной базы представлялось совершенно невозможным без налаживания контактов и взаимной поддержки с военной и аристократической элитами Монголии и Китая. Судьба русского Белого дела, судьба русской контрреволюции очень во многом решалась именно на Востоке.
Кстати, это прекрасно понимали и большевики. После того как рухнули их надежды на скорую победу коммунистической революции в Германии (на нее очень рассчитывал Ленин) и в остальной Европе, вожди III Интернационала обратили все свое внимание на Восток. Восточные люди, не отягощенные европейскими философскими и политическими системами, не знакомые со «всесильным учением» Маркса, сохранившие феодальный, средневековый уклад жизни, являлись, с одной стороны, естественным резервом для борьбы со всяческими «передовыми» и «прогрессивными» идеологиями. Но, с другой стороны, они представляли необыкновенно податливый, горючий материал, который можно было легко поджечь и, используя местные традиции и обряды, направить вспыхнувший огонь в необходимую сторону. Только Китай и Индия – это сотни миллионов людей, способных в силу своей лишь численности решить судьбу мировой революции (или же контрреволюции). Проницательный русский эмигрантский историк И. П. Якобий, почти неизвестный в современной России, писал о большевицкой политике в Азии в издававшемся в Париже журнале «Двуглавый Орел»: «… Будучи интернационалистами в Европе, большевики явились на Востоке проповедниками самого непримиримого национализма цветных рас… Не ради освобождения азиатских народов большевики работают и сыпят червонцами, а для того, чтобы… бросить это громадное сорганизованное стадо на «буржуазную» Европу. Какая доблесть, какие технические силы смогут остановить этот человеческий поток, который польется из неисчерпаемых азиатских хлябей?»
Строя свои геополитические планы, барон Унгерн не был оригинальным. Его мысли о необходимости создания Великой Монголии, а вслед затем – о формировании Срединного государства, которое включало бы в себя Маньчжурию, Синьцзян, Тибет, Казахстан, алтайские и бурятские народы, – зеркальное отражение коммунистического плана «борьбы за Азию», перенесения центра мировой революции из Европы на Восток. Политические перспективы Унгерн оценивал весьма реалистично: «Надо… воспользоваться тем, что в Китае избран президент, известный революционер-большевик, доктор Сунь Ятсен. Очевидно, что от такого правительства, во главе которого стоит большевик, нельзя ожидать ничего хорошего для Монголии и Тибета. Очевидно, что подлое революционное учение Запада проникло в Китай. Необходимо теперь же начать действовать, чтобы спасти народы Востока от гибельных революционных учений и пагубных идей гнилого Запада. Верный к тому путь – объединение автономных Монголии, Тибета и Синьцзяна в крепкий федеративный союз и последующее восстановление Цинской династии. Только этим путем можно охранить великие устои и проблемы Востока, охранить честь и достоинство его народа, охранить обычаи, предания и заветы».
С точки зрения Унгерна, образование подобного государства, управляемого военной элитой во главе с императором – Богдо-ханом, создавало условия для «экспорта контрреволюции» в Россию и восстановления монархии не только на территории бывшей Российской империи, но и на всем европейском континенте. (Заметим, что азиатская реальность оказалась отнюдь не такой, как она рисовалась в теории не только для Унгерна, но также и для «русских» большевицких лидеров, в большинстве своем имевших европейское образование. Однако подобное понимание пришло слишком поздно, когда они уже достаточно глубоко погрузились в «неисчерпаемую азиатскую хлябь», из которой нужно было как можно быстрее вытягивать ноги – пока совсем не засосало.)
Барона должен был бы насторожить следующий факт: Унгерн разослал несколько десятков писем монгольским князьям, ламам, китайским генералам с изложением своих идей. Несмотря на то что большинство из этих писем Унгерна носит чисто утилитарный характер – обрести союзника, получить какую-либо помощь для своего дела, – из них вполне можно вычленить то, что составляло стержень идейных и политических взглядов барона, составляло его credo.
«… Ожидать света и спасения можно только с Востока, а не от европейцев, испорченных в самом корне даже до молодого поколения, вплоть до молодых девиц включительно». (Письмо Чжан Куню от 16.02.1921 г.)
«Вам, конечно, известно, как ужасно подлое большевицкое учение и как быстро оно укореняется. Вся Россия теперь страдает, брат пошел теперь на брата, сын – на отца, все обеднели, голодают, забыли Бога. Вы знаете, что моя цель, мои стремления – это восстановление царей. Надо начать с Востока, монголы для этого очень удобны, так как они не забыли еще, как им хорошо жилось при маньчжурском хане. Я знаю и верю, что свет придет с Востока и принесет счастье всему человечеству». (Письмо Цэндэ-гуну. Март 1921 г.)
«Самое наивысшее воплощение идеи царизма – это соединение божества с человеческой властью, как были Богдыхан в Китае, Богдо-хан в Халхе и в старые времена русские цари. За последние годы оставались во всем мире, условно говоря, два царя: это Англия и Япония. Теперь небо как будто смилостивилось над грешными людьми и возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и 3 февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан… Вашему сиятельству известно, что Чжан Куню – монархист, поэтому, понятно, надо всячески избегать столкновений и недоразумений с его войсками. Но гражданские китайские власти – это революционеры, последователи черного сатаны, они под маской несуществующей фантастической свободы, под личиной добра и обещаниями разных благ развращают нравственность людей, портят их, а народ вследствие этого бездействует и страдает. Примеры – Россия и Южный Китай… Каждый честный воин должен стоять за честь и добро, а носители этой чести – цари. Кроме того, ежели у соседних государств не будет царей, то они взаимно будут подтачивать и приносить вред одно другому…» (Письмо Цэндэ-гуну от 27.04.1921 г.)
«Мои караваны будут проходить по Вашим местам, и, хотя сами по себе они не представляют крупной ценности, но… имеют для меня большое значение. Я очень хотел бы, чтобы Вы пропускали их и оберегали от могущих быть неприятностей. Этим Вы сделаете мне большое удовольствие и окажете большую услугу, которую я, конечно, не забуду… Нам, честным воинам, надо всем взяться за оружие и вести борьбу за великое дело, за восстановление Срединного Царства, за восстановление царей, какой бы национальности они ни были. Я знаю, что только восстановление царей спасет теперь испорченное Западом человечество». (Письмо начальнику войск провинции Цицикар.)
Ответов пришло считаные единицы. «… Монгольские князья, не говоря уже о простых кочевниках, понятия не имели, что Унгерн видит в них последнюю надежду «испорченного Западом человечества», – справедливо замечает Л. А. Юзефович. «Монархической солидарности» не получалось. Как написал Унгерну в ответе один из влиятельных монгольских лам: «Я, хутухта, молюсь только о ниспослании благополучия Богдо-хану, преследуя цель помочь религии и народу, постоянно молюсь Трем Сокровищам и стараюсь исполнять установленные требы. Однако считаю нужным засвидетельствовать, что я обладаю слабыми способностями и образованием».
При этом материалисты-большевики не были склонны считать планы Унгерна «химерами сумасшедшего». Они сумели оценить опасность, исходившую от воплощения в жизнь подобных планов именно в их военно-политическом, практическом аспекте. 31 октября 1920 года на имя председателя Совнаркома Ленина была отправлена специальная телеграмма об опасности, которую представляют для Советской России успехи генерала Р. Ф. Унгерна в Монголии (копия была послана наркому по иностранным делам Г. В. Чичерину – это лишь подчеркивает степень обеспокоенности большевиков). Телеграмма завершалась следующим резюме: «… B случае успеха Унгерна высшие монгольские круги, изменив ориентацию, сформируют с помощью Унгерна правительство автономной Монголии… Мы будем поставлены перед фактом организации новой белогвардейской базы, открывающей фронт от Маньчжурии до Туркестана, отрезывающей нас от всего Востока»… В открытии нового «Восточного фронта» заключалась действительная и реальная опасность для большевиков: этот фронт не только преграждал путь коммунистической экспансии в глубь Азии, но и являлся постоянной угрозой самому существованию большевицкого режима.
Целый ряд современных исследователей, например воронежский историк Станислав Хатунцев, называют план Унгерна «панмонголистским». Насколько подобное утверждение соответствует действительности? Нам представляется, что планы создания Великой Монголии или Срединного государства никогда не являлись целью барона Унгерна. Любое государственное образование (как бы оно ни называлось), созданное на просторах Внутренней Азии, являлось для Унгерна лишь средством – оно обеспечивало более или менее надежный тыл для антибольшевицких формирований, опираясь на него, можно было приступать к решению задачи, которую Унгерн действительно считал самой главной, – освобождению России от коммунистического рабства и восстановлению в ней самодержавной власти. О том, что планы Унгерна носили именно такой характер, свидетельствует и В. И. Шайдицкий: «… Барон выступил на столицу Монголии Ургу с целью взять ее у китайцев с боем, для устройства в ней своей постоянной базы в действиях в Монголии и вылазках на русскую землю».
Насколько реализуемыми были подобные замыслы в действительности? Позволим себе еще раз обратить внимание на слова историка С. Хатунцева: «Следует заметить, что эти прожекты, кажущиеся сейчас несбыточными, в первой половине XX века абсолютно фантастическими не являлись: обстановка, сложившаяся во Внутренней Азии после крушения Китайской и Российской империй, благоприятствовала осуществлению самых невероятных геополитических комбинаций…» Напомним только, что десятилетие спустя, 1 марта 1932 года, как результат осуществления подобных «геополитических комбинаций» на территории Северо-Восточного Китая, где до этого безгранично хозяйничали красные, возникает монархическое государство Маньчжоу-Го во главе с Пу И – последним императором Китая из маньчжурской династии Цинь, восстановить власть которой стремился барон Унгерн (находившееся, правда, под протекторатом Японии), насчитывающее более 30 миллионов подданных и просуществовавшее до августа 1945 года. По замыслу японских кураторов «проекта Маньчжоу-Го», это государственное образование должно было осуществлять те самые задачи, о которых мы говорили выше, – быть форпостом борьбы с коммунистической угрозой с севера, а также тыловой базой для антикоммунистических организаций России и Китая.
Насколько сам барон Унгерн верил в осуществимость подобных геополитических планов? Представляется совершенно справедливым утверждение А. С. Кручинина, что, покидая в начале августа 1920 года Даурию, дивизия барона должна была решать конкретные оперативные задачи: борьба с красными партизанами, угрожавшими с запада и самому Унгерну, и основной семеновской группировке, а далее выйти во фланг красным частям, предпринявшим наступление на Читу. Будучи приверженцем партизанских методов ведения боевых действий, многие свои решения Роман Федорович принимал «по обстановке». Обстановка же, сложившаяся в результате осенне-зимней кампании 1920/21 годов, казалась барону весьма подходящей для открытия широкого антибольшевицкого фронта.
… В самом конце зимы 1919 года барон Унгерн оставил свою дивизию и отбыл в служебную командировку. Из командировки он вернулся и вновь вступил в командование дивизией лишь 29 сентября. Сведения о том, где находился в это время Унгерн, достаточно скудны. Однако известно, что летом 1919 года он прибыл в Пекин для ознакомления с деятельностью китайских монархических группировок. По отзывам современников, пребывание Унгерна в Пекине ознаменовалось двумя событиями: во-первых, грандиозным скандалом, учиненным им в старом русском посольстве и, во-вторых, женитьбой на китайской принцессе Цзи из рода Чжанкуй.
Что касается «грандиозного скандала» в старом российском посольстве, то об обстоятельствах и причинах оного практически ничего неизвестно. Однако вполне возможно предположить, что вызвало возмущение Унгерна. К сожалению, большинство работников русского дипломатического ведомства оказались совершенно чуждыми национальным интересам России. За несколько месяцев до прибытия Унгерна в Пекин Китай начал вводить свои войска на территорию Внешней Монголии, а вскоре уже вся страна была покрыта китайскими гарнизонами. В соответствии с Кяхтинским соглашением русское правительство являлось гарантом автономии Внешней Монголии. Но русский посланник в Пекине князь Н. В. Кудашев даже не выразил китайскому правительству никакого (хотя бы и формального) протеста, ценя более всего свои благополучие и безопасность[28]28
См. О двусмысленной политической позиции посла Российской империи в Пекине Н. В. Кудашева, граничившей с предательством интересов Белого движения, в работах: Ганин В А. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004. С. 116 и Фомин C. В. Убиты и… забыты. Алапаевские мученики. // «Русский вестник», № 2,2005. C. IV.
[Закрыть]. Весной 1918 года в аналогичном учреждении – русском посольстве в Японии – довелось побывать барону А. П. Будбергу, человеку гораздо более спокойному и уравновешенному, нежели Унгерн, по его собственному признанию, всегда стремившемуся к «правовому фарватеру линии поведения». Однако даже у такого человека, как барон Будберг, поведение русских посольских чиновников вызывало недоумение и возмущение. «Такие господа, как местный посол и многие наши представители за границей, знают, что такое революция, только по газетам да по розовым телеграммам Терещенко и К; они ничего не испытали, обеспечены на долгое время прекрасными окладами в золотых рублях и очень горды тем, что могут, сидя в полной безопасности, рядиться в ризы ярых и непримиримых ненавистников большевизма и гордо размахивать руками, – передавал А. П. Будберг свои впечатления от поведения российского посла в Японии Крупенского. – … Сидя по безопасным заграничным и далеким от России местам и кушая многотысячные оклады, брезгливо отворачивается от всего русского и пальцем не шевельнет, чтобы спасти погибающих на Руси. Трудно ожидать чего-либо более порядочного и человеческого от такого типичного представителя нашей дипломатии…» Судя по всему, «старый» российский посол в Пекине князь Кудашев мало чем отличался от Крупенского, и вполне можно представить, какие эмоции он должен был вызвать у такого поборника чистоты белого дела, как Р. Ф. Унгерн-Штернберг.
Гораздо больший интерес представляет для нас женитьба барона Унгерна. Тот же В. И. Шайдицкий охарактеризовал жену барона следующим образом: «Женат был (Унгерн. – А. Ж.) на китайской принцессе, европейски образованной (оба владели английским языком), из рода Чжанкуй, родственник которой – генерал – был командиром китайских войск западного участка Китайско-Восточной железной дороги от Забайкалья до Хингана, в силу чего дивизия всегда базировалась на Маньчжурию». Венчание прошло в православной церкви, «по греческому восточнохристианскому обряду». Новобрачная принцесса в крещении была наречена Еленой Павловной. Новоявленная баронесса Елена Павловна проживала на станции Маньчжурия, в то время как ее супруг, когда не был в походах против большевиков, постоянно находился на станции Даурия. Лишь изредка Унгерн навещал молодую жену. Летом 1920 года, перед своим выступлением из Даурии, барон снабдил Елену Павловну приличными денежными средствами (оформил на ее имя солидный банковский вклад) и отправил в Пекин, в «отчий дом». Говорят, что судьбой своей жены Унгерн в дальнейшем совершенно не интересовался[29]29
О последующей судьбе баронессы Е. П. Унгерн известно немного. Ее имя было внесено в фамильную биографию рода Унгернов – «Унгариа» (Рига, 1940). По сведениям, сообщаемым М. Г. Торновским, в 1940 г. проживала в Государстве Маньчжоу-Го, при дворе императора Пу-И в Чаньчуне, на вдовьем положении.
[Закрыть].
Почти все современники Унгерна, и историки, и беллетристы, сходятся в двух обстоятельствах: во-первых, брак барона Унгерна носил формальный характер, во-вторых, женитьба на принцессе Цзи «имела чисто политический характер и вытекала из назойливой идеи: «реставрации китайской монархии», и женитьбой он приближался к претендентам на китайский законный императорский трон» (М. Г. Торновский). Заметим, что претензии Унгерна на «китайский императорский трон» представляются нам совершенно несостоятельными. Да и сам барон сочетал в себе черты идеалиста и реального политика. Он прекрасно понимал, что прав претендовать на китайский трон, несмотря на женитьбу на принцессе, у него ничуть не больше, чем у гоголевского чиновника Поприщина на испанский престол. Принцесс в Китае было ничуть не меньше, чем высокородных княжеских невест в Российской империи, но как в России брак с княжной, так и в Китае брак с принцессой ничуть не приближал жениха к императорскому престолу. Для того чтобы понять истинные причины, толкнувшие Унгерна на брак с китайской принцессой, стоит прислушаться к мнению историка А. С. Кручинина.
Причиной брака стало желание Унгерна обрести себе тайного союзника (или даже агента) среди китайского военного командования. Как упоминал В. И. Шайдицкий, одним из родственников принцессы был генерал Чжан Куню (существуют также варианты написания «Чжан-куй-у», «Чжан-куй-ю»), являвшийся помощником китайского главнокомандующего в полосе отчуждения КВЖД. По своим политическим убеждениям Чжан Куню был известен как монархист, ярый противник большевизма. Он зарекомендовал себя как друг и доброжелатель атамана Г. М. Семенова еще весной – летом 1918 года. Неожиданная женитьба Унгерна, как предполагает А. С. Кручинин, была благовидным предлогом для легализации денежных выплат высокопоставленному родственнику баронессы. «И тогда неважным уже становится, был ли Чжан Куй-у (так у А. С. Кручинина. – А. Ж.) действительно маньчжуром, близким по крови императорскому дому, и исповедовал ли он монархические убеждения или испытывал страх перед коммунистической угрозой: сопоставление даже изложенных весьма немногочисленных фактов позволяет увидеть здесь обыкновенную «вербовку», – пишет А. Кручинин. Действительно, помощь нового родственника понадобится генералу Унгерну весьма скоро – когда он со своей дивизией выступит в Монголию.
Монголия к этому времени оказалась фактически оккупированной китайскими войсками. Автономия Монголии была упразднена, монголы-министры арестованы, а сам Богдо-гэгэн был фактически заключен под домашний арест в своем «Зеленом» дворце, окруженном китайскими солдатами. В Ургу был торжественно принесен портрет президента Китайской республики. Это событие символизировало возвращение старых порядков, существовавших до установления автономии в 1911 году. Особенно ударило по всем без исключения монголам восстановление аннулированных в 1911 году долгов всевозможным китайским фирмам. К долгу были насчитаны проценты, наросшие с 1911 года, и в результате все население Внешней Монголии попало в жесточайшую долговую кабалу к китайцам, от которой монголы успели поотвыкнуть за время русского протектората.
В опубликованных еще в 1911 году «Очерках русско-монгольской торговли» авторы, Боголепов и Соболев, весьма прозорливо предсказывали последствия усиления китайского национализма: «Пробуждение национализма у китайцев обещает монголам усиление беспощадной колонизации ее (т. е. Монголии. – А. Ж.) китайцами. Этот национализм сотрет Монголию с лица земли и превратит ее в страну сельских хозяев и овцеводов-китайцев… Но этот же национализм обращен и против белых, приняв резко выраженную форму антиевропейского движения, которое грозит и русским в Монголии». Спустя без малого десять лет предсказания двух русских авторов начали полностью сбываться.
Большинство китайских солдат, оказавшихся в Монголии, принадлежали армии Южного Китая и были настроены весьма революционно. Не случайно, что китайская военная администрация оказалась также дружественно расположенной по отношению к большевикам. Из России в Ургу прибывали комиссары советского правительства, образовавшие в городе местное большевицкое самоуправление. «Во главе городской думы стоял некто Чайванов, бурят, иркутский адвокат и большевик. Городская дума состояла также из большевиков, и таковые главенствовали всюду. В местном кооперативе председательствовал священник Феодор Парняков, тоже большевик, – вспоминал один из русских жителей Урги. – … Большевики в Урге подняли голову… Начались притеснения инакомыслящих… Всему этому положил конец барон Унгерн-Штернберг, генерал-лейтенант, начальник Азиатской конной дивизии армии атамана Семенова». Участники Белого движения, оказавшиеся в Монголии в силу тех или иных причин, арестовывались китайцами и заключались в ургинскую тюрьму, где содержались поистине в нечеловеческих условиях. Все попытки отдельных членов русской колонии оказать помощь питанием и теплой одеждой заключенным под стражу соотечественникам пресекались красными «товарищами», находившими полное понимание у китайской администрации.
Тем временем ситуация в Забайкалье становилась для белой армии критической. Войска якобы независимой от Советской России буферной Дальневосточной республики (ДВР) под видом «добровольцев» пополнялись регулярными частями Красной армии. Под давлением превосходящих сил красных немногочисленные и деморализованные внутренними склоками среди генералов белые войска откатывались к Чите. Усилилось дезертирство – кто-то переходил к красным, кто-то скрывался в тайге, дожидаясь, пока прекратится сама затянувшаяся на шесть лет война, кто-то предусмотрительно направлялся за рубеж, полагая, что в России все потеряно и, пока не поздно, надо налаживать жизнь в эмиграции.
Когда тыловые учреждения отступающей белой армии приблизились к станции Даурия, Унгерн принял решение. «Нужно уходить, пока еще не разложилось мое войско», – заявил барон, памятуя уроки страшных весны – осени 1917 года. Общий подсчет сил дивизии Унгерна, вышедшей из Даурии после 15 августа 1920 года, давал следующие цифры: 1045 всадников, 6 артиллерийских орудий и 20 пулеметов систем «Кольт» и «Максим». «О своих дальнейших планах барон никого не осведомил – таково уж было свойство его характера», – вспоминал H.H. Князев обстоятельства выхода из Даурии.
Весьма живую картину выступления дивизии генерала Унгерна в «монгольский поход» дает в своих воспоминаниях генерал-лейтенант В. А. Кислицын[30]30
В. А. Кислицын в эмиграции проживал в Харбине. Возглавлял движение монархистов-легитимистов (т. е. сторонников великих князей Кирилла Владимировича и Владимира Кирилловича) на Дальнем Востоке. Скончался в 1944 г.
[Закрыть]: «С бароном Унгерном я близко познакомился еще тогда, когда жил на ст. Борзя. Он часто приезжал ко мне в своем поезде, мы много и дружески беседовали. Это был честный и бескорыстный человек, неописуемой храбрости офицер и очень интересный собеседник. В Даурии я сдружился с ним еще больше… На службе это был строгий и требовательный начальник. Особенно строгим он был по отношению к офицерам. Рыцарь и идеалист по натуре, он требовал рыцарства и от окружающих офицеров. Всякая бесчестность, трусость и корыстолюбие вызывали в нем взрыв негодования, и тогда он был страшен в своем гневе для провинившихся… Все время барон Унгерн звал меня идти вместе с ним в задуманный поход в Монголию. Он предлагал мне командовать над нашими соединенными силами и говорил: «Ты будешь командиром корпуса. Я подчинюсь тебе и буду слушать тебя и все исполнять. Иди только с нами». Я не верил в успех задуманной операции да, кроме того, и не считал возможным отрываться от армии атамана Семенова… По этим соображениям я не согласился с предложением барона Унгерна.