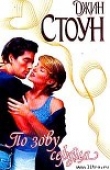Текст книги "Я уже не боюсь (СИ)"
Автор книги: Андрей Рокот
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Пойдём, – говорит Юля, – и тянет меня за руку к лесу. Жмен кивает, и хлопает меня по плечу.
– Держись, чувак.
– Да, чувак… Держись… – вторит ему Китаец.
Пропадает желание быть в центре внимания, и глушить всех Великой Новостью. Кажется, чуваки просто не знают, как себя вести, и вообще как относиться к тому, что у меня случилось. Я их понимаю. Я и сам пока не знаю, и на всякий случай не отношусь никак.
– Я тебе звонила утром, но никто трубку не взял… – говорит Юля – тихо, будто опасаясь потревожить во мне громкими словами что-то оголённое и запредельно чувствительное.
– Я… не мог… Не мог ответить… – бормочу я в ответ, потом как дурак улыбаюсь, снова хмурюсь… В голове какое-то месиво, калейдоскоп из обрывков чувств и мыслей, от бешеного вращения которых, кажется, даже подкатывает тошнота…
Голоса и плеск воды за нашими спинами стихают, тонут в звуках леса. Вокруг всё реже попадаются компании, выбравшиеся на пикники, которых и так немного в будний день. Запах костров постепенно растворяется в ароматах, трав, листвы, и жирной чёрной земли. А ещё табака – Юля достаёт тонкую сигарету, и закуривает. У дыма вишнёвый привкус.
Тропа сужается, Юля идёт впереди; я смотрю на её загорелую спину, вижу в мокрых волосах запутавшийся зелёный листик. Наконец, мы приходим на крохотную полянку, где растёт огромный раскидистый дуб, толстый, как баобаб. Здесь совсем глухо – мало кто забредает в такую даль. На огромных ветвях блестит паутина; среди деревьев тихо шуршат, шелестят, и хрустят невидимые лесные обитатели.
Юля прислоняется к дубу спиной, втягивает дым, бросает окурок в траву. Потом притягивает меня к себе, целует, выдыхает дым мне в рот. Вишнёвый привкус. Её привкус. Юлин язык касается моего.
Я прижимаюсь к ней всем телом, ощущая кожей её тепло, и возбуждение накрывает с головой, вышибая из мозгов все мысли.
Тонкие Юлины пальцы обхватывают меня внизу, и у меня едва в глазах не темнеет. Я неловко расплетаю мокрые завязки купальника, и он падает вниз. Загнанным в самый дальний и тёмный угол тлеющим угольком рассудка думаю о том, что нас кто-то может увидеть. Думал и забываю. Наплевать.
Когда я робко начинаю клониться к траве, думая о том что «сейчас это случится» (хотя «думал» слишком громкое слово. Разве что в том же смысле, в каком думают какие-нибудь рептилии), случится со мной впервые, и погружаясь в дурманящую трясину страха и предвкушения, Юля осторожно меня останавливает.
– Не сейчас, – шепчет она мне в ухо. – Я ещё не готова.
И, должно быть, увидев в моих глазах почти физическую боль, улыбается и добавляет:
– Но мы можем сделать кое-что ещё.
«Кое-что ещё» оказалось очень даже ничего.
Когда мы выходим из леса на асфальт, в метель тополиного пуха, я смотрю на солнце, и жмурюсь, чувствуя, как оно проникает в каждую клетку совершенно опустошённого, лёгкого, невесомого тела, и разогревает сладкую сонную пустоту в мыслях.
Жмен и Китаец, оставившие без комментариев наше краткое исчезновение (невероятная степень тактичности для этих двух кретинов), прощаются, и двигают к своему дому на другой стороне проспекта. Жмен хлопает своими дурацкими широкими рэперскими шортами, Китаец позвякивает горой нефорских побрякушек. Потом Жмен нагибается к огромной горе похожего на снег пуха у бровки. Чиркает зажигалкой, пух пожирает огненная волна.
Мы договорились пообедать, и выбраться снова. Как всегда.
Юля достаёт из рюкзака бейсболку, одевает козырьком назад. Потом следом вытаскивает плеер, даёт мне один наушник, клацает кнопкой, и говорит:
– Новый альбом RHCP. Брат вчера кассету подогнал, привёз из Франции.
Наушник дешёвый, приходится надавить на него, чтобы сквозь рёв машин на проспекте слышать музыку. Начинается задорный гитарный рифф, и я думаю, что папе это понравится – он постоянно слушает кассету с их альбомом «One Hot Minute»…
И вот тогда-то это происходит. По настоящему, во всей красе.
Всё меняется раз и навсегда.
Я понимаю, что папе не понравится. Понравилось бы, но уже не понравится, как не понравится и все остальные новые альбомы, новые группы, и вообще всё новее вчерашней ночи. Мы не будем больше сидеть на кухне, и поговорить с ним о том, насколько этот альбом крутой, никакой или хреновый. Мы вообще больше не поговорим.
Никогда. Нигде. Ни о чём.
Потому что его больше нет.
Я замираю, и чувствую себя так, будто сердце парализовало, и оно никогда больше не забьётся. Тополиные «снежинки» взлетают в воздух за проносящимися машинами. У гастронома, около ларьков, на остановке и возле бочки с квасом роились люди, и я думаю, как они вообще могут ходить, дышать, жить, если.. если…
Пытаюсь думать об исторических датах, но не могу вспомнить ни одной.
Юля замечает. Выключает музыку, помогает мне сесть на бровку, прижимает к себе, и я смотрю на мир сквозь завесу её волос, уже сухих от такой жары, но снова намокающих от моих слёз. Я не могу сказать ни слова, но чувствую бесконечную благодарность. За то, что Юля со мной. За то, что я не один сейчас, когда кажется, что гул машин, голоса, шум города вокруг – это звуки, с которыми разваливается, рассыпается, рушится в темноту мир.
Я пытаюсь сказать всё это Юле. Сбивчиво что-то бормочу. Слова бестолково выпадают изо рта комками, из которых никак не лепится что-то связное.
Юля кладёт палец на мои губы, и я умолкаю.
– Мой папа тоже умер. Давно, – говорит она спокойно, буднично; в её глазах отражаются разноцветными мазками летящие по асфальту автомобили.
Я вдруг понимаю, что она сказала. Осознание того, что с ней произошло то же самое (возможно, рядом с ней не было никого, чтобы это объяснить), что это вообще происходит не только со мной, что я не какой-то уникальный и особенный, похоже на ледяную волну посреди жаркой пустыни. Я едва не задыхаюсь от облегчения – потому что теперь, прожив по-настоящему первые мгновения без отца, уже не хочу быть ни уникальным, ни особенным. Хочу быть, как все. Как вчера.
Юля снова целует меня. Я закрываю глаза, и пытаюсь запомнить, спрятать где-то в памяти навсегда вкус её губ.
– Ты… Ты мне очень нравишься, – говорит она, отведя взгляд, и я понимаю, что говорить ей трудно. – Но я… я была с тобой там, в лесу, не только поэтому. Не сразу это поняла, но… Знаешь, мне кажется, что на смерть лучше всего отвечать жизнью. Чем-то таким… Настоящим, короче. От чего кровь бурлит.
Юля и раньше часто говорила о смерти. Не то чтобы она была какой-то готессой, или чем-то в этом роде. Просто… Отчего-то эта тема её притягивала.
И совсем скоро я узнал почему.
Ветер вырывает из уст священника его бормотание, и несёт обрывки невнятных слов над полем, покрытым свежими бетонными квадратами новых могил, к виднеющимся вдали, дрожащим в раскалённом мареве многоэтажкам. Я не понимаю, зачем они вообще притащили сюда этого попа – отец был ярым атеистом. Должно быть, бабушка настояла.
Тело в гробу теперь не похоже ни на Чужого, ни на отца. Скорее на восковую фигуру из музея на Подоле, куда нас как-то водили с экскурсией. Все эти Бритни Спирс, Горбачёвы и Майклы Джексоны были вроде как похожи на свои прототипы, но только на первый взгляд. Присмотришься – и видишь изъяны. Вот и я смотрю на это лицо, знакомое и чужое одновременно, на этого жуткого румяного клоуна, и понимаю, что отца здесь нет. Чуть легче от того, что «здесь», и рвёт изнутри от того, что «нет».
Я отхожу от толпы, прохожу мимо мамы, которая всё так же похожа на собственный призрак – бесплотный, бестелесный чёрный фантом, парящий над самой землёй, держась за руку бабушки, чтобы горячий ветер не унёс в поле. Она почти не разговаривает, и редко выходит из спальни. Не ест. Вчера попыталась, и её вырвало. Сегодня утром сумела проглотить пару ложек бульона. Ещё она складывает постиранные отцовские носки в его ящик, перевешивает рубашки в шкафу, бросает его джинсы и брюки на спинки стульев – так, как он делал, когда был жив. Я смотрю ей в глаза, и не вижу ничего. Даже проблеска узнавания.
Отойдя к рядам старых, заросших высокой травой могил за ржавыми оградами, я прикуриваю сигарету. Уже выкурил столько, что во рту металлический привкус, и от мысли о дыме накатывают волны тошноты, но хочется ещё. Может, чтобы тошнило сильнее – и вырвало, наконец, всей накопившейся мерзостью.
– Ты как, держишься? – слышу голос за спиной. Поворачиваюсь. Дядя Гена, старый папин друг. Живёт в той же сталинке, где Жмен с Китайцем. У него короткие седые волосы, блестящие, будто обрезки стальной проволоки, и жёсткое лицо, словно вырубленное из камня. Глаза окружены паутиной морщин, но взгляд живой и цепкий. Только цвет лица стал какой-то серый… Как у старой, лежалой бумаги.
Я не отвечаю, и он молча хлопает меня по плечу, вытаскивая из кармана пиджака пачку «Беломора».
Дядя Гена работает то ли в СБУ, то ли в СВР. В общем, в каком-то бывшем КГБ. Раньше работал в небывшем – был работником «первого отдела», который на папином заводе следил за секретностью. Где-то там, в недрах огромных бетонных заводских коробок, где клепали всякие танки-пушки-ракеты, они и сдружились. Он иногда приходил к нам, когда папа превратился в Чужого, и долго с ним говорил, пытался его вразумить, пробиться сквозь спиртовой занавес, но…
Поднеся огонёк спички к захрустевшей «беломорине», дядя Гена втягивает дым, выпускает его двумя струйками из ноздрей, и тихо говорит:
– Ты это… приглядывай за мамой, хорошо? Ей тяжело сейчас…
– А мне легко? – спрашиваю я, и вгрызаюсь в измочаленный фильтр сигареты, как зверь в добычу. В глазах вдруг снова проступает предательская муть. Ненавижу слёзы.
– Ты мужчина. Так что жуй говно, проси добавки и не ной, – отвечает дядя Гена. Ответ такой неожиданный, что у слёзы впитываются куда-то обратно в голову, и он растягивает жёсткие штрихи своих губ в улыбке.
– Вот видишь, уже ухмыляешься. Пойми – все теряют близких, рано или поздно. Обычно рано. Вернее, даже всегда рано. Но чем ты моложе, тем легче это пережить, пусть тебе сейчас так и не кажется. У молодых не только кости после переломов быстрее заживают. Сечёшь о чём я?
Я киваю, и прикуриваю новую сигарету от предыдущей. Окурок тру о прутья ограды чьей-то могилы, и прячу в карман: не хочется здесь мусорить.
– Вижу, что сечёшь. Так что уважай мать, и помоги ей через эту хрень прорваться. С деньгами помогу если что.
Дядя Гена тоже докурил, оставив пустую папиросную картонку дымиться в руке.
Ко мне подходит Юля. Берт меня за руку. Она в чёрном платье без рукавов, обтянувшем её тело, как дёготь. Гроб начинают опускать вниз. Мама плачет. А я чувствую себя худшим из худших негодяев, каких носила земля: мысли целиком и полностью занимают изгибы чёрного Юлиного платья.
Мы сидим, свесив ноги, на разбитом парапете крыши кинотеатра. Он заброшен уже лет пять – в кассах стрип-бар «Рокки», и магазин румынской мебели, а в залах, где все мы когда-то, разинув рты, наблюдали за подвигами Шварцнеггера, теперь пауки и крысы смотрят своё любимое бесконечное кино – кромешный мрак. Зато можно залазить на крышу, и сидеть рядом с огромными ржавыми буквами «ЗАГРЕБ», глядя на текущую внизу реку света автомобильных фар, и висящие над ней на другом берегу утёсы многоэтажек, сияющих огнями окон.
Нас то ли восемь, то ли девять – Олежка Соплежуй, брат Китайца, уже мог погнать домой, а может и лазит где-то внизу, в будке киномеханика, куда можно забраться с крыши.
Рядом со мной и Юлей, под покосившейся буквой «А», стоит кассетник Долгопрудного, из которого шарашит «Эминем». Хозяин магнитофона и Алла Вронская из девятого «В» танцуют, вытягивая руки к чёрному небу; их кроссовки прилипают к горячему после дневной жары рубероиду. Алла заливисто смеётся.
Возле буквы «Г» Китаец, как обычно, страдает хернёй – отрывает от заржавленной буквы древние неоновые трубки. Чуть поодаль тусят Миша Кадык, Шкварка, девчонка Шкварки из 243-й школы, с синими волосами, и какая-то её подружка. Они – просто тёмные силуэты, с сигаретными угольками в тёмных руках, и хрустящим битым стеклом под тёмными подошвами.
Мы с Юлей молчим, и смотрим на гудящий проспект. Мы много говорим, и это молчание не висит между нами незримой стеной, как порой случается – нет, мы молчим, как и говорим, об одном и том же.
– Хочешь, поедем на дачу ко мне? – говорит Юля, сплетая пальцы с моими, и болтая ногами в воздухе. Я смотрю в её глаза, и мне кажется, что в них невероятно, несоизмеримо больше, чем в моих – как будто там бескрайние просторы новых миров, а в моих – только пыльная захламлённая комнатушка.
Любой, кто был влюблён, поймёт.
– Да. Да, конечно, давай, – отвечаю я. Она улыбается, проводит языком по зубам, потом надувает, и хлопает пузырь из жвачки. Делает глоток ром-колы, наклоняется ко мне, и целует.
Кажется, я сорвался с парапета, но лечу не вниз, на разбитый асфальт старой стоянки, а вверх. К звёздам.
– Да, полюбасу едем! – плюхается рядом Долгопрудный. Я чувствую мгновенный укол неприязни (вспоминаю, как Юля когда-то на него поглядывала), но тут же вспоминаю, что у него дача рядом с Юлиной, и никто нам не помешает уединиться.
И заняться кое-чем ещё.
Юлина улыбка вдруг на миг блекнет, сменяется гримасой боли; бутылка с ром-колой выпадает из ладони, и летит в темноту; звон стекла рикошетит от старого кафеля стен.
Думаю, Юля могла бы упасть вниз, если бы я не схватил её за руку. Прижав ладонь к груди, она судорожно втягивает воздух в лёгкие.
– Эй! Ты чего? Всё окей? – спрашивает Долгопрудный, перестав ухмыляться.
– Юль, ты как? Что случилось? – шепчу я. На мгновение меня охватывает паника: я представляю себя, как трудно будет спустить Юлю вниз, если…
– Всё… хорошо… – отвечает Юля, сжав мою ладонь так сильно, что белеют костяшки пальцев. – Я… Просто что-то на секунду прихватило в груди…
Она смотрит на меня, пытается улыбнуться, но кожа под глазами блестит от слёз.
– Может, нужно вызвать… – начал я, но Юля качает головой.
– Нет.
Взяв с парапета пачку, она едва не рассыпает сигареты, прикуривает одну дрожащими руками, и встаёт, перебросив ноги на крышу. Выдохнув дым, она снова улыбается – на этот раз нормально.
Почти.
Бросив взгляд на притихших друзей, она кладёт ладони мне на плечи.
– Ничего страшного, у меня бывало уже такое. Давай пойдём, а? Проводишь меня домой.
По пути к её дому я ещё несколько раз пытаюсь разузнать, что это за «бывало уже такое», но Юля говорить на эту тему не хочет, и парой поцелуев отбивает желание и у меня. Остаток пути мы говорим о всякой ерунде – как её кошка Марфа не любит рыбу, как от Аллы Игоревны, нашей бывшей классухи, ушёл муж, и как завтра в десять встретимся на остановке, чтоб ехать на дачу. Долго обнимаемся на лестничной клетке. За окном – холодный свет фонарей во дворе. На облупившейся зелёной краске стены – надписи, красным «COME INTO MY LIFE», и чёрным, корявенько, «РЭП – КАЛ».
По пути вниз – лифт в Юлином парадном не работает – я читаю и другие, покрывающие стены снизу доверху бесконечной вязью. За эти летние дни – странные, жуткие и прекрасные – я почти выучил их все наизусть, как книгу. Так же, как в своём подъезде. Об отце вообще не думаю.
Представляю, как буду вечно провожать Юлю, и будут вечные поцелуи на лестничной клетке, потому что это лето будет вечным.
Эх, мечты… мечты…
Продолжение на https://lit-era.com/reader/ya-uzhe-ne-boyus-b814?c=4178