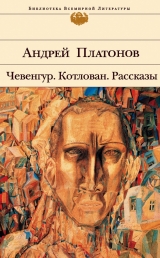
Текст книги "Том 2. Чевенгур. Котлован"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
По бульварам шли толпы, созерцая новую для них самих жизнь. Вчера многие ели мясо и ощущали непривычный напор сил. Было воскресенье – день почти душный: тепло летнего неба охлаждал лишь бредущий ветер из дальних полей.
Иногда около зданий сидели нищие и сознательно ругали Советскую власть, хотя им прохожие подавали деньги как признакам облегчения жизни: за последние четыре года в городе пропали нищие и голуби.
Дванов пересекал сквер, смущаясь массы людей, – он уже привык к степной воздушной свободе. Ровно с ним шла некоторое время девушка, похожая на Соню, – такое же слабое милое лицо, чуть жмурящееся от впечатлений. Но глаза этой девушки были более темными, чем у Сони, и замедленными, точно имели нерешенную заботу, но они глядели полуприкрытыми и скрывали свою тоску. «При социализме Соня станет уже Софьей Александровной, – подумал Дванов. – Время пройдет».
Захар Павлович сидел в сенях и чистил ваксой детские развалившиеся башмаки Александра, чтоб они были дольше целы для памяти. Он обнял Сашу и заплакал, его любовь к приемному сыну все время увеличивалась. И Дванов, держа за тело Захара Павловича, думал: что нам делать в будущем коммунизме с отцами и матерями?
Вечером Дванов пошел к Шумилину; рядом с ним многие шагали к возлюбленным. Люди начали лучше питаться и почувствовали в себе душу. Звезды же не всех прельщали – жителям надоели большие идеи и бесконечные пространства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена, а идеалы охраняет тифозная вошь.
Шумилин ел обед и посадил есть Дванова.
Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему: часы всегда трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал – он чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов.
– Пище вариться некогда, – сказал Шумилин. – Пора уж на партсобрание идти… Ты пойдешь иль умней всех стал?
Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал как мог, что он делал в губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется.
– Слышал, слышал, – проговорил Шумилин. – Тебя послали, чудака, поглядеть просто – как и что. А то я все в документы смотрю – ни черта не видно, – у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить…
Дванов покраснел от обиды и совести.
– Они не огарки, товарищ Шумилин… Они еще три революции сделают без слова, если нужно…
Шумилин не стал разговаривать; значит, его бумаги были вернее людей. И так они молча шли, стесняясь друг друга.
Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу Фуфаеву, что здесь две атмосферы давления.
– Если б всю партию собрать в эту залу, – рассуждал Гопнер, – смело можно электрическую станцию пустить – на одном партийном дыхании, будь я проклят!
Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился оттяжкой начала собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было говорить дома и он радовался многолюдству.
– Ты все ходишь и думаешь, – смирно и тонко сказал Фуфаев и вздохнул своею грудью, как костяным бугром, отчего у него все рубашки давно полопались и он носил их заштопанными. – А уж пора бы нам всем молча и широко трудиться.
Гопнер удивлялся, за что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени. Сам Фуфаев никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила.
Не знала она малого – за что даются пайки и ордена. Но муж ей сказал: «За службу, Поля, – так и быть должно». Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в казенных домах.
Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи имел мирные, воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. Несмотря на свои забытые военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал губутилем и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать; это оказалось ему на руку: последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы, заходя на задние дворы и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь хлам для государственной утилизации. С Гопнером он тоже сошелся на широкой почве утилизации. Фуфаев всех спрашивал одинаково серьезно:
– Товарищ, наше государство не так богато, нет ли у тебя чего-нибудь негодного – для утиля?
– Чего например? – спрашивал любой товарищ. Фуфаев не затруднялся:
– Чего-нибудь съеденного, сырого, либо мочалочки какой-нибудь, либо еще какого-нибудь… не наглядного продукта…
– У тебя, Фуфаев, жара в голове! – озадачивался товарищ. – Какая теперь тебе мочалочка? Я сам в бане хворостиной парюсь…
Но изредка Фуфаеву все же подавались деловые советы, например – утилизировать дореволюционные архивы на отопление детских приютов, систематично выкашивать бурьян на глухих улицах, чтобы затем, на готовых кормах, завести обширное козье молочное хозяйство – для снабжения дешевым молоком инвалидов гражданской войны и неимущих.
По ночам Фуфаев видел во сне разнообразные утильматериалы, в форме отвлеченных массивов безымянного старья. Просыпался он в ужасе от своей ответственной службы, так как был честным человеком. Гопнер однажды предложил ему не беспокоиться сверх сил, лучше, сказал он, приказать циркулярно жителям старого мира сторожить, не отлучаясь, свой хлам – на случай, если он понадобится революции; но он не понадобится – новый мир будет строиться из вечного материала, который никогда не придет в бросовое состояние.
После этого Фуфаев несколько успокоился и его реже мучили массивные сновидения.
Шумилин знал и Фуфаева и Гопнера, а Дванов одного Гопнера.
– Здравствуйте, Федор Федорович, – сказал Дванов Гопнеру. – Как вы поживаете?
– Регулярно, – ответил Гопнер. – Только хлеб свободно продают, будь он проклят!
Шумилин говорил с Фуфаевым. Того губком собирался назначить председателем комиссии помощи больраненым красноармейцам. Фуфаев соглашался, уже привыкнув после фронта к глухим должностям. Многие командиры тоже служили по собесам, профсоюзам, страхкассам и прочим учреждениям, не имевшим тяжелого веса в судьбе революции; когда такие учреждения упрекали, что они влекутся на хвосте революции, тогда учреждения переходили с хвоста и садились на шею революции. Военные люди почему-то уважали любую службу и, во имя железной дисциплины, всегда были готовы заведовать хоть красным уголком, имея в прошлом командование дивизией.
Услышав недовольный голос Гопнера, Шумилин обернулся к нему:
– Тебе что, паек был велик – вольная торговля тебе не нравится?
– Нипочем не нравится, – сразу и серьезно заявил Гопнер. – А ты думаешь, пища с революцией сживется? Да сроду нет – вот будь я проклят!
– А какая же свобода у голодного? – с умственным презрением улыбнулся Шумилин.
Гопнер повысил свой воодушевленный тон:
– А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество – никакого человека не появится! Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе… Сроду-то было когда, чтоб жирные люди свободными жили?
– А ты читал историю? – усомнился Шумилин.
– А я догадываюсь! – подморгнул Гопнер.
– Что ж ты догадался?
– А то, что хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его. Раз не можешь сделать самого лучшего для человека – дай ему хоть хлеба. А ведь мы хотели самое лучшее дать…
В зале зазвонили о начале собрания.
– Пойдем порассуждаем маленько, – сказал Гопнер Дванову. – Мы теперь с тобой ведь не объекты, а субъекты, будь они прокляты: говорю и сам своего почета не понимаю!
В повестке дня стоял единственный вопрос – новая экономическая политика. Гопнер сразу задумался над ним – он не любил политики и экономии, считая, что расчет удобен в машине, а в жизни живут одни разности и единственные числа.
Секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, плохо признавал собрания – он видел в них формальность, потому что рабочий человек все равно не успевает думать с быстротой речи: мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью. Поэтому секретарь обыкновенно сокращал ораторов:
– Сжимайся, сжимайся, товарищ, на твою болтовню продотряды хлеб добывают – ты помни это!
А иногда просто обращался к собранию:
– Товарищи, понял ли кто-нибудь и что-нибудь? Я ничего не понял. Нам важно знать, – уже сердито отчеканивал секретарь, – что нам делать по выходе отсюда из дверей. А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях. А я говорю – когда революция, тогда нет объективных условий…
– Правильно! – покрывало собрание. Все равно, если б было и неправильно, то людей находилось так много, что они устроили бы по-своему.
Нынче секретарь губкома сидел с печальным лицом; он был уже пожилым человеком и втайне хотел, чтобы его послали заведовать какой-нибудь избой-читальней, где бы он мог строить социализм ручным способом и смог бы довести его до видимости всем. Информации, отчеты, сводки и циркуляры начинали разрушать здоровье секретаря; беря их на дом, он не приносил их обратно, а управляющему делами потом говорил: «Товарищ Молельников, знаешь, их сынишка сжег в лежанке, когда я спал. Проснулся, а в печке пепел. Давай попробуем копий не посылать – посмотрим, будет контрреволюция или нет?»
– Давай, – соглашался Молельников. – Бумагой, ясная вещь, ничего не сделаешь – там одни понятия написаны; ими губернию держать – все равно как за хвост кобылу.
Молельников был из мужиков и так скучал от своих занятий в губкоме, что завел на его дворе огородные грядки и выходил на них во время службы, чтобы потрудиться.
Сегодня секретарь губкома был отчасти доволен: новую экономическую политику он представлял как революцию, пущенную вперед самотеком – за счет желания самого пролетариата. А раньше революция шла на тяговых усилиях аппаратов и учреждений, точно госаппарат на самом деле есть машина для постройки социализма. С этого секретарь и начал свою речь.
Дванов сидел между Гопнером и Фуфаевым, а впереди него непрерывно бормотал незнакомый человек, думая что-то в своем закрытом уме и не удерживаясь от слов. Кто учился думать при революции, тот всегда говорил вслух, и на него не жаловались.
Партийные люди не походили друг на друга – в каждом лице было что-то самодельное, словно человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами. Из тысячи можно отличить такое лицо – откровенное, омраченное постоянным напряжением и немного недоверчивое. Белые в свое время безошибочно угадывали таких особенных самодельных людей и уничтожали их с тем болезненным неистовством, с каким нормальные дети бьют уродов и животных: с испугом и сладострастным наслаждением.
Газ дыханий уже образовал под потолком зала как бы мутное местное небо. Там горел матовый электрический свет, чуть пульсируя в своей силе, – вероятно, на электрической станции не было цельного приводного ремня на динамо, и старый, изношенный ремень бил сшивкой по шкиву, меняя в динамо напряжение. Это было понятно для половины присутствующих. Чем дальше шла революция, тем все более усталые машины и изделия оказывали ей сопротивление – они уже изработали все свои сроки и держались на одном подстегивающем мастерстве слесарей и машинистов.
Неизвестный Дванову партиец внятно бормотал впереди, наклонив голову и не слушая оратора.
Гопнер глядел отвлеченно вдаль, унесенный потоком удвоенной силы – речью оратора и своим спешащим сознанием. Дванов испытывал болезненное неудобство, когда не мог близко вообразить человека и хотя бы кратко пожить его жизнью. Он с беспокойством присмотрелся к Гопнеру, пожилому и сухожильному человеку, почти целиком съеденному сорокалетней работой; его нос, скулья и ушные мочки так туго обтянулись кожей, что человека, смотревшего на Гопнера, забирал нервный зуд. Когда Гопнер раздевался в бане, он, наверное, походил на мальчика, но на самом деле Гопнер был стоек, силен и терпелив, как редкий. Долгая работа жадно съедала, и съела, тело Гопнера – осталось то, что и в могиле долго лежит: кость да волос; жизнь его, утрачивая всякие вожделения, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание, которое засветило глаза Гопнера позднею страстью голого ума.
Дванов вспомнил про свои прежние встречи с ним. Когда-то они много беседовали о шлюзовании реки Польного Айдара, на которой стоял их город, и курили махорку из кисета Гопнера; говорили они не столько ради общественного блага, сколько от своего избыточного воодушевления, не принимавшегося людьми в свою пользу.
Оратор говорил сейчас мелкими простыми словами, в каждом звуке которых было движение смысла; в речи говорившего было невидимое уважение к человеку и боязнь его встречного разума, отчего слушателю казалось, что он тоже умный.
Один партиец, соседний Дванову, равнодушно сообщил в залу:
– Обтирочных концов нету – лопухи заготовляем!..
Электричество припогасло до красного огня – это по инерции еще вращалась динамо-машина на станции. Все люди поглядели вверх. Электричество тихо потухло.
– Вот тебе раз! – сказал кто-то во мраке.
В тишине было слышно, как громко ехала телега по мостовой и плакал ребенок в далекой комнате сторожа.
Фуфаев спросил у Дванова, что такое товарообмен с крестьянами в пределах местного оборота – о чем докладывал секретарь. Но Дванов не знал. Гопнер тоже не знал: подожди, сказал он Фуфаеву, если ремень сошьют на станции, тогда докладчик тебе скажет.
Электричество загорелось: на электрической станции привыкли устранять неполадки почти на ходу машин.
– Свободная торговля для Советской власти, – продолжал докладчик, – все равно что подножный корм, которым залепится наша разруха хоть на самых срамных местах…
– Понял? – тихо спросил Фуфаев у Гопнера. – Надо буржуазию в местный оборот взять – она тоже утильный предмет…
– Во-во! – расслышал и Гопнер, почерневший от скрытой слабости.
Оратор приостановился:
– Ты что там, Гопнер, зверем гудишь? Ты не спеши соглашаться – для меня самого не все ясно. Я вас не убеждаю, а советуюсь с вами – я не самый умный…
– Ты – такой же! – громко, но доброжелательно определил Гопнер. – Дурей нас будешь – другого поставим, будь мы прокляты!
Собрание удовлетворенно засмеялось. В те времена не было определенного кадра знаменитых людей, зато каждый чувствовал свое собственное имя и значение.
– А ты слова тяни на нитку и на нет своди, – еще раз посоветовал оратору Гопнер, не поднимаясь с места.
С потолка капала грязь. Из какой-то маленькой разрухи вверху с чердака проходила мутная вода. Фуфаев думал, что напрасно умер его сын от тифа – напрасно заградительные отряды отгораживали города от хлеба и разводили сытую вошь.
Вдруг Гопнер позеленел, сжал сухие обросшие губы и встал со стула.
– Мне дурно, Саш! – сказал он Дванову и пошел с рукой у рта.
Дванов вышел за ним. Наружи Гопнер остановился и оперся головой о холодную кирпичную стену.
– Ты ступай дальше, Саш, – говорил Гопнер, стыдясь чего-то. – Я сейчас обойдусь.
Дванов стоял. Гопнера вырвало непереваренной черной пищей, но очень немного.
Гопнер вытер реденькие усы красным платком.
– Сколько лет натощак жил – ничего не было, – смущался Гопнер. – А сегодня три лепешки подряд съел – и отвык…
Они сели на порог дома. Из зала было распахнуто для воздуха окно, и все слова слышались оттуда. Лишь ночь ничего не произносила, она бережно несла свои цветущие звезды над пустыми и темными местами земли. Против горсовета находилась конюшня пожарной команды, а каланча сгорела два года назад. Дежурный пожарный ходил теперь по крыше горсовета и наблюдал оттуда город. Ему там было скучно – он пел песни и громыхал по железу сапогами. Дванов и Гопнер слышали затем, как пожарный затих – вероятно, речь из зала дошла и до него.
Секретарь губкома говорил сейчас о том, что на продработу посылались обреченные товарищи, а наше красное знамя чаще всего шло на обшивку гробов.
Пожарный недослышал и запел свою песню:
Лапти по пόлю шагали,
Люди их пустыми провожали…
– Чего он там поет, будь он проклят? – сказал Гопнер и прислушался. – Обо всем поет – лишь бы не думать… Все равно водопровод не работает: зачем-то пожарные есть!
Пожарный в это время глядел на город, освещенный одними звездами, и предполагал: что бы было, если б весь город сразу загорелся? Пошла бы потом голая земля из-под города мужикам на землеустройство, а пожарная команда превратилась бы в сельскую дружину, а в дружине бы служба спокойней была.
Сзади себя Дванов услышал медленные шаги спускающегося с лестницы человека. Человек бормотал себе свои мысли, не умея соображать молча. Он не мог думать втемную – сначала он должен свое умственное волнение переложить в слово, а уж потом, слыша слово, он мог ясно чувствовать его. Наверно, он и книжки читал вслух, чтобы загадочные мертвые знаки превращать в звуковые вещи и от этого их ощущать.
– Скажи пожалуйста! – убедительно говорил себе и сам внимательно слушал человек. – Без него не знали: торговля, товарообмен да налог! Да оно так и было: и торговля шла сквозь все отряды, и мужик разверстку сам себе скащивал, и получался налог! Верно я говорю иль я дурак?..
Человек иногда приостанавливался на ступеньках и делал себе возражения:
– Нет, ты дурак! Неужели ты думаешь, что Ленин глупей тебя: скажи пожалуйста!
Человек явно мучился. Пожарный на крыше снова запел, не чувствуя, что под ним происходит.
– Какая-то новая экономическая политика! – тихо удивлялся человек. – Дали просто уличное название коммунизму! И я по-уличному чевенгурцем называюсь – надо терпеть!
Человек дошел до Дванова и Гопнера и спросил у них:
– Скажите мне, пожалуйста: вот у меня коммунизм стихией прет – могу я его политикой остановить иль не надо?
– Не надо, – сказал Дванов.
– Ну, а раз не надо – о чем же сомнение? – сам для себя успокоительно ответил человек и вытащил из кармана щепотку табаку. Он был маленького роста, одетый в прозодежду коммуниста, – шинель с плеч солдата, дезертира царской войны, – со слабым носом на лице.
Дванов узнал в нем того коммуниста, который бормотал спереди него на собрании.
– Откуда ты такой явился? – спросил Гопнер.
– Из коммунизма. Слыхал такой пункт? – ответил прибывший человек.
– Деревня, что ль, такая в память будущего есть? Человек обрадовался, что ему есть что рассказать.
– Какая тебе деревня – беспартийный ты, что ль? Пункт есть такой – целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур. А я там был, пока что, председателем ревкома.
– Чевенгур от Новоселовска недалеко? – спросил Дванов.
– Конечно, недалеко. Только там гамаи живут и к нам не ходят, а у нас всему конец.
– Чему ж конец-то? – недоверчиво спрашивал Гопнер.
– Да всей всемирной истории – на что она нам нужна?
Ни Гопнер, ни Дванов ничего дальше не спросили. Пожарный мерно гремел по откосу крыши, озирая город сонными глазами. Петь он перестал, а скоро и совсем затих – должно быть, ушел на чердак спать. Но в эту ночь нерадивого пожарного застигло начальство. Перед тремя собеседниками остановился формальный человек и начал кричать с мостовой на крышу:
– Распопов! Наблюдатель! К вам обращается инспектор пожарной охраны. Есть там кто на вышке?
На крыше была чистая тишина.
– Распопов!
Инспектор отчаялся и сам полез на крышу.
Ночь тихо шумела молодыми листьями, воздухом и скребущимся ростом трав в почве. Дванов закрывал глаза, и ему казалось, что где-то ровно и длительно ноет вода, уходящая в подземную воронку. Председатель Чевенгурского уисполкома затягивал носом табак и норовил чихнуть. Собрание чего-то утихло: наверно, там думали.
– Сколько звезд интересных на небе, – сказал он, – но нет к ним никаких сообщений.
Инспектор пожарной охраны привел с крыши дежурного наблюдателя. Тот шел на расправу покорными ногами, уже остывшими ото сна.
– Пойдете на месяц на принудительные работы, – хладнокровно сказал инспектор.
– Поведут, так пойду, – согласился виновный. – Мне безразлично: паек там одинаковый, а работают по кодексу.
Гопнер поднялся уходить домой – у него был недуг во всем теле. Чевенгурский председатель последний раз понюхал табаку и откровенно заявил:
– Эх, ребята, хорошо сейчас в Чевенгуре!
Дванов заскучал о Копенкине, о далеком товарище, где-то бодрствовавшем в темноте степей.
Копенкин стоял в этот час на крыльце Черновского сельсовета и тихо шептал стих о Розе, который он сам сочинил в текущие дни. Над ним висели звезды, готовые капнуть на голову, а за последним плетнем околицы простиралась социалистическая земля – родина будущих, неизвестных народов. Пролетарская Сила и рысак Дванова равномерно жевали сено, надеясь во всем остальном на храбрость и разум человека.
Дванов тоже встал и протянул руку председателю Чевенгура:
– Как ваша фамилия?
Человек из Чевенгура не мог сразу опомниться от волнующих его собственных мыслей.
– Поедем, товарищ, работать ко мне, – сказал он. – Эх, хорошо сейчас у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под нею громадный трудовой район – и весь в коммунизме, как рыба в озере! Одного у нас нету: славы…
Гопнер живо остановил хвастуна:
– Какая луна, будь ты проклят? Неделю назад ей последняя четверть была…
– Это я от увлечения сказал, – сознался чевенгурец. – У нас без луны еще лучше. У нас лампы горят с абажурами.
Три человека тронулись вместе по улице – под озабоченные восклицания каких-то птичек в палисадниках, почуявших свет на востоке. Бывает хорошо изредка пропускать ночи без сна – в них открывалась Дванову невидимая половина прохладного безветренного мира.
Дванову понравилось слово Чевенгур. Оно походило на влекущий гул неизвестной страны, хотя Дванов и ранее слышал про этот небольшой уезд. Узнав, что чевенгурец поедет через Калитву, Дванов попросил его навестить в Черновке Копенкина и сказать ему, чтобы он не ждал его, Дванова, а ехал бы дальше своей дорогой. Дванов хотел снова учиться и кончить политехникум.
– Заехать не трудно, – согласился чевенгурец. – После коммунизма мне интересно поглядеть на разрозненных людей.
– Болтает чорт его знает что! – возмутился Гопнер. – Везде разруха, а у него одного – свет под абажуром.
Дванов прислонил бумагу к забору и написал Копенкину письмо. «Дорогой товарищ Копенкин! Ничего особенного нет. Политика теперь другая, но правильная. Отдай моего рысака любому бедняку, а сам поезжай…»
Дванов остановился: куда мог поехать и надолго поместиться Копенкин?
– Как ваша фамилия? – спросил Дванов у чевенгурца.
– Моя-то – Чепурный. Но ты пиши – Японец; весь район ориентируется на Японца.
«…поезжай к Японцу. Он говорит, что у него есть социализм. Если правда, то напиши мне, а я уж не вернусь, хотя мне хочется не расставаться с тобой. Я сам еще не знаю, что лучше всего для меня. Я не забуду ни тебя, ни Розу Люксембург. Твой сподвижник Александр Дванов».
Чепурный взял бумажку и тут же прочитал ее.
– Сумбур написал, – сказал он. – В тебе слабое чувство ума.
И они попрощались и разошлись в свои стороны: Гопнер и Дванов – на край города, а чевенгурец – на постоялый двор.
– Ну как? – спросил у Дванова дома Захар Павлович.
Александр рассказал ему про новую экономическую политику.
– Погибшее дело! – лежа в кровати, заключил отец. – Что к сроку не поспеет, то и посеяно зря… Когда власть-то брали, на завтрашний день всему земному шару обещали благо, а теперь, ты говоришь, объективные условия нам ходу не дают… Попам тоже до рая добраться сатана мешал…
Гопнер когда дошел до квартиры, то у него прошли все боли.
«Чего-то мне хочется? – думал он. – Отцу моему хотелось бога увидеть наяву, а мне хочется какого-то пустого места, будь оно проклято, – чтобы сделать все сначала, в зависимости от своего ума…»
Гопнеру хотелось не столько радости, сколько точности.
Чепурный же ни о чем не тужил: в его городе Чевенгуре и благо жизни, и точность истины, и скорбь существования происходили сами собой по мере надобности. На постоялом дворе он дал есть траву своей лошади и лег подремать в телегу.
«Возьму-ка я у этого Копенкина рысака в упряжку, – наперед решил он. – Зачем его отдавать любому бедняку, когда бедняку и так громадные льготы, скажи пожалуйста!»
Утром постоялый двор набился телегами крестьян, приехавших на базар. Они привезли понемногу – кто пуд пшена, кто пять корчажек молока, чтобы не жалко было, если отнимут. На заставе, однако, их не встретил заградительный отряд, поэтому они ждали облавы в городе. Облава чего-то не появлялась, и мужики сидели в тоске на своем товаре.
– Не отбирают теперь? – спросил у крестьян Чепурный.
– Что-то не тронули: не то радоваться, не то горевать.
– А что?
– Да кабы хуже чего не пришло – лучше б отбирали пускай! Эта власть все равно жить задаром не даст.
«Ишь ты – где у него сосет! – догадался Чепурный. – Объявить бы их мелкими помещиками, напустить босоту и ликвидировать в течение суток всю эту подворную буржуазную заразу!»
– Дай закурить! – попросил тот же пожилой крестьянин.
Чепурный исподволь посмотрел на него чужими глазами.
– Сам домовладелец, а у неимущего побираешься…
Мужик понял, но скрыл обиду.
– Да ведь по разверстке, товарищ, все отобрали: кабы не она, я б тебе сам в мешочек насыпал.
– Ты насыпешь! – усомнился Чепурный. – Ты высыпешь – это да!
Крестьянин увидел вяляющуюся чеку, слез с телеги и положил ее за голенище.
– Когда как, – ровным голосом сообщил он. – Товарищ Ленин, пишут в газетах, учет полюбил: стало быть, из недобрых рук можно и в мешок набрать, если из них наземь сыплется.
– А ты тоже с мешком живешь? – напрямик спрашивал Чепурный.
– Не инáче. Поел – и рот завязал. А из тебя сыплется, да никто не подбирает. Мы сами, земляк, знатные, – зачем ты человека понапрасну обижаешь?
Чепурный, обученный в Чевенгуре большому уму, замолчал. Несмотря на звание председателя ревкома, Чепурный этим званием не пользовался. Иногда, когда он, бывало, сидел в канцелярии, ему приходила в голову жалостная мысль, что в деревнях живут люди, сплошь похожие друг на друга, которые сами не знают, как им продолжать жизнь, и если не трогать их, то они вымрут; поэтому весь уезд будто бы нуждался в его умных заботах. Объезжая же площадь уезда, он убедился в личном уме каждого гражданина и давно упразднил административную помощь населению. Пожилой собеседник снова утвердил Чепурного в том простом чувстве, что живой человек обучен своей судьбе еще в животе матери и не требует надзора.
При выезде с постоялого двора Чепурного окоротил сподручный хозяина и попросил денег за постой. У того денег не было и быть не могло – в Чевенгуре не имелось бюджета, на радость губернии, полагавшей, что там жизнь идет на здоровых основах самоокупаемости; жители же давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам, которым жертвуется живущее лишь однажды товарищеское тело человека.
Отдать за постой было нечем.
– Бери что хочешь, – сказал сподручному чевенгурец. – Я голый коммунист.
Тот самый мужик, что имел мысли против чевенгурца, подошел на слух этого разговора.
– А сколько по таксе с него полагается? – спросил он.
– Миллион, если в горнице не спал, – определил сподручный.
Крестьянин отвернулся и снял у себя с горла, из-под рубашки, кожаную мошонку.
– Вот нá тебе, малый, и отпусти человека, – подал деньги бывший собеседник чевенгурца.
– Мое дело – служба, – извинился сподручный. – Я душу вышибу, а даром со двора никого не пущу.
– Резон, – спокойно согласился с ним крестьянин. – Здесь не степь, а заведение: людям и скоту одинаковый покой.
За городом Чепурный почувствовал себя свободней и умней. Снова перед ним открылось успокоительное пространство. Лесов, бугров и зданий чевенгурец не любил, ему нравился ровный, покатый против неба живот земли, вдыхающий в себя ветер и жмущийся под тяжестью пешехода.
Слушая, как секретарь ревкома читал ему вслух циркуляры, таблицы, вопросы для составления планов и прочий государственный материал из губернии, Чепурный всегда говорил одно – политика! – и задумчиво улыбался, втайне не понимая ничего. Вскоре секретарь перестал читать, управляясь со всем объемом дел без руководства Чепурного.
Сейчас чевенгурца везла черная лошадь с белым животом – чья она была, неизвестно. Увидел ее Чепурный в первый раз на городской площади, где эта лошадь объедала посадки будущего парка, привел на двор, запряг и поехал. Что лошадь была ничья, тем она дороже и милей для чевенгурца: о ней некому позаботиться, кроме любого гражданина. Поэтому-то весь скот в Чевенгурском уезде имел сытый, отменный вид и круглые обхваты тела.
Дорога заволокла Чепурного надолго. Он пропел все песни, какие помнил наизусть, хотел о чем-нибудь подумать, но думать было не о чем – все ясно, оставалось действовать: как-нибудь вращаться и томить свою счастливую жизнь, чтобы она не стала слишком хорошей, но на телеге трудно утомить себя. Чевенгурец спрыгнул с телеги и побежал рядом с пышущей усталым дыханием лошадью. Уморившись бежать, он прыгнул на лошадь верхом, а телега по-прежнему гремела сзади пустой. Чепурный оглянулся на телегу – ему она показалась плохой и неправильно устроенной: слишком тяжела на ходу.
– Тпру, – сказал он коню и враз отпряг телегу. – Стану я живую жизнь коня на мертвую тяготу тратить: скажи пожалуйста! – И, оставив сбрую, он поехал верхом на освобожденном коне; телега опустила оглобли и легла ждать произвола первого проезжего крестьянина.
«Во мне и в лошади сейчас кровь течет! – бесцельно думал Чепурный на скаку, лишенный собственных усилий. – Придется копенкинского рысака в поводу держать – на пристяжку некуда».
Под вечер он достиг какой-то маленькой степной деревушки – настолько безлюдной, словно здесь люди давно сложили свои кости. Вечернее небо виднелось продолжением степи – и конь под чевенгурцем глядел на бесконечный горизонт как на страшную участь своих усталых ног.
Чевенгурец постучал в чью-то мирную хату. С заднего двора вышел старик и выглянул из-за плетня.








