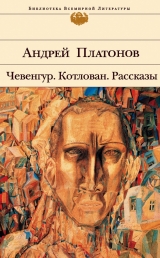
Текст книги "Том 2. Чевенгур. Котлован"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Стреляй, Дванов! Теперь – все будет наше!
Дванов выстрелил два раза куда-то в церковь и почувствовал, что он кричит вслед за Копенкиным, уже вдохновлявшим себя взмахами сабли. Толпа крестьян колыхнулась ровной волной, осветилась обращенными назад чужими лицами и начала пускать из себя потоки бегущих людей. Другие затоптались на месте, хватая на помощь соседей. Эти топтавшиеся были опасней бегущих: они замкнули страх на узком месте и не давали развернуться храбрым.
Дванов вдохнул мирный запах деревни – соломенной гари и гретого молока, – от этого запаха у Дванова заболел живот: сейчас он не смог бы съесть даже щепотки соли. Он испугался погибнуть в больших теплых руках деревни, задохнуться в овчинном воздухе смирных людей, побеждающих врага не яростью, а навалом.
Но Копенкин почему-то обрадовался толпе и уже надеялся на свою победу.
Вдруг из окон хаты, у которой метались люди, вспыхнул спешащий залп из разнокалиберных ружей – все звуки отдельных выстрелов были разные.
Копенкин пришел в самозабвение, которое запирает чувство жизни в темное место и не дает ему вмешиваться в смертные дела. Левой рукой Копенкин ударил из нагана в хату, громя оконное стекло.
Дванов очутился у порога. Ему осталось сойти с коня и вбежать в дом. Он выстрелил в дверь – дверь медленно открылась от толчка пули, и Дванов побежал внутрь.
В сенях пахло лекарством и печалью неизвестного беззащитного человека. В чулане лежал раненный в прежних боях крестьянин. Дванов не сознал его и ворвался через кухню в горницу. В комнате стоял в рост рыжеватый мужик, подняв правую здоровую руку над головой, а левая с наганом была опущена – из нее редко капала кровь, как влага с листьев после дождя, ведя скучный счет этому человеку. Окно горницы было выбито, а Копенкина не было.
– Бросай оружие! – сказал Дванов.
Бандит прошептал что-то с испугу.
– Ну! – озлился Дванов. – Пулей с рукой вышибу!
Крестьянин бросил револьвер в свою кровь и поглядел вниз: он пожалел, что пришлось вымочить оружие, а не отдать его сухим – тогда бы его скорей простили.
Дванов не знал, что делать дальше с раненым пленником и где Копенкин. Он отдышался и сел в плюшевое кулацкое кресло. Мужик стоял перед ним, не владея обвисшими руками. Дванов удивился, что он не похож на бандита, а был обыкновенным мужиком и едва ли богатым.
– Сядь! – сказал ему Дванов. Крестьянин не сел. – Ты кулак?
– Нет, мы тут последние люди, – вразумительно ответил мужик правду. – Кулак не воюя: у него хлеба много – весь не отберут…
Дванов поверил и испугался: он вспомнил в своем воображении деревни, которые проехал, населенные грустным бледным народом.
– Ты бы стрелял в меня правой рукой: ведь одну левую ранили.
Бандит глядел на Дванова и медленно думал – не для своего спасения, а вспоминая всю истину.
– Я левша. Выскочить не успел, а говорят – полк наступает, мне таково обидно стало одному помирать…
Дванов заволновался: он мог думать при всех положениях. Этот крестьянин подсказывал ему какую-то тщету и скорбь революции, выше ее молодого ума, – Дванов уже чувствовал тревогу бедных деревень, но написать ее словами не сумел бы.
«Глупость! – молча колебался Дванов. – Расстрелять его, как придет Копенкин. Трава растет, тоже разрушает почву: революция – насильная штука и сила природы… Сволочь ты!» – сразу и без последовательности изменилось сознание Дванова.
– Уходи домой! – приказал он бандиту.
Тот пошел к дверям задом, глядя на наган в руке Дванова завороженными окоченелыми глазами. Дванов догадался и нарочно не прятал револьвера, чтобы не шевельнуться и не испугать человека.
– Стой! – окликнул Дванов. Крестьянин покорно остановился. – Были у вас белые офицеры? Кто такой Плотников?
Бандит ослаб и мучительно старался перетерпеть себя.
– Не, никого не было, – боясь солгать, тихо отвечал крестьянин. – Каюсь тебе, милый человек: никого… Плотников – с наших приселков мужик…
Дванов видел, что бандит от страха не врет.
– Да ты не бойся! Иди себе спокойно ко двору.
Бандит пошел, поверив Дванову.
В окне задребезжали остатки стекла: степным ходом подскакала Пролетарская Сила Копенкина.
– Ты куда идешь? Ты кто такой? – услышал Дванов голос Копенкина. Не слушая ответа, Копенкин водворил пленного бандита в чулан.
– Ты знаешь, товарищ Дванов, я было самого ихнего Плотникова не словил, – сообщил Копенкин, клокоча возбужденной грудью. – Двое их стервецов ускакали – ну, кони их хороши! На моем пахать надо, а я на нем воюю… Хотя на нем мне счастье – сознательная скотина!.. Ну, что ж, надо сход собирать…
Копенкин сам залез на колокольню и ударил в набат. Дванов вышел на крыльцо в ожидании собрания крестьян. Вдалеке выскакивали на середину улицы дети и, поглядев в сторону Дванова, убегали опять. Никто не шел на гулкий срочный призыв Копенкина.
Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание с возгласом. Дванов заслушался, забывая значение набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение. В революции тоже действуют эти страсти – не одной литой верой движутся люди, но также и дребезжащим сомнением.
К крыльцу подошел черноволосый мужик в фартуке и без шапки, наверно – кузнец.
– Вы что тут народ беспокоите? – прямо спросил он. – Езжайте себе, други-товарищи, дальше. Есть у нас дураков десять – вот вся ваша опора тут…
Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на Советскую власть.
– Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, – злобно ответил кузнец. – Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?
Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.
– Это ты себе оставь! – знающе отвергнул кузнец. – Десятая часть народа – либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски – за кем хошь пойдут. Был бы царь – и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди… Ты говоришь – хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает – кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла… говорить, сообразив, что перед ним такой же странный человек, как и все коммунисты: как будто ничего человек, а действует против простого народа.
Дванов нечаянно улыбнулся мысли кузнеца: есть, примерно, десять процентов чудаков в народе, которые на любое дело пойдут – и в революцию, и в скит на богомолье.
Пришел Копенкин, тот на все упреки кузнеца отвечал ясно:
– Сволочь ты, дядя! Мы живем теперь все вровень, а ты хочешь так: рабочий не жри, а ты чтоб самогон из хлеба курил!
– Вровень, да не гладко! – мстил кузнец. – Кляп ты понимаешь в ровной жизни! Я сам, как женился, думаю над этим делом: получается, что всегда чудаки над нами командовали, а сам народ никогда власть не принимал: у него, друг, посурьезней дела были – дураков задаром кормил…
Кузнец похохотал умным голосом и свертел цигарку.
– А если б разверстку отменили? – поставил вопрос Дванов.
Кузнец было повеселел, но опять нахмурился:
– Не может быть! Вы еще хуже, другое придумаете – пускай уж старая беда живет: тем более мужики уж приучились хлеб хоронить…
– Ему ништо нипочем: сволочь-человек! – оценил Копенкин собеседника.
К дому стал подбираться народ: пришли человек восемь и сели в сторонке. Дванов подошел к ним – это оказались уцелевшие члены ячейки Калитвы.
– Начинай речь! – насмехался кузнец. – Все чудаки в сборе, не хватает малость…
Кузнец помолчал, а потом опять охотно заговорил:
– Вот ты меня послушай. У нас людей пять тысяч, и малых и больших. Ты запомни. А теперь я тебе погадаю: возьми ты десятую часть от возмужалых, и когда в ичейке столько будет – тогда и кончится вся революция.
– Почему? – не понял расчета Дванов. Кузнец пристрастно объяснил:
– Тогда все чудаки к власти отойдут, а народ сам по себе заживет – обоим сторонам удовольствие…
Копенкин предложил собранию, не теряя минуты, гнаться за Плотниковым, чтобы ликвидировать его, пока он новой живой банды не набрал. Дванов выяснил у деревенских коммунистов, что в Калитве Плотников хотел объявить мобилизацию, но у него ничего не вышло; тогда два дня шли сходы, где Плотников уговаривал всех идти добровольцами. И сегодня шел такой же сход, когда напали Дванов и Копенкин. Сам Плотников до точности знает крестьян, мужик лихой, верный своим односельчанам и оттого враждебный всему остальному свету. Мужики его уважают вместо скончавшегося попа.
Во время схода прибежала баба и крикнула:
– Мужики, красные на околице – целый полк на лошадях скачет сюда!
А когда Копенкин с Двановым показались на улице, все подумали, что это полк.
– Едем, Дванов! – соскучился слушать Копенкин. – Куда та дорога ведет? Кто с нами поедет?
Коммунисты смутились:
– Та дорога на деревню Черновку… Мы, товарищи, все безлошадные…
Копенкин махнул на них отрекающейся рукой.
Кузнец бдительно поглядел на Копенкина и сам подошел к нему:
– Ну, прощай, что ль! – и протянул обширную руку.
– Прощай хоть ты, – ответил подачей ладони Копенкин. – Пόмни меня – начнешь шевелиться: назад вернусь, а кончу тебя!
Кузнец не побоялся:
– Попόмни, попόмни: моя фамилия Сотых. Я тут один такой. Когда дело к рассудку пойдет – я сам буду верхом с кочережкой. И коня найду: а то они, видишь ты, безлошадные, сукины дети…
Слобода Калитва жила на спуске степи к долине. Сама же долина реки Черной Калитвы представляла сплошную чащу болотных зарослей.
Пока люди спорили и утрамбовывались меж собой, шла вековая работа природы: река застарела, девственный травостой ее долины затянулся смертельной жидкостью болот, через которую продирались лишь жесткие острецы камыша.
Мертвое руно долины ныне слушало лишь безучастные песни ветра. В конце лета здесь всегда идет непосильная борьба ослабшего речного потока с овражными выносами песка, своею мелкой перхотью навсегда отрезающего реку от далекого моря.
– Вот, товарищ Дванов, погляди налево, – указал на синеву поймы Копенкин. – Я тут бывал с отцом еще мальчишкой: незабвенное место было. На версту хорошей травянистой вонью несло, а теперь тут и вода гниет…
Дванов редко встречал в степи такие длинные таинственные страны долин. Отчего, умирая, реки останавливают свою воду и покрывают непроходимой мочажиной травяные прибрежные покровы? Наверно, вся придолинная страна беднеет от смерти рек. Копенкин рассказал Дванову, сколько скота и птицы было раньше у крестьян в здешних местах, когда река была свежая и живая.
Смеркающаяся вечерняя дорога шла по окраине погибшей долины. До Черновки от Калитвы было всего шесть верст, но Черновку всадники заметили, когда уже въехали на чье-то гумно. В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала.
Копенкин пошел узнавать, чья власть в деревне, а Дванов остался с лошадьми на околице.
Наставала ночь – мутная и скучная; таких ночей боятся дети, познавшие в первый раз сонные кошмары: они тогда не засыпают и следят за матерью, чтобы она тоже не спала и хранила их от ужаса.
Но взрослые люди – сироты, и Дванов стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую степную ночь и прохладное озеро неба над собой.
Он прохаживался и возвращался обратно, слушая тьму и считая медленное время.
– Я насилу нашел тебя, – издалека сказал невидимый Копенкин. – Соскучился? Сейчас молочка попьешь.
Копенкин ничего не узнал – чья в деревне власть и здесь ли Плотников. Зато достал где-то корчажку молока и ломоть необходимого хлеба.
Поев, Копенкин и Дванов поехали к сельсовету. Копенкин отыскал избу с вывеской Совета, но там было пусто, ветхо и чернильница стояла без чернил – Копенкин залезал в нее пальцем, проверяя, функционирует ли местная власть.
Утром пришли четыре пожилых мужика и начали жаловаться: все власти их оставили, жить стало жутко.
– Нам бы хоть кого-нибудь, – просили крестьяне. – А то мы тут на отшибе живем – сосед соседа задушит. Разве ж можно без власти: ветер без начала не подует, а мы без причины живем.
Властей в Черновке было много, но все рассеялись. Советская власть тоже распалась сама собой: крестьянин, избранный председателем, перестал действовать: почему, говорит, мало – все меня знают, без почета власть не бывает. И перестал ходить в сельсовет на занятия. Черновцы ездили в Калитву, чтобы привезти в председатели незнакомого человека, которого поэтому все бы уважали. Но и так не вышло: в Калитве сказали, что нет инструкций на переселение председателей из чужих мест – выбирайте достойных из своего общества.
– А раз у нас нету достойных! – загрустили черновцы. – Мы все вровень и под стать: один вор, другой лодырь, а у третьего баба лихая – портки спрятала… Как же нам теперь быть-то?
– Скучно вам жить? – сочувственно спросил Дванов.
– Полная закупорка! По всей России, проходящие сказывали, культурный пробел прошел, а нас не коснулся: обидели нас!
В окна Совета пахло навозной сыростью и теплом пахотной земли; этот старинный воздух деревни напоминал о покое и размножении, и говорившие постепенно умолкли. Дванов вышел наружу посмотреть лошадей. Его там обрадовал отощалый нуждающийся воробей, работавший клювом в сытном лошадином кале. Воробьев Дванов не видал полгода и ни разу не вспомнил, где они приютились на свете. Много хорошего прошло мимо узкого бедного ума Дванова, даже собственная жизнь часто обтекает его ум, как речка вокруг камня. Воробей перелетел на плетень. Из Совета вышли крестьяне, скорбящие о власти. Воробей оторвался от плетня и на лету проговорил свою бедняцкую серую песню.
Один из крестьян подошел к Дванову – рябой и не евший, из тех, кто никогда сразу не скажет, что ему нужно, но поведет речь издали о средних предметах, сосредоточенно пробуя характер собеседника: допускает ли тот попросить облегчения. С ним можно проговорить всю ночь – о том, что покачнулось на земле православие, а на самом деле ему нужен был лес на постройку. Хотя хлысты он уже себе нарезал в бывшей казенной даче, а снова попросить лес хочет для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее самовольство.
Подошедший к Дванову мужик чем-то походил на отбывшего воробья – лицом и повадкой: смотреть на свою жизнь как на преступное занятие и ежеминутно ждать карающей власти.
Дванов попросил сказать сразу и наголо – что требуется крестьянину. Но Копенкин услышал Дванова сквозь одинарную раму и предупредил, что так мужик сроду ничего не покажет: ты, говорит, товарищ Дванов, веди беседу шагом.
Мужики засмеялись и поняли: перед ними не опасные, ненужные люди.
Заговорил рябой. Он был бобыль и должен, по общественному приговору, соблюдать чужие интересы.
Понемногу беседа добралась до калитвенских угодий, смежных с черновскими. Затем прошли спорный перелесок и остановились на власти.
– Нам хоть власть, хоть и не надо, – объяснял с обеих сторон рябой. – С середины посмотреть – концов не видать, с конца начать – долго. Вот ты и подумай тут…
Дванов поторопил:
– Если есть у вас враги, то вам нужна Советская власть.
Но рябой знал, в чем дело:
– Врагов-то хоть и нет, да ведь кругом просторно – прискачут: чужая копейка вору дороже своего рубля… Оно все одинако осталось – и трава растет, и погода меняется, а все ж таки ревность нас берет: а вдруг да мы льготы какие упустили без власти! Сказывают, разверстку теперь не берут, а мы все сеять боимся… И прочие легкости народу пошли – разберут по ртам, а нам не достанется!
Дванов вскинулся: как разверстку не берут – кто сказал? Но рябой и сам не знал: не то он действительно это слышал, не то от своего сердца нечаянно выдумал. Объяснил только вообще – проходил дезертир без документов и, поев каши у рябого, сообщил, что нет теперь никакой разверстки – к Ленину в кремлевскую башню мужики ходили: три ночи сидели и выдумали послабление.
Дванов сразу загрустил, ушел в Совет и не возвратился. Мужики разошлись по дворам, привыкнув к бестолковым ходатайствам.
– Послушай меня, товарищ Копенкин! – взволнованно обратился Дванов.
Копенкин больше всего боялся чужого несчастья и мальчиком плакал на похоронах незнакомого мужика обиженней его вдовы. Он загодя опечалился и приоткрыл рот для лучшего слуха.
– Товарищ Копенкин! – сказал Дванов. – Знаешь что: мне охота съездить в город… Обожди меня здесь – я быстро возвращусь… Сядь временно председателем Совета, чтобы не скучно было, – крестьяне согласятся. Ты видишь, они какие…
– Да что ж тут такого? – обрадовался Копенкин. – Поезжай себе, пожалуйста, я тебя хоть целый год ждать буду… А председателем я устроюсь – здешний район надо покорябать.
Вечером Дванов и Копенкин поцеловались среди дороги, и обоим стало бессмысленно стыдно. Дванов уезжал в ночь к железной дороге.
Копенкин долго стоял на улице, уже не видя друга; потом вернулся в сельсовет и заплакал в пустом помещении. Всю ночь он пролежал молча и без сна, с беспомощным сердцем. Деревня вокруг не шевелилась, не давала знать о себе ни единым живым звуком, будто навсегда отреклась от своей досадной, волокущейся судьбы. Лишь изредка шелестели голые ветлы на пустом сельсоветском дворе, пропуская время к весне.
Копенкин наблюдал, как волновалась темнота за окном. Иногда сквозь нее пробегал бледный вянущий свет, пахнущий сыростью и скукой нового нелюдимого дня. Быть может, наставало утро, а может, это – мертвый блуждающий луч луны.
В длинной тишине ночи Копенкин незаметно терял напряжение своих чувств, словно охлаждаясь одиночеством. Постепенно в его сознании происходил слабый свет сомнения и жалости к себе. Он обратился памятью к Розе Люксембург, но увидел только покойную исхудалую женщину в гробу, похожую на измученную роженицу.
Нежное влечение, дававшее сердцу прозрачную веселую силу надежды, теперь не тронулось в Копенкине.
Удивленный и грустный, он обволакивался небесною ночью и многолетней усталостью. Во сне он не видел себя и, если б увидел, испугался: на лавке спал старый, истощенный человек, с глубокими мученическими морщинами на чужом лице, – человек, всю жизнь не сделавший себе никакого блага. Не существует перехода от ясного сознания к сновидению – во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле. Второй раз увидел Копенкин свою давно умершую мать – в первый раз она снилась ему перед женитьбой: мать уходила по грязной полевой дороге; спина ее была так худа, что сквозь сальную кофту, пропахшую щами и детьми, проступали кости ребер и позвоночника; мать уходила, нагнувшись, ни в чем не упрекая сына. Копенкин знал, что там, куда она пошла, у нее ничего нет, и побежал в обход по балке, чтобы построить ей курень. Где-то под лесом живали в теплое время огородники и бахчеводы, и Копенкин думал поставить курень матери именно там, чтобы мать нашла себе в лесу другого отца и нового сына.
Сегодня мать приснилась Копенкину с обыкновенным горюющим лицом – она утирала себе концом платочка, чтобы не пачкать его весь, сморщенные слезницы глаз и говорила – маленькая и иссохшая перед выросшим сыном:
– Опять себе шлюшку нашел, Степушка. Опять мать оставил одну – людям на обиду. Бог с тобой.
Мать прощала, потому что потеряла материнскую силу над сыном, рожденным из ее же крови и окаянно отступившим от матери.
Копенкин любил мать и Розу одинаково, потому что мать и Роза было одно и то же первое существо для него, как прошлое и будущее живут в одной его жизни. Он не понимал, как это есть, но чувствовал, что Роза – продолжение его детства и матери, а не обида старушки.
И Копенкин зашелся сердцем, что мать ругает Розу.
– Мама, она тоже умерла, как и ты, – сказал Копенкин, жалея беспомощность материнского зла.
Старуха отняла платок – она и не плакала.
– И-и, сынок, ты их только слушай! – засплетничала мать. – Она тебе и скажет и повернется – все под стать, а женишься – спать не с кем: кости да кожа, а на шее рожа. Вот она, присуха твоя, поступочкой идет: у, подлая, обвела малого!..
По улице шла Роза – маленькая, живая, настоящая, с черными грустными глазами, как на картине в сельсовете. Копенкин забыл мать и прошиб стекло – для лучшего наблюдения Розы. За стеклом была деревенская летняя улица – пустая и скучная, как во всех деревнях в засуху и жару, а Розы не было. Из переулка вылетела курица и побежала по колее, растопырив пылящие крылья. Вслед за ней вышли оглядывающиеся люди, а потом другие люди понесли некрашеный дешевый гроб, в каких хоронят на общественные средства безвестных людей, не помнящих родства.
В гробу лежала Роза – с лицом в желтых пятнах, что бывает у неблагополучных рожениц. В черноте ее волос вековала неженская седина, а глаза засосались под лоб в усталом отречении ото всех живых. Ей никого не нужно, и мужикам, которые ее несли, она тоже была немила. Носильщики трудились только из общественной повинности, в порядке подворной очереди.
Копенкин вглядывался и не верил: в гробу лежала не та, которую он знал, – у той было зрение и ресницы. Чем ближе подносили Розу, тем больше темнело ее старинное лицо, не видевшее ничего, кроме ближних сел и нужды.
– Вы мать мою хороните! – крикнул Копенкин.
– Нет, она немужняя жена! – без всякой грусти сказал мужик и поправил полотенце на плече. – Она, видишь ты, не могла в другом селе помереть, в аккурат у нас скончалась: не все ей равно было…
Мужик считал свой труд. Это Копенкин сразу понял и успокоил подневольных людей:
– Как засыпете ее, приходите – я поднесу.
– Можно, – ответил тот же крестьянин. – На сухую хоронить грешно. Теперь она раба Божья, а все одно неподъемная, аж плечи режет.
Копенкин лежал на лавке и ждал возвращения мужиков с кладбища. Откуда-то дуло холодом. Копенкин встал, чтобы заложить разбитое стекло, но все окна были невредимы. Дуло от утреннего ветра, а на дворе давно ржал непоеный конь Пролетарская Сила. Копенкин оправил на себе одежду, икнул и вышел на воздух. Журавль колодца у соседей нагибался за водой; молодая баба за плетнем ласкала корову, чтобы лучше ее выдоить, и нежно говорила грудным голосом:
– Машка, Машенька, ну, не топырься, не гнушайся, свят прилипнет, грех отлипнет…
С левой стороны кричал, оправляя с порога нужду, босой человек своему невидимому сыну:
– Васька, веди кобылу поить!
– Сам пей, она поеная!
– Васька, пшено иди толки, а то ступкой по башке шкрыкну.
– Я вчерась толок: все я да я – сам натолкешь!
Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица, и, сколь ни прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь – делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания, но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня.
Копенкин улыбнулся воробью, сумевшему в своей тщетной крошечной жизни найти громадное обещание. Ясно, что он отогревался в прохладное утро не зернышком, а не известной людям мечтой. Копенкин тоже жил не хлебом и не благосостоянием, а безотчетной надеждой.
– Так лучше, – сказал он, не отлучаясь взором от работавшего воробья. – Ишь ты: маленький, а какой цопенький… Если б человек таким был, весь свет бы давно расцвел…
Рябой вчерашний мужик пришел с утра. Копенкин завлек его в разговор, потом пошел к нему завтракать и за столом вдруг спросил:
– А есть у вас такой мужик – Плотников?
Рябой нацелился на Копенкина думающим глазом, ища подоплеки вопроса:
– Плотников я и есть. А что тебе? У нас во всей деревне только три фамилии и действуют, что Плотниковы, Ганушкины да Цельновы. Тебе которого Плотникова надо?
Копенкин нашел:
– Того самого, у которого рыжий жеребец – ловкий да статный такой, на езду ужимистый… Знаешь?
– А, так то Ванька, а я Федор! Он меня не касается. Жеребец-то его третьего дня охромел… Он дюже надобен-то тебе? Тогда я сейчас пойду кликну его…
Рябой Федор ушел: Копенкин вынул наган и положил на стол. Больная баба Федора онемело глядела на Копенкина с печки, начиная все быстрее и быстрее икать от страха.
– Кто-то тебя распоминался так? – участливо спросил Копенкин.
Баба скосоротилась в улыбку, чтобы разжалобить гостя, но сказать ничего не сумела.
Федор пришел с Плотниковым скоро. Плотниковым оказался тот самый босой мужик, который утром кричал на Ваську с порога. Теперь он надел валенки, а в руках вежливо мял ветхую шапку, справленную еще до женитьбы. Плотников имел наружность без всяких отличий: чтоб его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз был редкий – карий: цвет воровства и потайных умыслов. Копенкин угрюмо исследовал бандита. Плотников не сробел или нарочно особый оборот нашел:
– Чего уставился – своих ищешь?
Копенкин сразу положил ему конец:
– Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на Советскую власть подымать? Говори прямо – будешь или нет?
Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление о своих незаконных действиях.
– Не, боле никогда не буду – напрямки говорю.
Копенкин помолчал для суровости.
– Ну, попомни меня. Я тебе не суд, а расправа: узнаю – с корнем в момент вырву, до самой матерной матери твоей докопаюсь – на месте угроблю… Ступай теперь ко двору и считай меня на свете…
Когда Плотников ушел, рябой ахнул и заикнулся от уважения.
– Вот это, вот это – справедливо! Стало быть, ты власть!
Копенкин уже полюбил рябого Федора за его хозяйственное желание власти: тем более и Дванов говорил, что Советская власть – это царство множества природных невзрачных людей.
– Какая тебе власть? – сказал Копенкин. – Мы природная сила.
* * *
Дванову городские дома показались слишком большими: его глазомер привык к хатам и степям.
Над городом сияло лето, и птицы, умевшие размножиться, пели среди строений и на телефонных столбах. Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы; ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом.
Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала – на базе губпродкома – висела сырая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано:
«ПРОДАЖА ВСЕГО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ.
ДОВОЕННЫЙ ХЛЕБ, ДОВОЕННАЯ РЫБА,
СВЕЖЕЕ МЯСО, СОБСТВЕННЫЕ СОЛЕНИЯ».
Под вывеской малыми буквами была приписана фирма: «Ардулянц, Ромм, Колесников и Кo».
Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое: прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов продбаз и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов.
– Это тебе не губраспред! – сочувственно сказал какой-то созерцатель торговли. Дванов ненавистно оглянулся на него. Человек не смутился такого взгляда, а, напротив, торжественно улыбнулся: что, дескать, следишь, я радуюсь законному факту!
Целая толпа людей стояла помимо покупателей: это были просто наблюдатели, живо заинтересованные отрадным происшествием. Их имелось больше покупателей, и они тоже косвенно участвовали в торговле. Иной подходил к хлебу, отминал кусочек и брал его в рот. Приказчик без возражения ожидал дальнейшего. Любитель торговли долго жевал крошку хлеба, всячески регулируя ее языком и глубоко задумавшись; потом сообщал приказчику оценку:
– Горчит! Знаешь – чуть-чуть! На дрожжах ставите?
– На закваске, – говорил приказчик.
– Ага – вот: это и чувствуется. Но и то уж – размол не пайковый и пропечен по-хозяйски: говорить нечего!
Человек отходил к мясу, ласково щупал его и долго принюхивался.
– Что, отрубить, что ль? – спрашивал торговец.
– Я гляжу, не конина ли? – исследовал человек. – Да нет, жил мало, и пены не видать. А то, знаешь, от конины вместо навара пена бывает: мой желудок ее не принимает, я человек болящий…
Торговец, спуская обиду, смело хватал мясо:
– Какая тебе конина?! Это белое черкасское мясо – тут один филей. Видишь, как нежно парует – на зубах рассыпаться будет. Его, как творог, сырым можно кушать.
Удовлетворенный человек отходил к толпе наблюдателей и детально докладывал о своих открытиях.
Наблюдатели, не оставляя постов, сочувственно разбирали все функции торговли. Двое не вытерпели и пошли помогать приказчикам – они сдували пыль с прилавков, обметали пером весы для пущей точности и упорядочивали разновески. Один из этих добровольцев нарезал бумажек, написал на них названия товаров, затем приделал бумажки к проволочным ножкам, а ножки воткнул в соответствующие товары; над каждым товаром получилась маленькая вывесочка, каковая сразу приводила покупателя в ясное понимание вещей. В ящик пшена доброволец вонзил – «Просо», в говядину – «Парное мясо от коровы» и так далее, соответственно более нормальному толкованию товаров.
Его друзья любовались такой заботой. Это были родоначальники улучшателей государственных служб, опередившие свое время. Покупатели входили, читали – и верили надписанному товару больше.
Одна старушка вошла в лавку и долго оглядывала помещение. Голова ее дрожала от старости, усиленной голодом, сдерживающие центры ослабли – и из носа и глаз точилась непроизвольная влага. Старушка подошла к приказчику и протянула ему карточку, зашитую на прорехах суровыми нитками.
– Не надо, бабушка, так отпустим, – заявил приказчик. – Чем ты питалась, когда твои дети мёрли?
– Ай дождались? – тронулась чувством старуха.
– Дождались: Ленин взял, Ленин и дал.
Старуха шепнула:
– Он, батюшка, – и заплакала так обильно, словно ей жить при такой хорошей жизни еще лет сорок.
Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма.
Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. До самого его дома больше лавок не встретилось, но пирожки и пышки продавали на каждом углу. Люди покупали, ели и говорили о еде. Город сытно пировал. Теперь все люди знали, что хлеб растет трудно, растение живет сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает пόтом мучительной работы; люди привыкли теперь глядеть на небо и сочувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз и вода на полях не застывала ледяной коркой: это вредно озимым. Люди обучились многим неизвестным ранее вещам – их профессия расширилась, чувство жизни стало общественным. Поэтому они нынче смаковали пышки, увеличивая посредством этих пышек не только свою сытость, но и уважение к безымянному труду: наслаждение получалось двойное. Поэтому люди, принимая пищу, держали подо ртом руку горстью, чтобы в нее падали крошки, – затем эти крошки также съедались.








