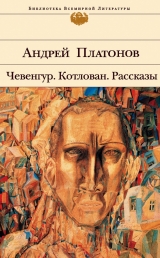
Текст книги "Чевенгур"
Автор книги: Андрей Платонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Осенью, если был урожайный год, сил в народе оставалось много, и взрослые вместе с ребятами занимались тем, что донимали горбатого:
– Петр Федорович, пощупай нашего петушка, ради Бога!
Кондаев не переносил надруганья и гнался за обидчиками до тех пор, пока не ловил какого-нибудь подростка и не причинял ему легкого увечья.
Саша видел снова один старый день. Ему давно представлялась жара в виде старика, а ночь и прохлада – в виде маленьких девочек и ребят.
В избе было открыто окно, и около печки безвыходно металась Мавра Фетисовна. При всей привычке рожать, ей что-то надоедало внутри.
– Тошнит меня. Трудно мне, Прохор Абрамыч... Ступай за бабкой...
Саша не поднимался из травы до самого звона к вечерне, до длинных грустных теней. Окна в избе заперли и завесили. Бабка вынесла во двор лоханку и выплеснула что-то под плетень. Туда побежала собака и съела все, кроме жидкости. Прошка давно не выходил, хотя он был дома. Другие дети гоняли где-то по чужим дворам. Саша боялся подниматься и идти в избу не вовремя. Тени трав сплотились, легкий низовой ветер, дувший весь день, остановился; бабка вышла в повязанном платке, помолилась с крыльца на темный восток и ушла. Наступила покойная ночь. Сверчок в завалинке попробовал голос и потом надолго запел, обволакивая своею песнью двор, траву и отдаленную изгородь в одну детскую родину, где лучше всего жить на свете. Саша смотрел на измененные тьмою, но еще больше знакомые постройки, плетни, оглобли заросших саней, и ему было жалко их, что они такие же, как он, а молчат, не двигаются и когда-нибудь навсегда умрут.
Саша думал, что если он уйдет отсюда, то без него всему двору станет еще более скучно жить на одном месте, и Саша радовался, что он здесь нужен.
В избе зарыдал новый младенец, заглушая своим голосом, непохожим ни на какое слово, устоявшуюся песню сверчка. Сверчок смолк, тоже, наверное, слушая пугающий крик. Наружу вышел Прошка с мешком Саши, с каким его посылали осенью побираться, и с шапкой Прохора Абрамовича.
– Сашка! – прокричал Прошка в ночной задыхающийся воздух. – Беги сюда скорей, дармоед!
Саша был около.
– Чего тебе?
– На, держи – тебе отец шапку подарил. А вот тебе мешок – ходи и не сымай, что наберешь – сам ешь, нам не носи...
Саша взял шапку и мешок.
– А вы тут одни жить останетесь? – спросил Саша, не веря, что его здесь перестали любить.
– А то нет? Знамо, одни! – сказал Прошка. – Опять нахлебник у нас родился, кабы не он, ты бы задаром жил! а теперь ты нам никак не нужен – ты одна обуза, мамка ведь тебя не рожала, ты сам родился...
Саша пошел за калитку. Прошка постоял один и вышел за ворота – напомнить, чтобы сирота больше не возвращался. Сирота никуда еще не ушел – он смотрел на маленький огонь на ветряной мельнице.
– Сашка! – приказал Прошка. – Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок положили, шапку подарили – ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то – ночь. А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится...
Саша пошел по улице в сторону кладбища. Прошка затворил ворота, оглядел усадьбу и поднял бесхозяйственную жердь.
– Ну никак нету дожжей! – пожилым голосом сказал Прошка и плюнул сквозь переднюю щербину рта. – Ну, никак: хоть ты тут ляжь и рашшибись об землю, идол ее намочи!
Саша прокрался к могиле отца и залег в недорытой пещерке. Среди крестов он боялся идти, но близ отца уснул так же спокойно, как когда-то в землянке, на берегу озера.
Позже на кладбище приходили два мужика и негромко обламывали кресты на топливо, но Саша, унесенный сном, ничего не слышал.
* * *
Захар Павлович жил, ни в ком не нуждаясь: он мог часами сидеть перед дверцей паровозной топки, в которой горел огонь.
Это заменяло ему великое удовольствие дружбы и беседы с людьми. Наблюдая живое пламя, Захар Павлович сам жил – в нем думала голова, чувствовало сердце, и все тело тихо удовлетворялось. Захар Павлович уважал уголь, фасонное железо – всякое спящее сырье и полуфабрикат, но действительно любил и чувствовал лишь готовое изделие, – то, во что превратилось посредством труда человека и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью. В обеденные перерывы Захар Павлович не сводил глаз с паровоза и молча переживал в себе любовь к нему. В свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставил их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. Одиноким Захар Павлович и не был – машины были для него людьми и постоянно возбуждали в нем чувства, мысли и пожелания. Передний паровозный скат, называемый катушкой, заставил Захара Павловича озаботиться о бесконечности пространства. Он специально выходил ночью глядеть на звезды – просторен ли мир, хватит ли места колесам вечно жить и вращаться? Звезды увлеченно светились, но каждая – в одиночестве. Захар Павлович подумал, на что похоже небо? И вспомнил про узловую станцию, куда его посылали за бандажами. С платформы вокзала виднелось море одиноких сигналов – то были стрелки, семафоры, перепутья, огни предупреждений и сияние прожекторов бегущих паровозов. Небо было таким же, только отдаленней и как-то налаженней в отношении спокойной работы. Потом Захар Павлович стал на глаз считать версты до синей меняющейся звезды: он расставил руки масштабом и умственно прикладывал этот масштаб к пространству. Звезда горела на двухсотой версте. Это его обеспокоило, хотя он читал, что мир бесконечен. Он хотел бы, чтобы мир действительно был бесконечен, дабы колеса всегда были необходимы и изготовлялись беспрерывно на общую радость, но никак не мог почувствовать бесконечности.
– Сколько верст – неизвестно, потому что далече! – говорил Захар Павлович. – Но где-нибудь есть тупик и кончается последний вершок... Если бы бесконечность была на самом деле, она бы распустилась сама по себе в большом просторе и никакой твердости не было бы... Ну как – бесконечность? Тупик должен быть!
Мысль, что колесам в конце концов работы не хватит, волновала Захара Павловича двое суток, а затем он придумал растянуть мир, когда все дороги до тупика дойдут, – ведь пространство тоже возможно нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, – и на этом успокоился.

Машинист-наставник видел любовную работу Захара Павловича – топки очищались им без всяких повреждений металла и до сияющей чистоты, – но никогда не говорил Захару Павловичу доброго слова. Наставник отлично знал, что машины живут и движутся скорее по своему желанию, чем от ума и умения людей; люди здесь ни при чем. Наоборот, доброта природы, энергии и металла портят людей. Любой холуй может огонь в топке зажечь, но паровоз поедет сам, а холуй – только груз. И если дальше техника так податливо пойдет, то люди от своих сомнительных успехов выродятся в ржавчину, – тогда их останется передавить работоспособными паровозами и дать машине волю на свете. Однако наставник ругал Захара Павловича меньше других – Захар Павлович бил молотком всегда с сожалением, а не с грубой силой, не плевал на что попало, находясь на паровозе, и не царапал беспощадно тела машины инструментами.
– Господин наставник! – обратился раз Захар Павлович, осмелев ради любви к делу. – Позвольте спросить: отчего человек – так себе: ни плох, ни хорош, а машины равномерно знамениты?
Наставник слушал сердито – он ревновал к посторонним паровозы, считая свое чувство к ним личной привилегией.
– Серый чорт, – говорил для себя наставник, – тоже понадобились ему механизмы: Господи Боже мой!
Против обоих людей стоял паровоз, который разогревали под ночной скорый поезд. Наставник долго смотрел на паровоз и наполнялся обычным радостным сочувствием. Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг. Ворота депо были открыты в вечернее пространство лета – в смуглое будущее, в жизнь, которая может повториться на ветру, в стихийных скоростях на рельсах, в самозабвении ночи, риска и нежного гула точной машины.
Машинист-наставник сжал руки в кулаки от прилива какой-то освирепевшей крепости внутренней жизни, похожей на молодость и на предчувствие гремящего будущего. Он забыл про низкую квалификацию Захара Павловича и ответил ему, как равному другу:
– Ты вот поработал и поумнел! Но человек – чушь! Он дома валяется и ничего не стоит... Но ты возьми птиц...
Паровоз засифонил и заглушил слова беседы. Наставник и Захар Павлович вышли на вечерний звучный воздух и пошли сквозь строй остывших паровозов.
– Ты возьми птиц! Это прелесть, но после них ничего не остается – потому что они не работают! Видел ты труд птиц? Нету его! Ну, по пище, жилищу они кое-как хлопочут, – ну, а где у них инструментальные изделия? Где у них угол опережения своей жизни? Нету и быть не может.
– А у человека что? – не понимал Захар Павлович.
– А у человека есть машины! Понял? Человек – начало для всякого механизма, а птицы – сами себе конец.
Захар Павлович думал с наставником одинаково, затрудняясь лишь в подборе необходимых слов, что надоедливо тормозило его размышления. Для обоих – и для машиниста-наставника, и для Захара Павловича – природа, не тронутая человеком, казалась малопрелестной и мертвой: будь то зверь или дерево. Зверь и дерево не возбуждали в них сочувствия своей жизни, потому что никакой человек не принимал участия в их изготовлении, – в них не было ни одного сознательного удара и точности мастерства. Они жили самостоятельно, мимо опущенных глаз Захара Павловича. Любые же изделия – особенно металлические, – наоборот, существовали оживленными и даже были, по своему устройству и силе, интересней и таинственней человека. Захар Павлович много наслаждался одной постоянной мыслью: какой дорогой подспудная кровная сила человека объявляется вдруг в волнующих машинах, которые и по размеру и по смыслу больше мастеровых.
И выходило действительно так, как говорил машинист-наставник: в труде каждый человек превышает себя – делает изделия лучше и долговечней своего житейского значения. Кроме того, Захар Павлович наблюдал в паровозах ту же самую горячую взволнованную силу человека, которая в рабочем человеке молчит без всякого исхода. Обыкновенно, слесарь хорошо разговаривает, когда напьется, в паровозе же человек всегда чувствуется большим и страшным.
Однажды Захар Павлович долго не мог сыскать нужного болта, чтобы прогнать резьбу в сорванной гайке. Он ходил по депо и спрашивал: нет ли у кого болта в три осьмушки – под резьбу. Ему говорили, что нет такого болта, хотя такие болты были у каждого. Но дело в том, что на работе слесаря скучали и развлекались взаимным осложнением рабочих забот. Захар Павлович еще не знал того хитрого скрытого веселья, которое есть в любой мастерской. Это негромкое издевательство позволяло остальным мастеровым одолевать долготу рабочего дня и тоску повторительного труда. Во имя забавы своих соседей Захар Павлович много дел сработал напрасно. Он ходил за обтирочными концами на склад, когда они лежали горой в конторе; делал деревянные лесенки и бидоны для масла, в избытке имевшиеся в депо; даже хотел, по чужому наущению, самостоятельно менять контрольные пробки в котле паровоза, но был вовремя предупрежден одним случайным кочегаром, – иначе бы Захара Павловича уволили без всякого слова.
Захар Павлович, не найдя в этот раз подходящего болта, принялся приспосабливать для прогонки гаечной резьбы один штырь, и приспособил бы, потому что никогда не терял терпенья, но ему сказали:
– Эй, три осьмушки под резьбу, иди возьми болт!
С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три осьмушки под резьбу», но зато его реже обманывали при срочной нужде в инструментах.
После никто не узнал, что Захару Павловичу имя Три осьмушки под резьбу понравилось больше крестного: оно было похоже на ответственную часть любой машины и как-то телесно приобщало Захара Павловича к той истинной стране, где железные дюймы побеждают земляные версты.
* * *
Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что когда вырастет, то поумнеет. Но жизнь прошла без всякого отчета и без остановки, как сплошное увлечение; ни разу Захар Павлович не ощутил времени, как встречной твердой вещи, – оно для него существовало лишь загадкой в механизме будильника. Но когда Захар Павлович узнал тайну маятника, то увидел, что времени нет, есть равномерная тугая сила пружины. Но что-то тихое и грустное было в природе – какие-то силы действовали невозвратно. Захар Павлович наблюдал реки – в них не колебались ни скорость, ни уровень воды, и от этого постоянства была горькая тоска. Бывали, конечно, полые воды, падали душные ливни, захватывал дыхание ветер, но больше действовала тихая, равнодушная жизнь – речные потоки, рост трав, смена времен года. Захар Павлович полагал, что эти равномерные силы всю землю держат в оцепенении – они с заднего хода доказывали уму Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему – какими были деревни и люди, такими и останутся. Ради сохранения равносильности в природе, беда для человека всегда повторяется. Был четыре года назад неурожай – мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в ранние могилы, – но эта судьба не прошла навеки, а снова теперь возвратилась ради точности хода всеобщей жизни.
Сколько ни жил Захар Павлович, он с удивлением видел, что он не меняется и не умнеет – остается ровно таким же, каким был в десять или пятнадцать лет. Лишь некоторые его прежние предчувствия теперь стали обыкновенными мыслями, но от этого ничего к лучшему не изменилось. Свою будущую жизнь он раньше представлял синим глубоким пространством – таким далеким, что почти не существующим. Захар Павлович знал вперед, что чем дальше он будет жить, тем это пространство непережитой жизни будет уменьшаться, а позади – удлиняться мертвая растоптанная дорога. И он обманулся: жизнь росла и накоплялась, а будущее впереди тоже росло и простиралось – глубже и таинственней, чем в юности, словно Захар Павлович отступал от конца своей жизни либо увеличивал свои надежды и веру в нее.
Видя свое лицо в стекле паровозных фонарей, Захар Павлович говорил себе: «Удивительно, я скоро умру, а все тот же».
Под осень участились праздники в календаре: раз случилось три праздника подряд. Захар Павлович скучал в такие дни и уходил далеко по железной дороге, чтобы видеть поезда на полном ходу. По дороге ему пришло желание побывать в поселке на шахтах, где схоронена его мать. Он помнил точно место похорон и чужой железный крест рядом с безыменной безответной могилой матери. На том кресте сохранилась ржавая, почти исчахшая вековая надпись – о смерти Ксении Федоровны Ирошниковой в 1813 году от болезни холеры, восемнадцати лет и трех месяцев от роду. Там было еще запечатлено: «Спи с миром, любимая дочь, до встречи младенцев с родителями».
Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать – на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины. Он и сейчас не прочь был иметь живую мать, потому что не чувствовал в себе особой разницы с детством. И тогда, в том голубом тумане раннего возраста, он любил гвозди на заборе, дым придорожных кузниц и колеса на телегах – за то, что они вертелись.
Куда бы ни уходил из дома маленький Захар Павлович, он знал, что есть мать, которая его вечно ждет, и он ничего не боялся.
Линию железной дороги защищал с обеих сторон кустарник. Иногда в тени кустарника сидели нищие, они либо ели, либо переобувались. Они видели, как с большими скоростями вели поезда торжествующие паровозы. Но ни один нищий не знал, отчего едет сам паровоз. Даже более простое соображение – для какого счастья они живут – тоже не приходило в голову нищим. Какая вера – надежда – любовь давала силу их ногам на песчаных дорогах – ни одному подающему милостыню не было известно. Захар Павлович опускал иногда в протянутую руку две копейки, без рассуждения оплачивая то, чего нищие были лишены и чем он был вознагражден, – понимание машин.
На откосе сидел лохматый мальчик и сортировал подаяние: плесень откладывал отдельно, а более свежее – в сумку. Мальчик был худ, но лицом бодр и озабочен.
Захар Павлович остановился, покуривая на свежем воздухе ранней осени.
– Отбраковываешь?
Мальчик не понял технического слова.
– Дядь, дай копейку, – сказал он, – или докурить оставь!
Захар Павлович вынул пятак.
– Ты небось жулик и охальник, – без зла сказал он, уничтожая добро своего подаяния грубым словом, чтобы самому не было стыдно.
– Не, я не жулик, я побирушка, – ответил мальчик, утрамбовывая корки в мешке. – У меня мать-отец есть, только они от голода скрылись.
– А куда же ты пуд харчей запаковал?
– Домой собираюсь наведаться. Вдруг мать с ребятишками пришла – чего тогда им есть?
– А ты сам-то чей?
– Я отцовский, я не круглая сирота. Вон те – все жулики, а меня отец порол.
– А отец твой чей?
– Отец тоже от моей матери родился – из пуза. Пузо намнут, а нахлебники как из пропасти рожаются, а ты ходи и побирайся на них!
Мальчик загорюнился от недовольства на отца. Пятак он давно спрятал в кисет, висящий на шее; в кисете было еще порядочно медных денег.
– Уморился небось? – спросил Захар Павлович.
– Ну да, уморился, – согласился мальчик. – Разве у вас, чертей, сразу напобираешься? Брешешь-брешешь, аж есть захочешь! Пятак подал, а самому, должно, жалко! Я б ни за что не дал.
Мальчик взял заплесневелый ломоть из кучки порченого хлеба; очевидно, лучший хлеб он сносил в деревню родителям, а плохой ел сам. Это мгновенно понравилось Захару Павловичу.
– Небось отец тебя любит?
– Ничего он не любит – он лежень. Я матерь больше люблю, у нее кровь из нутра льется. Я рубашку ей раз стирал, когда она хворала.
– А отец твой кто?
– Дядя Прошка. Я ведь не здешний...
В памяти Захара Павловича нечаянно встал подсолнух, растущий из дымохода покинутой хаты, и рощи бурьяна на деревенской улице.
– Так ты Прошка Дванов, сукин сын!
Мальчик вывалил изо рта непрожеванную хлебную зелень, но не бросил ее, а положил на мешок: потом дожует.
– А ты нито дядя Захарка?
– Он!
Захар Павлович сел. Он теперь почувствовал время, как путешествие Прошки от матери в чужие города. Он увидел, что время – это движение горя и такой же ощутительный предмет, как любое вещество, хотя бы и негодное в отделку.
Какой-то малый, похожий на лишенного звания монастырского послушника, не прошел мимо своей дорогой, а сел и уставился глазами на двоих собеседников. Губы у него были красные, сохранившие с младенчества одутловатую красоту, а глаза смирные, но без резкого ума, – таких лиц не бывает у простых людей, привыкших перехитрять свою непрерывную беду.
Прошку взволновал прохожий – особенно своими губами.
– Чего губы оттопырил? Руку мою поцеловать хочешь?
Послушник поднялся и пошел в свою сторону, про которую и сам точно не знал – где она находится.
Проша это сразу почуял и сказал вслед послушнику:
– Пошел. А куда пошел – сам не знает. Поверни его, он назад пойдет: вот черти-нахлебники!
Захар Павлович немного смущался раннего разума Прошки – сам он поздно освоился с людьми и долго считал их умнее себя.
– Прош! – спросил Захар Павлович. – А куда девался маленький мальчик – рыбацкая сирота? Его твоя мать подобрала.
– Сашка, что ль? – догадался Прошка. – Он вперед всех из деревни убег! Это такой сатаноид – житья от него не было! Украл последнюю коврижку хлеба и скрылся на ночь. Я гнался-гнался за ним, а потом сказал: пускай, и ко двору воротился...
Захар Павлович поверил и задумался.
– А где отец твой?
– Отец в отход ушел. А мне все семейство кормить наказал. Набрал я по людям хлеба, пришел на свою деревню, а там ни матери, ни ребят. А заместо народа крапива в хатах растет...
Захар Павлович отдал Прошке полтинник и попросил наведаться еще, когда будет в городе.
– Ты бы мне картуз отдал! – сказал Прошка. – Тебе все равно ничего не жалко. А то мне голову дожди моют, я могу остудиться.
Захар Павлович отдал фуражку, сняв с нее железнодорожный значок, который ему был дороже головного убора.
Прошел поезд дальнего следования, и Прошка поднялся поскорей уходить, чтобы Захар Павлович не отнял обратно денег и фуражки. Картуз Прошке пришелся на лохматую голову как раз, но Прошка его только померил, а затем снял и завязал в сумку с хлебом.
– Ну, прощай, иди с Богом, – сказал Захар Павлович.
– Тебе хорошо говорить – ты всегда с хлебом, – упрекнул Прошка. – А у нас и того нет.
Захар Павлович не знал, что дальше сказать, – денег у него больше не было.
– Намедни я Сашку в городе встретил, – проговорил Прошка. – Тот, идол, совсем скоро издохнет: никто ему ничего не подает, он побираться не смел. Я ему дал порцию, а сам не ел. Ты небось мамке его подкинул – теперь давай денег за Сашку! – кончил Прошка серьезным голосом.
– Ты Сашку как-нибудь ко мне приведи, – ответил Захар Павлович.
– А что дашь? – заранее спросил Прошка.
– Получка будет – рублевку дам.
– Ладно, – сказал Прошка. – Это я тебе его приведу. Только ты его не приучай, а то он тебя охомутает.
Прошка пошел не туда, где была дорога на его деревню. Наверно, у него имелись свои расчеты и свои дальновидные планы на хлебные доходы.
Захар Павлович последил за ним глазами и с чего-то усомнился в драгоценности машин и изделий выше любого человека.

Прошка уходил все дальше, и все жалостней становилось его мелкое тело в окружении улегшейся огромной природы. Прошка шел пешим по железной дороге – по ней ездили другие; она его не касалась и не помогала ему. Он смотрел на мосты, рельсы и паровозы одинаково безучастно, как на придорожные деревья, ветры и пески. Всякое искусственное сооружение для Прошки было лишь видом природы на чужих земельных наделах. Посредством своего живого рассуждающего ума Прошка кое-как напряженно существовал. Едва ли он полностью чувствовал свой ум – это видно из того, что он говорит неожиданно, почти бессознательно и сам удивляется своим словам, разум которых выше его детства.
Прошка пропал на закруглении линии – один, маленький и без всякой защиты. Захар Павлович хотел вернуть его к себе навсегда, но далеко было догонять.
Утром Захару Павловичу не так хотелось идти на работу, как обыкновенно. Вечером он затосковал и лег сразу спать. Болты, краны и старые манометры, что всегда хранились на столе, не могли рассеять его скуки – он глядел на них и не чувствовал себя в их обществе. Что-то сверлило внутри его, словно скрежетало сердце на обратном, непривычном ходу. Захар Павлович никак не мог забыть маленького худого тела Прошки, бредущего по линии в даль, загроможденную крупной, будто обвалившейся природой. Захар Павлович думал без ясной мысли, без сложности слов, – одним нагревом своих впечатлительных чувств, и этого было достаточно для мучений. Он видел жалобность Прошки, который сам не знал, что ему худо, видел железную дорогу, работающую отдельно от Прошки и от его хитрой жизни, и никак не мог понять – что здесь отчего, только скорбел без имени своему горю.
На следующий день – третий после встречи Прошки – Захар Павлович не дошел до депо. Он снял номер в проходной будке и затем повесил его обратно. День он провел в овраге, под солнцем и паутиной бабьего лета. Он слышал гудки паровозов и шум их скорости, но не вылезал глядеть, не чувствуя больше уважения к паровозам.
Рыбак утонул в озере Мутево, бобыль умер в лесу, пустое село заросло кущами трав, но зато шли часы церковного сторожа, ходили поезда по расписанию – и было теперь Захару Павловичу скучно и стыдно от правильности действий часов и поездов.
«Что бы наделал Прошка в моих летах в разуме? – обсуждал свое положение Захар Павлович. – Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы».
Тот теплый туман, в котором покойно и надежно жил Захар Павлович, сейчас был разнесен чистым ветром, и перед Захаром Павловичем открылась беззащитная, одинокая жизнь людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в помощь машин.
Машинист-наставник понемногу перестал ценить Захара Павловича: «Я, – говорит, – серьезно допустил, что ты отродье старинных мастеров, а ты так себе – чернорабочая сила, шлак из-под бабы!»
Захар Павлович от душевного смущенья действительно терял свое усердное мастерство. Из-за одной денежной платы оказалось трудным правильно ударить даже по шляпке гвоздя. Машинист-наставник знал это лучше всех – он верил, что, когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, – тогда наступит конец света, даже хуже конца: после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров.
* * *
Сын любопытного рыбака был настолько кроток, что думал, что все в жизни происходит взаправду. Когда ему отказывали в подаянии, он верил, что все люди не богаче его. Спасся от смерти он тем, что у одного молодого слесаря заболела жена, и слесарю не с кем было оставлять жену, когда он уходил на работу. А жена его боялась одна оставаться в комнате и слишком скучала. Слесарю понравилась какая-то прелесть в почерневшем от усталости мальчугане, нищенствовавшем без всякого внимания к подаянию. Он его посадил дежурить около больной женщины, которая ему не перестала быть милее всех.
Саша целыми днями сидел на табуретке, в ногах больной, и женщина ему казалась такой же красивой, как его мать в воспоминаниях отца. Поэтому он жил и помогал больной с беззаветностью позднего детства, никем раньше не принятого. Женщина полюбила его и называла Александром, не привыкнув быть госпожой. Но скоро она выздоровела, и ее муж сказал Саше: «На тебе, мальчик, двадцать копеек, ступай куда-нибудь».
Саша взял непривычные деньги, вышел на двор и заплакал. Близ уборной, верхом на мусоре, сидел Прошка и копался руками под собой. Он теперь собирал кости, тряпки и жесть, курил и постарел лицом от праховой пыли мусорных куч.
– Ты опять плачешь, гундосый чёрт? – не прерывая работы, спросил Прошка. – Пойди поройся, а я чаю попить сбегаю: нынче соленое ел.
Но Прошка пошел не в трактир, а к Захару Павловичу. Тот читал книгу вслух от своей малограмотности: «Граф Виктор положил руку на преданное храброе сердце и сказал: я люблю тебя, дорогая...»
Прошка сначала послушал – думал, что это сказка, а потом разочаровался и сразу сказал:
– Захар Павлович, давай рубль, я тебе сейчас Сашку-сироту приведу!
– А?! – испугался Захар Павлович. Он обернулся своим печальным старым лицом, которое бы и теперь любила жена, если бы она жива была.
Прошка снова назначил цену за Сашку, и Захар Павлович отдал ему рубль, потому что он теперь был и Сашке рад. Столяр съехал с квартиры на шпалопропиточный завод, и Захару Павловичу досталась пустота двух комнат. В последнее время хотя и беспокойно, но забавно было жить с сыновьями столяра; они возмужали настолько, что не знали места своей силе и несколько раз нарочно поджигали дом, но всегда живьем тушили огонь, не дав ему полностью разгореться. Отец на них серчал, а они говорили ему: «Чего ты, дед, огня боишься – что сгорит, то не сгниет; тебя бы, старого, сжечь надо – в могиле гнить не будешь и не провоняешь никогда!»
Перед отъездом сыновья повалили будку уборной и отрубили хвост дворовому псу.
Прошка не сразу отправился к Сашке: сначала он купил пачку папирос «Землячок» и запросто побеседовал с бабами в лавке. Потом Прошка возвратился к мусорной куче.
– Сашка, – сказал он. – Пойдем, я тебя отведу, чтобы ты больше мне не навязывался.
* * *
В следующие годы Захар Павлович все более приходил в упадок. Чтобы не умереть одному, он завел себе невеселую подругу – жену Дарью Степановну. Ему легче было никогда полностью не чувствовать себя: в депо мешала работа, а дома зудела жена. В сущности, такая двухсменная суета была несчастием Захара Павловича, но если бы она исчезла, то Захар Павлович ушел бы в босяки. Машины и изделия его уже перестали горячо интересовать: во-первых, сколько ни работал он, все равно люди жили бедно и жалобно, во-вторых, мир заволакивался какой-то равнодушной грезой – наверно, Захар Павлович слишком утомился и действительно предчувствовал свою тихую смерть. Так бывает под старость со многими мастеровыми: твердые вещества, с которыми они имеют дело целые десятилетия, тайно обучают их непреложности всеобщей гибельной судьбы. На их глазах выходят из строя паровозы, преют годами под солнцем, а потом идут в лом. В воскресные дни Захар Павлович ходил на реку ловить рыбу и додумывать последние мысли.
Дома его утешением был Саша. Но и на этом утешении мешала сосредоточиться постоянно недовольная жена. Может быть, это вело к лучшему: если бы Захар Павлович мог до конца сосредоточиться на увлекавших его предметах, он бы, наверное, заплакал.
В такой рассеянной жизни прошли целые годы. Иногда, наблюдая с койки читающего Сашу, Захар Павлович спрашивал:
– Саш, тебя ничего не мучает?
– Нет, – говорил Саша, привыкший к обычаям приемного отца.
– Как ты думаешь, – продолжал свои сомнения Захар Павлович, – всем обязательно нужно жить или нет?
– Всем, – отвечал Саша, немного понимая тоску отца.
– А ты нигде не читал: для чего?
Саша оставлял книгу.
– Я читал, что чем дальше, тем лучше будет жить.
– Ага! – доверчиво говорил Захар Павлович. – Так и напечатано?
– Так и напечатано.
Захар Павлович вздыхал:
– Все может быть. Не всем дано знать.
Саша уже год работал учеником в депо, чтобы выучиться на слесаря. К машинам и мастерству его влекло, но не так, как Захара Павловича. Его влечение не было любопытством, которое кончалось вместе с открытием секрета машины. Сашу интересовали машины наравне с другими действующими и живыми предметами. Он скорее хотел почувствовать их, пережить их жизнь, чем узнать. Поэтому, возвращаясь с работы, Саша воображал себя паровозом и производил все звуки, какие издает паровоз на ходу. Засыпая, он думал, что куры в деревне давно спят, и это сознание общности с курами или паровозом давало ему удовлетворение. Саша не мог поступить в чем-нибудь отдельно: сначала он искал подобие своему поступку, а затем уже поступал, но не по своей необходимости, а из сочувствия чему-нибудь или кому-нибудь.
«Я так же, как он», – часто говорил себе Саша. Глядя на давний забор, он думал задушевным голосом: «Стоит себе!» – и тоже стоял где-нибудь без всякой нужды. Когда осенью заунывно поскрипывали ставни и Саше было скучно сидеть дома вечерами, он слушал ставни и чувствовал: им тоже скучно! – и переставал скучать.
Когда Саше надоедало ходить на работу, он успокаивал себя ветром, который дул день и ночь.








