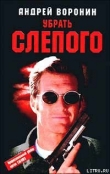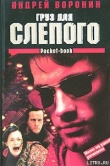Текст книги "Мишень для Слепого"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 6
Федор Филиппович приехал в свой кабинет в немного грустном, задумчивом настроении и сразу же занялся тем, что попытался получить информацию по поддельным стодолларовым банкнотам. Информация оказалась закрытой даже для такого высокого чина ФСБ, как генерал Потапчук. Тогда генерал воспользовался другим каналом, но и там выяснилось, что информация по этому вопросу является закрытой.
«Что за чертовщина? – подумал Потапчук. – Как это информация закрыта для меня, тем более что прошло столько лет! Неужели придется действовать через директора ФСБ?»
А с этим вопросом обращаться к своему начальству Потапчуку не хотелось. Не хотелось копаться в старом.
Но дело, как понимал Потапчук, того требовало. И он, позвонив, записался на прием к директору ФСБ, не объясняя помощнику директора цель своего визита.
В те далекие времена – в середине семидесятых – Комитет государственной безопасности занимался весьма сомнительными делами. Он располагал огромным штатом специалистов, которые изготовляли всевозможные фальшивки – от печатей и паспортов до иностранных валют. Фальшивые деньги тогда делались для экономической диверсии, чтобы в случае чего сбросить огромную партию наличных долларов в экономику своего главного врага – Соединенных Штатов, и вызвать панику на финансовых рынках союзников. И, по сведениям генерала Потапчука, партия фальшивых денег была уничтожена сразу же с началом так называемой перестройки, уничтожена вместе с архивами, вместе с бесценными документами, с клише. По разумению Потапчука, те фальшивые доллары никоим образом не должны были появиться на внутреннем рынке. И скорее всего, они не должны были попасть и на внешний рынок.
Так что в этом деле существовало много загадок.
Одна стодолларовая купюра, случайно обнаруженная гравером, вызвала у генерала Потапчука волну воспоминаний о достославных временах могущественной Советской империи, когда власть здания на Старой площади распространялась на весь мир. Тут же генерал Потапчук вспомнил о деньгах партии, о которых так много писали во всех газетах и которые безуспешно пытались отыскать на счетах зарубежных банков, но так и не нашли.
Вспомнил цепочку самоубийств и необъяснимых смертей тех людей, которые имели доступ к архивам Старой площади и, таким образом, были причастны к деньгам партии.
Потапчук понимал, можно забыть об этой стодолларовой купюре, которая лежит в его бумажнике, не думать о ней и не оглядываться в прошлое. Случайный отголосок долетел до него, и не стоит ждать, когда еще раз аукнется. Но не таким человеком был генерал Потапчук. Если в его руки попадала хоть тоненькая ниточка, он всегда пытался разобраться, куда она ведет и как выглядит клубок, от которого тянется, пристально изучал самый маленький узелок на ниточке.
Но даже генерал Потапчук, человек, облеченный большой властью, не мог представить, куда выведет эта пока еще тоненькая ниточка со стодолларовой банкнотой на конце, одной из многих изготовленных в тысяча девятьсот семьдесят пятом году по заказу хозяев Старой площади большим мастером Иосифом Михайловичем Домбровским.
Потапчук прекрасно понимал, что для экономических диверсий денег должны были напечатать много, очень много, сотни миллионов. Но какова судьба тех денег, он не знал, доступа к информации не было.
«Но кто-то же должен знать все или очень многое о миллионах фальшивых долларов, изготовленных Советским Союзом? Но кто? Кто может знать, почему и откуда сейчас всплыла эта банкнота? Да еще совершенно новенькая с виду, не побывавшая в обороте…»
Поэтому Потапчук и занервничал, попросил своего помощника принести крепкого кофе, закурил сигарету, первую за день. Он глубоко затягивался, выпускал дым, пил горячий кофе и напряженно размышлял, пытаясь докопаться до сути этой истории. В памяти всплывали фамилии, номера телефонов, номера и интерьеры кабинетов, содержание докладных, написанных им самим и другими, которые проходили в то время через руки Потапчука. Приходили на ум и газетные статьи с изобличительными фактами. Удивляло то, как легко и быстро закрывались дела, связанные с самоубийствами высокопоставленных партийных чиновников, управляющих делами Центрального Комитета, и приближенных к ним.
Помощник принес бумаги на подпись, и это отвлекло генерала от его мыслей. Надо было разбираться с документами, а это требовало внимания.
* * *
Поздним сырым вечером, когда на даче уже зажгли в комнатах свет и жарко пылала печка, Иннокентий Васильевич Михалев украдкой посмотрел на часы. До прихода электрички оставалось минут пятьдесят. Его дочь, Анна Иннокентьевна Боброва, сидела на диване, возилась с разноцветными толстыми шерстяными нитками, сматывая их в клубки и складывая в большую корзину.
– Ну что, Анна, я пошел, – сказал Иннокентий Васильевич.
– Сидел бы ты дома! Куда идти – дождь же на улице, ветер. Еще простынешь, потом с тобой возни… Вези тебя в Москву, врачей вызывай, хлопот не оберешься.
– Нет, я пойду, – твердо произнес Иннокентий Васильевич и постучал палкой по полу.
– Делай что хочешь! С тобой никакого сладу. И мама с тобой не могла договориться, и меня ты не слушаешь. А как что случится, так я всегда во всем виновата.
Один ты у нас правильный!
– Ладно, не ворчи. Вся в мать пошла. Та тоже мне жизни не давала, вечно ныла: куда идешь, зачем идешь, не ходи, не встречайся с этими, не пей с теми, не ешь, не кури, сахара много в чай не сыпь… Не мог и не могу я так жить!
– Зато, папа, благодаря этому ты до сих пор жив-здоров, – из-под очков взглянула на отца дочь.
И может, только сейчас она заметила, какой старый у нее отец. А ведь раньше он всегда казался ей крепким и молодым. Да, перед ней сидел настоящий старик, неухоженный, с седой щетиной на щеках, с мятым, неопрятно замотанным шарфом на шее, несуразно худой и длинный.
В комнату вошел сын Анны Иннокентьевны.
– Что, дед, опять на станцию потянешься?
– Да, Коленька, пойду. Не сидеть же мне дома сложа руки!
– И что ты там забыл? Ходишь туда, как неприкаянный, каждый день. И кого ты, там встречаешь?
– Мое дело.
– Надоело, – выдохнула дочь.
– Не тебя же гоняю.
– Поступай как хочешь, но толку от твоего хождения никакого.
– Это как посмотреть!
– И что ты там только высматриваешь?
– Знаю, зря бы не ходил…
Иннокентий Васильевич принялся натягивать теплую куртку, поверх которой надел длинный плащ с капюшоном. Зонты Иннокентий Васильевич Михалев не любил патологически. Он сгорбившись остановился в прихожей, зная, что сейчас его еще раз попробуют уговорить родные. Месяц назад Иннокентию Васильевичу исполнилось семьдесят четыре. Глядя на этого дряхлого старика, вряд ли кто-нибудь из не знавших его раньше мог предположить, что еще лет двадцать-тридцать назад это был красивый, сильный человек, с которым считались и которого уважали такие лица… Но те фамилии сейчас не принято называть с душевным трепетом. И вообще люди типа Михалева предпочитают не афишировать то, чем они занимались последние тридцать лет.
Афишировать не любят, но повспоминать наедине или в тесном кругу друзей-соратников, это – пожалуйста.
А тогда, в те незабвенные времена, Иннокентий Васильевич Михалев, великолепный химик, работал под патронажем Комитета государственной безопасности.
Химик Михалев, или, как его называли, «специалист», занимался изготовлением разнообразных красителей – тех, которые использовались при печатании фальшивых документов, фальшивых денег и всего прочего, необходимого для конспиративной работы за границей.
В своем деле Иннокентий Васильевич был докой, имел несколько наград и кроме зарплаты регулярно получал премии в конвертах. Так что он мог себе позволить жить безбедно, никого и ничего не боясь, мог обеспечить себе не только настоящее, ставшее теперь прошлым, но и, как он тогда надеялся, будущее, обернувшееся для него теперь днем сегодняшним. Правда, тогда никто, и он в том числе, не мог предположить, что вся империя, выстроенная с размахом, держащаяся на тотальном страхе, в одночасье рухнет.
Тогда почти все, даже диссиденты, верили в незыблемость и мощь огромного государства, в бессмертие КПСС, членом которой, как положено, являлся доктор химических наук Иннокентий Васильевич Михалев.
И вот все рассыпалось в прах. Коммунистические идеалы стали объектом насмешек, прежних героев развенчали, а былые заслуги перед родиной считаются едва ли не позором. Старик Михалев не мог смириться с этой новой жизнью, он не находил в ней себе места.
– Не ходил бы ты, отец, никуда! Посиди, почитай газеты, журналы, посмотри телевизор, – привычно говорила ему дочь, когда он собирался идти на станцию.
– Не могу я смотреть на все это дерьмо! Такую державу развалили, мерзавцы, а вы еще этому смеете радоваться при мне!
– Никто не радуется, дед! – встревал в разговор внук Николай. – Сама она развалилась, никто ее и пальцем не трогал.
– Не трогал… Не трогал… – бурчал Иннокентий Васильевич. – Идите вы все в задницу!
В последние годы Иннокентий Васильевич стал несносен: сделался сварливым, скандальным, готовым взорваться из-за любой мелочи. То суп ему не тот приготовили, то котлеты не прожарены, то каши не хочет, подайте блинчики… А разносолы сейчас дороги. И о чуть ли не бесплатных спецпайках, которые Иннокентий Васильевич приносил домой, можно лишь вспоминать, сглатывая слюну.
Еще немного потоптавшись и зло взглянув на стрелки ходиков, Михалев взял в руки свою палку, с которой в последнее время был неразлучен, и, остервенело хлопнув дверьми, вышел. На веранде его уже ждал рыжий сеттер, такой же старый и глуховатый, как хозяин.
Пса звали Бальтазар. Он был ровесником Николая.
Атому в этом году исполнилось девятнадцать. В армию Николай не пошел, честно сославшись в семье на свои пацифистские убеждения и раздобыв справку о психическом расстройстве – наследственном, что вызывало у деда неизменное раздражение и ярость.
– Кто родину будет защищать?! – кричал старик и стучал костлявым кулаком по столу. – Я, что ли? Так я свое уже родине отдал!
– Ну и кому это было нужно? – язвил Николенька, положив под столом руку на колено своей девушке, с которой он не расставался уже целый год.
– Всем, всему миру!
– Что-то не видать плодов твоих усилий, дед.
– А ты посмотри вокруг, сколько всего при коммунистах построили! А твои дерьмократы только и умеют, что красть, для народа у них денег нет!
– Не надо ссориться, – обычно говорила девушка Николая.
Сейчас Светлана жила у них на даче. Она вышла в гостиную, устроилась рядом с будущей свекровью на диване, поджала под себя ноги и, взглянув на хлопнувшую дверь, на Николая, тихо сказала:
– Что вы к нему цепляетесь? Нормальный старик.
Хочется – пусть идет. Кому от этого плохо? Воздухом подышит.
– Будто здесь с нами он водой дышит, – не выдержал Николай.
– Пусть идет, меньше крика, целей нервы…
– Идет, идет… – сказала Анна Иннокентьевна. – Он как пойдет, потом его три дня будешь искать. Однажды сел в электричку и заехал в Смоленск.
– Как это, заснул, что ли? – разволновалась Светлана, словно это произошло только что.
– А кто его знает как! Хорошо, что там милиция сняла его с поезда и выяснила, кто он да откуда. Документы он при себе не носит, хотя я ему все время говорю: носи документы, пусть при тебе будут! А он ни в какую, конспиратор этакий. Да бог с ним. Коленька, поставь чайник.
Попьем с вареньем чайку, съедим по куску пирога и станем смотреть телевизор, дожидаясь, пока, дед вернется.
А дед тем временем еще топтался на веранде. Рядом крутился Бальтазар, радостно размахивал хвостом, вертел головой. Его длинные лохматые уши мотались, как рукавицы на веревочке.
– Пойдем, пойдем. Ну их всех к бесу? Смотря! эту ерунду, мелодии сидят угадывают. Тупицы несчастные, лучше бы книги читали!
Пес понимающе тявкнул.
На веранде лежали яблоки. От них шел характерный для осени аромат, густой и терпкий, будоражащий воображение и воспоминания. Яблок было невероятное количество, они лежали на подоконниках, в корзинах, в старых ведрах и даже в детской оцинкованной ванночке, в ней давным-давно купали Николеньку, который вырос настоящим бездельником и дураком, как считал дед. Однако при всем своем скверном характере внука он любил. Именно на Николеньку была оформлена московская квартира Иннокентия Васильевича, старая «волга» и эта двухэтажная дача, требовавшая большого ремонта, на который, естественно, не имелось денег.
Михалев двинулся по тропинке, выложенной бетонными плитками. Пес старческой трусцой побежал впереди хозяина. А Иннокентий Васильевич шел, сердито стуча палкой по бетонным плитам. Настроение было никудышным, таким оно держалось у него постоянно – в последние несколько лет. Лишь изредка он брал в руки книги и то лишь те, которые когда-то уже читал, зная наперед, что они не принесут ему разочарований и огорчений. Газеты он не читал принципиально, телевизор смотреть не любил, особенно новости. Глаза от телевизора и от увиденного на экране начинали слезиться.
Постоянно живя на даче, раз в полгода, а иногда и чаще, Иннокентий Васильевич отправлялся в Москву, где переписывал завещание, постоянно меняя его содержание.
– Бальтазар! Бальтазар! Куда ты, сволочь, побежал?
Сеттер приблизился к хозяину. Они так и брели под мелким дождем – старый рыжий пес, потемневший от дождя, и старик в длинном плаще, в резиновых сапогах, в кепке, с толстой палкой в костлявых руках.
До станции было километра полтора, и Михалев преодолевал это расстояние за полчаса. Он шел, наверняка зная, что успеет к прибытию электрички. Кого он встречал и зачем ходил на станцию, никто в дачном поселке не знал. А когда его начинали расспрашивать дочь или внук, он злился, сверкал глазами, брызгал слюной и кричал:
– Кто вы такие? Почему я должен перед вами отчитываться? Я человек солидный и знаю, что делаю. Я человек уважаемый.
– Да, да, конечно же, папа, ты всеми уважаемый.
Только скажи, зачем ты ходишь на станцию? Кого ждешь? Зачем это все?
– Не ваше дело, не вашего ума. Если хожу, значит, так надо.
– Кому надо? – спрашивал внук.
– Не твое собачье дело! Пацифист долбаный! Лучше бы книги читал, в университет готовился. А то занимаешься неизвестно чем. Эти куртки, заклепки… Никогда ты, Николай, человеком не станешь.
– Человеком? А что такое, по-твоему, человек?
– Не станешь таким, как я.
– А я, дед, и не хочу быть таким, как ты. Я хочу быть таким, как я.
– Никаким ты не будешь! – в сердцах бросал дед внуку и устрашающе топал ногами, словно Николенька был не двадцатилетним парнем, а ребенком, и грозный вид взрослого мог на него подействовать, заставить вести себя хорошо.
Обо всем этом и многом-многом другом думал каждый вечер Иннокентий Васильевич Михалев по дороге на станцию. Вот и сейчас он ступил на мостик через неширокую, но очень глубокую и быструю речку. А от мостика до станции оставалось метров пятьсот – через речку и на горку. Он уже слышал гудки поездов, которые проносились, не останавливаясь на маленькой станции Луговая.
Дорога пошла в гору – грязная, липкая. Бальтазар трусил сбоку по пожухлой траве, а старик шел прямо посередине колеи.
– Асфальт никак не положат, – бурчал он, – столько людей здесь ходит, а никому дела нет.
В свое время он договаривался на котельной местного профилактория, и каждую весну на раскисшую дорогу вываливали пару самосвалов шлака, но вот уже два года как сменился заведующий профилакторием, и идти Михалеву было не к кому.
Он пришел, как всегда, минут за пять до прибытия электрички. Побродил по перрону, заглянул в маленький зал ожидания.
Кассирша, сидевшая за решетчатым окошком, ехидно усмехнулась, увидев «постоянного посетителя», и вновь занялась своими делами. В зале никого из ожидающих электрички не было, и Михалев вышел на перрон. Он поднял воротник плаща и стал смотреть в ту сторону, откуда должна была появиться электричка.
Вначале он услышал гудок, затем увидел слепящий свет прожекторов, и уже через пару минут электричка, открыв двери, стояла у перрона.
Никто в нее не входил. Из вагонов вышло несколько человек. У края перрона стояла легковая машина. По огоньку сигарет старик Михалев понял, что в машине сидят двое. Из знакомых никто не приехал, и Михалев, послонявшись еще пару минут по перрону после того, как электричка умчалась, позвал пса и отправился назад. По дороге он поостыл и теперь думал о дочери и внуке почти с умилением, но все равно они казались ему хуже Светы, которая обычно и прекращала ненужные споры.
Когда он спустился под гору и уже видел Мост через реку, его сердце сжалось в каком-то дурном предчувствии. Он подозвал Бальтазара. Тот подошел и стал тереться мокрым боком о длинную полу плаща.
Иннокентий Васильевич наклонился, потрепал пса по холке и тихо сказал:
– Иди рядом со мной. Понял? Рядом!
Но безалаберный пес был сам себе хозяин и обогнал старика. Михалев спустился по склону и ступил на мокрые широкие доски моста с невысокими перилами.
Мост был старый, держался на толстых дубовых сваях.
Почти каждый год его ремонтировали дачники и жители соседних деревень. На дачи можно было попасть двумя путями. Один длинный, километров пять, – объезд через деревню по настоящему каменному мосту. И другой – напрямик – от станции через лесок. Этой дорогой Михалев всегда и ходил.
Он осторожно шел по скользкому настилу, держась левой рукой за перила, а правой крепко сжимая суковатую палку.
«Приду, попью горячего чая. Как бы не простыть», – поправляя шарф на морщинистой длинной шее, подумал Иннокентий Васильевич.
С другой стороны на мост поднялся широкоплечий мужчина в короткой коричневой куртке и серой кепке.
На середине моста мужчина остановился, вытащил из кармана пачку сигарет, зажигалку и стал, повернувшись спиной к ветру, раскуривать сигарету. Бальтазар подбежал к мужчине, несколько раз гавкнул на него своим несильным старческим лаем и потрусил дальше.
Иннокентий Васильевич брел по мосту, постукивая палкой о доски. Когда он поравнялся с мужчиной, тот приветливо улыбнулся:
– На станцию этой дорогой пройду?
– Пройдете, – ответил Иннокентий Васильевич.
Мужчина посторонился, пропуская его.
Иннокентий Васильевич сделал шаг вперед и ,в этот момент почувствовал сильный удар по голове. Он охнул, качнулся, но удержался на ногах. Мужчина взмахнул рукой и еще дважды ударил Михалева по голове завязанной в тряпку короткой тяжелой монтировкой; Старик вновь качнулся и начал медленно оседать.
Мужчина дождался, когда Михалев опустится на колени, и перевалил его через перила моста. Через секунду послышался всплеск воды, и тело старика в длинном плаще исчезло в темной глубине, уносимое течением.
Под мостом глубина была метра два, а дальше река делала поворот. Туда, где был небольшой плес, она и понесла безжизненное тело Иннокентия Васильевича.
Сеттер уже добежал до конца моста. Почуяв беду, он развернулся и прыжками – как давным-давно в молодости – бросился на помощь хозяину. Мужчина сунул руку за пазуху, вытащил пистолет с коротким глушителем.
Раздалось три выстрела. Пес забился в агонии. Мужчина, продолжая курить сигарету, некоторое время смотрел на него, затем подошел и, боясь испачкать ботинок в крови, столкнул собачье тело ногой в реку.
– Вот так-то лучше будет: и пес, и хозяин – жили вместе, вместе и поплыли, – сказал он, оглядевшись по сторонам.
Вокруг не было ни души. Убийца щелчком отправил сигарету в реку. Проследил, как она летит, похожая на падающую звезду, и стремительно гаснет, коснувшись воды, и бегом направился к станции.
Доски моста еще вибрировали, а он уже поднимался на пригорок, большими прыжками преодолевая раскисшие под дождем участки дороги. На станции он быстро подошел к стоящим у края перрона «жигулям», опустился на заднее сиденье.
– Порядочек! Я сделал все очень чисто.
– Ладно, не хвались, – откликнулся мужчина, сидевший рядом с водителем, и принялся вертеть ручку настройки приемника. – Трогай, Илья.
«Жигули» подались назад, развернулись на площадке и помчались в сторону Москвы под разухабистое пение Маши Распутиной. Все трое были довольны: одно дело они сделали.
* * *
Назавтра, во второй половине дня, на даче Иннокентия Васильевича Михалева зазвонил телефон. Трубку снял Николай и услышал незнакомый мужской голос:
– Пригласите, пожалуйста, к телефону Иннокентия Васильевича, если можно.
– Вы знаете… Он как ушел вчера вечером, так что-то пока еще не вернулся.
– А кто это говорит?
– Его внук Николай.
– Хорошо, Николай, передай привет дедушке.
Спросить, кто звонит и от кого привет, Николай не успел. В трубке раздались короткие гудки.