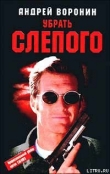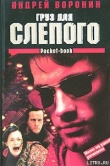Текст книги "Мишень для Слепого"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава 2
Дача старого генерала Лоркипанидзе стояла на отшибе недалеко от леса. Ворота, как всегда, оказались закрытыми, а вот небольшая калитка, точно приглашая Глеба войти во двор, была распахнута. Сиверов прошел по еле обозначенной в жухлой осенней траве тропинке и остановился возле крыльца. Понять, что дома хозяина нет, было не сложно. Несмотря на прохладную погоду, все окна в доме раскрыты настежь, ветер раскачивал занавески, то забрасывал их в дом, то вытаскивал на улицу.
Зная пристрастие генерала к свежему воздуху, Сиверов сообразил, что тот пошел прогуляться, оставив дом проветриваться. Из окна кухни выглянула пожилая опрятная женщина, домработница генерала. Она большую часть времени проводила в Москве, занимаясь просторной квартирой своего хозяина, в которой генерал сам почти не бывал. Во всяком случае, даже выбираясь в город, ночевать Лоркипанидзе неизменно возвращался на дачу. Глеба домработница видела всего несколько раз, но, поскольку гостей у генерала бывало не так уж много, запомнила его.
Вытирая руки о влажное полотенце, она сказала:
– Вы не волнуйтесь, с Амвросием Отаровичем все в порядке.
Глеб и в самом деле несколько обеспокоился, увидев домработницу, ведь обычно генерал обходился на даче своими силами.
– Я приезжаю сюда только тогда, когда у генерала накапливается стирка, – добавила женщина.
– А где Амвросий Отарович?
– Вы бы в дом вошли.
– Хотелось бы поскорее его увидеть.
– Спешите?
– Не совсем.
Домработница исчезла из окна. Затем она появилась уже на крыльце, успев по дороге поправить прическу.
– Вон туда идите, – привстав на цыпочки и придерживаясь рукой за столбик навеса, домработница указала на реку. Глеб увидел неподалеку от камышей деревянную лодку, в которой сидел седовласый генерал с удочками в руках.
– Хорошо, спасибо. – По взгляду женщины Глеб догадался: ей бы не хотелось, чтобы Лоркипанидзе возвращался вместе с Глебом в дом-, уж очень много дел набралось по хозяйству и не так-то удобно заниматься уборкой, когда в доме гости. – Мы спим побудем на реке, так, наверное, лучше, – сказал Сиверов.
Домработница ответила ему благодарной улыбкой, но из вежливости возразила:
– Зачем, вы мне не помешаете.
– Я давно не был на природе.
«Какой все-таки милый молодой человек, – подумала старушка о сорокалетнем Глебе Сиверове, – а главное – предупредительный».
Глеб шел по густой сухой траве, ощущая, как пружинит под ногами влажная земля. На лужайке перед леском, отделявшем речку от домов, паслись две ухоженные сытые коровы и стреноженный конь. И хоть Глеб родился и вырос в городе, он ощутил, как кольнуло сердце от здешней красоты, от размеренности и спокойствия жизни. Если раньше он временами подтрунивал над старым генералом, что тот предпочитает деревню городу, то теперь сам пожалел, что все свое свободное время, такое нечастое, проводит в Москве или других крупных городах, где невозможно отдохнуть по-настоящему. Там что ни делай, время проносится стремительно, подчиняясь бешеному темпу жизни. А тут, в деревне, хоть и расположенной совсем близко от столицы, минуты растягиваются в часы, часы – в дни. И пара суток, проведенных на природе, равноценна неделе отдыха в большом городе.
Глеб двинулся напрямую через лес, стремясь как можно скорее оказаться у реки. Он раздвигал руками заросли орешника и малины, пригибался под большими нависшими над головой ветками. Лесок кончился внезапно, и Сиверов оказался на небольшом обрывчике, выходившем к реке. Внизу желтел мелкий песок подмытого в излучине реки берега.
Генерал сидел в лодке к Глебу спиной, нахохлившись, такой же неподвижный, как и поплавки на спокойной в заводи воде. Сиверову казалось неуместным нарушить этот покой, он просто не имел права грубо в него вторгаться, прерывать чужие мысли, не зная, о чем человек думает. Сиверов опустился на корточки, достал сигарету и щелкнул зажигалкой. Язычок пламени отклонился к реке, повинуясь легкому дуновению ветра. Глеб с удовольствием глубоко затянулся. Сигаретный дым стек с обрыва и поплыл над водой.
Сиверов докурил сигарету до середины, когда первое легкое облачко дыма достигло лодки. Почуяв дым, Амвросий Отарович недовольно обернулся. Он уже битых три часа искал причину, почему нет клева, И вот теперь появлялось приемлемое для рыбацкого самолюбия объяснение: рыба не ловится потому, что здесь ходят чужие.
Но при виде Глеба Сиверова, который спокойно сидел на корточках на верху невысокого обрыва, будто бы устроившись тут с самого утра, Лоркипанидзе расхохотался:
– Ax, вот кто припожаловал! – и принялся без всякого сожаления сматывать удочки.
А потом, стараясь не показывать, что это удается ему с трудом, вытащил самодельный якорь из воды, забросил его в лодку и взялся за весла.
– Встречай!
– Счастливый вы…
– Кто тебе не дает такого счастья?
Когда лодка ткнулась носом в берег, Глеб подхватил ее за веревку и наполовину вытащил из воды. Генерал обнял Сиверова, затем, засуетившись, стыдливо прикрыл пустое ведро для рыбы куском брезента.
– А где Ирина? Где Анечка? Наверное, ждут в доме?
Что же ты не привел их сюда, к реке?
Глеб неопределенно пожал плечами.
– Один я приехал, Амвросий Отарович.
– Что ж так? Поссорились? – насторожился генерал. – Или у тебя дело какое-нибудь секретное?
– Вы не поверите, – ответил Сиверов, помогая генералу привязать лодку к склонившемуся над водой дереву, – но дел у меня сейчас никаких. Абсолютно! Свободен, как птица в полете.
– Свободен, как птица? – иронично улыбнулся генерал. – Ей, чтобы лететь, крыльями махать надо.
– А я парю в полете, – ответил шуткой на шутку Глеб.
– Смотри мне! Ас Ириной вы что же, поругались?
– Нет. Именно для того, чтобы не поругаться, я и уехал.
– Тоже резонно, – проговорил генерал, игнорируя поданную Глебом руку и сам взобрался на осыпающийся песчаный откос. – Только такой отдых, как у тебя, до добра не доведет. Отдыхать с семьей надо. Что ж, пошли в дом. Если дел у тебя никаких, то поможешь мне дрова пилить.
– В самом деле? – изумился Глеб.
– А что ж ты думал? Человеку всегда работать надо, когда головой, а когда и руками. Да ладно, шучу, – рассмеялся Лоркипанидзе, – дрова-то мне как раз и не привезли. Мерзну. Но ничего, приезжай через неделю.
Целая машина прибудет, мы ее с тобой за пару дней перепилим, поколем, сложим и высушим.
– Дома у вас уборка, – не хотелось бы мешать. Может, прогуляемся?
– Э, нет, гостя всегда в дом надо вести.
– Мешать будем, – запротестовал Сиверов.
– Мой дом – это все, что находится за забором, – усмехнулся Лоркипанидзе. – Посидим с тобой во дворе, костер разложим. Небось, ты, Глеб, забыл, как дрова выглядят?
– Вы же говорили, дров нет.
– Для печки и для камина нет, а для шашлыков у меня отложены.
Вскоре они уже сидели под большим навесом, где был сооружен каменный очаг с расположенной над ним жестяной вытяжкой дымохода. Тут же, в углу, аккуратным штабелем лежали сухие дрова – совсем немного.
Генерал забросил их на решетку очага.
– Видишь, Глеб, последних дров на тебя не жалею.
С другом всегда нужно при огне сидеть.
– Даже в жару?
– Не передергивай, дурная привычка.
Генерал поджег сложенную газету. Языки пламени лизнули дрова, потянулись к дымоходу. Сиверову показалось, что генерал с садистским удовольствием следит за тем, как огонь пожирает газету, переполненную плохими новостями. Его удивляло, что Амвросий Отарович почти никогда не говорит с ним о современной политике, о нравах, воцарившихся в сегодняшнем мире. Хотя поводов для ворчания у генерала Лоркипанидзе было не меньше, чем у любого другого старика.
– Вам нравится сегодняшняя жизнь? – задал провокационный вопрос Глеб.
Генерал досмотрел, как огонь уничтожил газету, и только после перевел взгляд на Глеба.
– Чья – твоя или моя?
– Вообще наша, страны.
– Вообще жизни не бывает, – Лоркипанидзе сел за стол напротив гостя и положил перед собой морщинистые руки. Под желтоватой пергаментной кожей проступали вздутые вены. – Вообще жизни не бывает, – наставительно повторил генерал, – и если кому-то стало плохо, значит, кому-то сделалось хорошо. Понимаешь, Глеб, – он сузил глаза, – у каждого человека несколько жизней…
Сиверову на какое-то мгновение показалось, что генерал сам не понимает, о чем говорит. И он решил уточнить:
– Несколько? Вы обратились в буддизм?
– Сейчас объясню, только спешить не надо.
Амвросий Отарович взял в руки перочинный нож и провел им неглубокую бороздку на серых досках стола, за которым наверняка никто давно не сидел. Потом отложил нож и, словно в забытьи, стал смотреть в очаг.
Вскоре огонь разгорелся вовсю, генерал Лоркипанидзе протянул к нему руки, желая их согреть. Глебу не было прохладно, но он не ощущал тепла, исходившего от пламени. Глеба согревал один вид огня.
– Жалеть, Глеб, ни о чем нельзя, – наконец нарушил молчание Амвросий Отарович. – Жалеют только те, кто ничего не сумел совершить в своей жизни. И если случилось что-то не совсем так, как тебе хотелось бы, то не бейся головой о стенку, а воспринимай это как должное.
Линии, начерченной на столе, пока так и не было никакого объяснения. Сиверов взял нож и его острием аккуратно смахнул со стола стружечку за стружечкой, напоминая хозяину, что пора бы и продолжить беседу.
– Да, вот именно, – спохватился Амвросий Отарович и принял от Глеба перочинный нож с остро отточенным лезвием. Провел поперек длинной линии несколько коротких. – У каждого человека не одна жизнь.
Мы все умираем каждый раз, когда меняется мир вокруг пас. То, например, что вчера считалось постыдным, сегодня возносится в ранг добродетели.
– Неужели, Амвросий Отарович, вы считаете, что человек может измениться полностью?
– И не один раз. Глеб, пойми одну парадоксальную и вместе с тем очевидную вещь: в каждом человеке живет не один, а несколько… Как бы их назвать лучше…
Скажем, индивидов. Один – это тот, которым ты видишь себя изнутри. Другой – тот, которого видят люди со стороны. Может, я говорю слишком путано?
Глеб покачал головой:
– Нет. Как раз сегодня я подумал почти о том же самом.
– Ну вот и отлично. Значит, ты прекрасно понимаешь меня. И согласись, Глеб, понимать чувствами – это значительно больше, чем понимать разумом. Говорить чувствами – больше, чем словами. На этот раз и чувства, и разум существуют в одной плоскости. Поверь мне, Глеб, я сегодняшний – уже пятый или шестой в своей жизни.
– А когда вы изменились в первый раз?
– Изменился – это плохое слово, – поправил Сиверова генерал Лоркипанидзе, запустив пальцы в седую шевелюру, – есть в нем что-то от измены, предательства, будто бы я бросил себя прежнего.
– И все же?
– Первый раз, – Амвросий Отарович вонзил острие ножа в доски стола, – конечно же, война, Глеб. Она переделала меня полностью.
– Отец не очень-то любил рассказывать о войне, – задумчиво произнес Глеб.
– А я часто рассказывал тебе о ней?
Глеб молчал.
– Да и ты, думаю, и словом не обмолвился Ирине о том, что тебе пришлось пережить на войне?
– Та война и вчерашний Афганистан – абсолютно разные вещи, – убежденно сказал Глеб.
– Э, нет, погоди. Война – всегда война. Иначе они бы не назывались одним и тем же словом. Нельзя же назвать ненависть и любовь одним словом?
Сиверов в сомнении пожал плечами.
– Возможно. Выходит, у меня еще многое впереди?
– Могу пожелать тебе еще две, три, четыре жизни – сколько хочешь.
– Пока что я изменился только один раз, но зато очень круто.
– И кстати, заметь, Глеб, сделала это та же война.
– По-моему, я близок к тому, чтобы второй раз изменить свою судьбу.
– В третий, Глеб, в третий. По-моему, ты, Глеб, хоть и поверил мне, но все равно то ли не до конца разобрался, то ли напуган. Никак не пойму!
– Да нет, Амвросий Отарович, напугать меня сложно.
– В этом нет ничего страшного. Это как рождение, детство, юность, зрелость, старость, смерть – также натурально и естественно.
– А когда вы изменились во второй раз?
В глазах Амвросия Отаровича зажглись лукавые огоньки.
– После войны, когда занялся настоящим делом. Но до этого я попал в одну забавную ситуацию в самом конце войны Ты же можешь представить себе, что больших денег тогда ни у кого не было. И тут-то я несказанно, сказочно разбогател.
– Что, захватили немецкие обозы с золотыми слитками? – хмыкнул Сиверов.
– Нет, обошлось без слитков. Но у меня был миллион или даже больше рублей. Я сам себе казался крезом…
Сиверов недоверчиво покосился на генерала Лоркипанидзе, зная его абсолютно равнодушное отношение к деньгам.
– Да-да, именно поэтому деньги мне сейчас и безразличны. Я понял тогда, что это просто бумажки, в которые можно верить, а можно и не верить, – генерал принялся затирать большим пальцем левой руки царапину, проведенную ножом на столе.
Догорело и рассыпалось углями последнее полено.
Генерал оживленно потер ладони.
– Что-то я тебя все байками кормлю. Нужно чего-нибудь перекусить.
Он быстро отправился в дом и вернулся с небольшим пластиковым ведерком, наполненным маринованным, уже порезанным мясом. В другой руке он держал бутылку коньяка и шампуры. Разворошив кочергой угли, генерал ловко нанизал на шампуры мясо и устроил их над жаром.
– Ты присмотри пока за шашлыками, – попросил он Глеба, – а я, если ты не против, расскажу, как меня чуть не погубили большие деньги.
Глеб устроился перед очагом на невысоком, сбитом из досок табурете и время от времени ворочал шампуры, когда мясо начинало подрумяниваться. То и дело с шашлыков срывались капли жира, вспыхивали яркими огоньками на тлеющих углях, будоража аппетит.
– Это случилось в сорок четвертом году, – генерал Лоркипанидзе говорил так, будто обращался к далекому собеседнику, с которым его разделяло не расстояние, а годы. – Мы воевали в Восточной Пруссии…
– В каких вы войсках служили? – поинтересовался Сиверов, – Не в тех, о которых ты подумал, – генерал почему-то чуть обиделся, – к СМЕРШу я не имел никакого отношения. Артиллерия, командир орудия. Нам, можно сказать, повезло, хотя на войне, как ты понимаешь, везет всегда за счет кого-то другого. Не знаю уж, сколько людей погибло из-за того, что мне никто не приказал всерьез рискнуть жизнью. Когда штурмовали Кенигсберг, наша батарея стояла неподалеку от маленького городка с забавным названием Раушен.
– Кажется, это переводится как «шум листвы»?
– Да, именно так объясняли местные жители это название. Восточная Пруссия и падение Кенигсберга были чем-то вроде репетиции победы, Берлин в миниатюре. И настроение соответственное, будто мы окончательно разбили немцев. Была иллюзия, что война закончилась. Мир и наступил для нас, правда ненадолго.
Море, красивый чистый город, абсолютно не тронутый войной, из которого убежали почти вес жители. Курорт.
Здесь располагались в основном загородные дома политиков, финансовых воротил, военных. Стояли санатории, принадлежащие Вермахту, госпиталя. Мы вошли в этот еще живой с виду, но уже лишенный прежней жизни город. Это может показаться странным, но в Раушене не оказалось из наших ни одного старшего офицера – всем заправляли лейтенанты. Мы на какое-то время выпали из поля зрения командования. Естественно, город потихоньку грабили. Потихоньку для начала, это уже потом офицерье вывозило добро грузовиками.
С нас хватало отыскать в подвалах брошенной виллы стеллажи с бутылками вина, ящики с консервами. И вот однажды, на третий день, ко мне пришел знакомый лейтенант из пехоты и, почти ничего не объясняя, попросил следовать за ним. В квартале, где расположилось его подразделение, была кирха. Неподалеку от нее стояло небольшое, очень красивое здание красного кирпича с вывеской «Банк». Внутри уже успели похозяйничать наши вояки – все было перевернуто вверх дном. Лейтенант зажег электрический фонарь, и мы спустились в подвал. Он показал мне огромную металлическую дверь, уже порядком изуродованную, но все еще державшуюся на петлях. Как оказалось, все эти три дня он со своими людьми пытался ее открыть. Сперва отмычками, затем ломами и кувалдами. Последняя попытка тоже ни к чему не привела – дверная ручка, привязанная тросом к автомобилю, не выдержала и оторвалась.
«Послушай, Амвросий, – сказал мне лейтенант, – может, попробуем долбануть по ней из твоего орудия?» – «А что за дверью?» – спросил я. «Думаю, золото!» – в его глазах горел огонек безумия. «А как ты думаешь, – сказал я ему тогда, – немцы такие идиоты, чтобы бросить золотые слитки в здании банка?» – «Почему бы и нет? Они удирали в спешке». – «Думаю, их не сложно было бы прихватить с собой». – «Да, – поразмыслив, согласился он, – или на худой конец закопать где-нибудь поблизости в надежде вернуться». – «Может, оставим эту дверь в покое? Снарядов, в конце концов, тоже жалко».
Лейтенант было заколебался. Действительно, немцы, отступая, могли и пошутить, заперев пустое хранилище на все замки, зная наперед, что советские наверняка захотят эту дверь взломать в расчете отыскать за ней несметные сокровища.
Но страсть к наживе перевесила доводы здравого смысла, и лейтенант продолжал настаивать.
Делать вес равно было нечего, и я согласился помочь ему в безнадежном предприятии – лишь бы человека не мучили сомнения. Утром мои бойцы прикатили орудие, установили его посреди мостовой и, заряжая болванками, раза три выстрелили в подвал. После третьего выстрела по звуку я понял – дверь сорвалась. Подождав, пока рассеялся дым и кирпичная пыль, мы сбежали в подвал – и в первый момент обомлели от увиденного.
А потом каждый, кто был там, не веря своим глазам, начал хватать, подносить к лицу тугие пачки денег, самых что ни на есть знакомых и родных советских червонцев – хрустящих, никогда не бывших в употреблении.
Первым опомнился лейтенант. Он понял, что происшедшее утаить не удастся. Деньги вывезти оттуда можно было разве что на грузовике. Мы переглянулись. Теперь не было разницы, кто из нас кто – рядовой, сержант, офицер. Все мы вместе являлись временными владельцами шальных денег. И отдавать их кому-либо желания не возникало.
«Значит, так, – оказал лейтенант, обращаясь к своим солдатам, – остаетесь здесь… Нет, на улице. Охраняете деньги, никого не подпускаете».
Никто не тронулся с места. Людям с оружием в руках не так-то легко отдавать подобные приказы. Я ни на чем не настаивал, ни о чем не просил. Лейтенант молча протянул руку, я подал ему свой вещмешок, на дне которого трепыхалась пара грязного белья да начатая пачка немецких сигарет. Лейтенант до отказа набил мой вещмешок пачками денег, затянул тесемки и протянул мне: «Бери. Все равно никто не знает, сколько здесь их было».
Мои бойцы уже сами набивали деньгами карманы, складывали пачки в пилотки. Я понимал, остановить их невозможно, да и самого заворожили высокие штабеля денег.
Мы еще не успели прийти в себя, когда поступил приказ выдвинуться за железную дорогу. И этот приказ вернул меня к действительности. Деньги, лежащие в вещмешке, стали обузой. Как оказалось, к городу подтягивалась одна несдавшаяся немецкая часть. Не знаю, на что рассчитывали фрицы, в каких укрытиях они провели те несколько дней, пока мы праздновали победу. Мы даже толком не установили свои орудия, когда завязался бой. Меня ранило в самом начале. Очнулся только в госпитале, кстати, в том же немецком городке Раушенс…
Генерал Лоркипанидзе отбросил со лба прядь седых волос, и Сиверов увидел неровный, словно зигзаг молнии, шрам. От того ли ранения шрам, от другого ли, генерал не пояснил. Но именно показанный шрам и придал его рассказу максимальную убедительность.
– Ты, наверное, не поверишь, Глеб, я даже не вспомнил о вещмешке с деньгами, который перед боем повесил на станину орудия. Первые два дня после ранения с меня хватало уже того, что я остался жив. Тогда я понял, насколько реальна смерть. У тебя перед глазами меркнет свет, и даже боли не успеваешь почувствовать.
Вернее, она возникает как эхо, когда уже не слышишь самого крика, но до твоих ушей долетает отраженный звук. И вот на третий день к нам в палату вошел врач и вручил мне вещмешок, сказав, что мои ребята отыскали меня и попросили передать мои личные вещи. Это произошло так буднично и, наверное, делалось с такими невинными лицами, что никто из медперсонала и не догадался заглянуть вовнутрь. Когда я развязал тесемки, то ощутил ужас. Все деньги лежали на месте, а я даже не представлял, что мне теперь с ними делать. Кто-то спрашивал меня, не найдется ли в вещмешке бутылочки спирта или чего перекусить. А я словно язык проглотил – смотрел на деньги и не мог вымолвить слова. Затем вытащил несколько пачек червонцев, положил их на подоконник и сказал: «Берите, кому надо». Деньги, естественно, разошлись по рукам, и мы зажили, как короли. Не правда, Глеб, когда говорят, что в те времена все находилось под неусыпным контролем. Мы в госпитале жили припеваючи целую неделю, когда наконец ко мне не пришли. Вот так и произошло мое первое знакомство с органами. Не скажу, что очень приятное. Денег у меня к тому времени оставалось около половины мешка, мы их разве что не таскали в туалет и не клеили на стены. И тогда-то мне задали тот самый вопрос, который я должен был задать себе, лишь только увидел деньги в подземном хранилище немецкого банка: какого черта там делали новые советские деньги? Думаю, ты не знаешь, Глеб, что и под оккупацией на нашей территории ходили те же самые советские деньги, что и до войны, причем ходили официально и никто их не изымал из обращения – красные червонцы с портретом Ленина.
– Ерунда да и только! – не удержался Сиверов.
– Я тоже так думал. Но потом мне объяснили, да и сам я парень был сообразительный, вроде тебя. Немцы не изымали деньги, потому что рассчитывались ими с населением за продовольствие. А к красным бумажкам советский человек привык, знал, если что, он их и после освобождения в дело пустить сумеет. На государственном уровне немцам не сложно было изготовить искусные подделки, которые практически невозможно было отличить от настоящих денег. Они напечатали их еще до войны. Получалось очень удобно: рейхсмарки могли вернуться в Германию и подорвать экономику, фальшивые же рубли являлись беспроигрышным вариантом.
Даже попав в руки советских войск – как это случилось у меня на глазах, – они вливались в советскую экономику, а значит, подрывали ее. И вот тогда, Глеб, я потерял всякое уважение к деньгам, потому что они икона, не больше.
– Икона – это тоже немало.
– Да, Глеб, икона, но не сам Бог.
Слушая генерала Лоркипанидзе, Сиверов смотрел на уже почти погасшие угли, над которыми аппетитно дымилось пропеченное мясо. Амвросий Отарович поставил на стол большую плоскую тарелку, и Глеб переложил в нес шашлыки. Рюмку, поставленную перед ним генералом, он сразу же отодвинул в сторону.
– Я пить не буду.
Амвросий Отарович усмехнулся:
– Это хорошо.
– Думаю, вы не обидитесь на меня?
– За что?
– Я пренебрегаю вашим гостеприимством.
– Быть гостеприимным – не значит быть настойчивым. Если не пьешь, значит, собираешься сегодня же уехать. А ехать тебе не к кому, кроме как к Ирине.
Сиверов подумал: «А ведь он прав! Теперь мне, кроме как к жене, возвращаться не к кому. Теперь даже неважно, люблю ли я ее по-прежнему, люблю ли больше, чем раньше, или разлюбил вовсе. Она ждет от меня ребенка, а значит, я в долгу перед ней».
Генерал не спеша ел мясо, а Сиверов торопился.
Лоркипанидзе хитро посматривал па него из-под кустистых седых бровей.
– По-моему, ты теперь относишься к жизни немного иначе, чем прежде.
– Как именно?
– Дорожишь ею, что ли… Наверное, у тебя есть кое-какие новости, которые ты не хочешь сообщить старику?
У Глеба имелась одна-единственная новость – они с Ириной ждут ребенка. Но он сам еще не успел свыкнуться с нею, не успел вжиться в свою новую роль. И поэтому посчитал, что посвящать Амвросия Отаровича в сугубо личные секреты не стоит.
– Вы уж извините меня, дошел до ручки, – честно признался Глеб. – Стало совсем невмоготу, поговорить не с кем.
– Лукавишь, – Лоркипанидзе налил себе полрюмки коньяка и, смакуя, выпил. – Ты поговорить можешь с Ириной, но всего ей сказать не можешь.
Глеб растерянно смотрел на Амвросия Отаровича.
– Так я же и вам почти ничего не сказал!
– Все дело в том, Глеб, что не обязательно говорить, хватит того, что со мной ты можешь и помолчать.
Амвросий Отарович поднялся из-за стола, открыл дверь сарая, прилегавшего к навесу, шагнул в его прохладную глубину. Потом вновь появился перед Глебом, с тремя крупными спелыми яблоками, к их кожуре прилипли обломки тонкой древесной стружки.
– Должен же ты увезти от меня какой-нибудь гостинец. Ну-ка, быстрее возвращайся к Ирине и не вздумай огорчать ее! – и, предваряя все возражения Глеба, добавил:
– Езжай сейчас же! Еще не хватало, чтобы она из-за тебя, дурака, на меня обиделась.
Когда в машине Сиверов положил яблоки на сиденье рядом с собой, то салон тут же наполнился тонким ароматом летнего сада – тем запахом, который уже давно был пролистан календарем, но он сохранился в сарае на даче старого генерала, будто время там текло в другом измерении, чем во всем остальном мире. Все спешили жить, а Амвросий Отарович не спешил. Не спешил он потому, что умел наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Глеб сообразил, именно это роднило его самого с генералом Лоркипанидзе – умение управлять течением времени. То спрессовывать его, когда приходится ждать, в периоды же активных действий растягивать до бесконечности.
* * *
Сиверов почти не ощущал скорости, с какой несся его БМВ по Москве. Лишь пару раз он бросил короткий взгляд на стрелку спидометра, убеждаясь, что она застыла на отметке чуть больше ста тридцати километров в час. Чтобы свести к минимуму риск быть остановленным гаишниками, он мчался в крайнем левом ряду, зная, что выковырять оттуда машину, даже нарушающую правила дорожного движения, сложно, и обычно инспектора закрывают на таких нарушителей глаза.
Еще не совсем смерклось, когда Глеб Сиверов припарковал автомобиль возле дома в Беринговом проезде.
Он взбежал по лестнице, остановился, боясь лишь одного – не угадать, каким взглядом встретит его Ирина.
Он не знал, что Быстрицкая уже долго сидела у окна, борясь с желанием закурить. Она вертела в пальцах незажженную сигарету, подносила ее к носу, пытаясь заменить для себя запах дыма запахом сушеного табака, и смотрела на то, как постепенно темнеет под начавшимся мелким дождем светлое пятно асфальта, оставленное машиной Глеба. Он не знал, что Ирина негромко вскрикнула, когда увидела его серебристый БМВ, въезжавший во двор. Она стремительно бросилась в спальню, сняла халат и улеглась на кровать, до пояса прикрывшись простыней и подложив под голову сложенные ладони.
Записка на стене в прихожей, десять раз прочитанная Ириной, висела на прежнем месте. Ирина не вышла мужу навстречу, когда он шагнул в квартиру, и Глеб забеспокоился: «Неужели обиделась настолько сильно? А я, дурак, не догадался купить цветы».
Записка, снятая со стены, исчезла в кармане куртки.
Глеб осторожно заглянул в спальню и замер. Он застал Ирину лежащей в той же самой позе, в которой оставил ее.
«Неужели она до сих пор спит?»
Сиверов посмотрел па свой хронометр. Прошло три с половиной часа после того, как он бесшумно закрыл за собой дверь. А ему показалось, миновала целая вечность. Он даже успел ощутить себя немного чужим в этой квартире. Сбросив ботинки в коридоре, Глеб на цыпочках пробрался в спальню, разделся и лег рядом с Ириной. Она – как показалось Сиверову, во сне – что-то прошептала и прижалась к нему. Ее рука вновь легла ему на грудь, как будто он и не уходил.
Он не знал, что Быстрицкая сейчас благодарит Бога за то, что Глеб вернулся, корит себя за пустые переживания. И если раньше она наверняка устроила бы мужу сцену, сперва вдоволь посмеявшись над ним, что он поверил, будто она спит, то теперь и мысли такой у нее в голове не появлялось.
«Он рядом, и больше ничего не надо. Пусть уходит, если считает нужным, пусть только обязательно возвращается».
Теперь для Ирины было не важно, нужна или не нужна она Глебу. Главное, он нужен ей, Сиверов некоторое время смотрел на потолок, расчерченный тенями, следил за тем, как в сумерках они меняют свои очертания, затем, сам не заметив как, крепко заснул.
…Его разбудила Быстрицкая, поставив на край кровати маленький поднос с чашечкой кофе. Она сидела рядом с Глебом обнаженная, ее волосы были уложены в живописном, продуманном беспорядке.
– Спасибо, – Сиверов приподнялся на локте, все еще чувствуя угрызения совести за свой маленький обман по отношению к жене.
– Глеб, мы столько всего проспали…
– Ты не замерзнешь?
– Тебе не нравится мой вид?
– Нет, но… – начал Глеб.
И тут понял, что не сможет объяснить Ирине состояние своей души. Не сможет объяснить, почему ему неприятно видеть ее обнаженную. Зная, что жена беременна, он смотрит на нее сейчас совсем другими глазами.
Ирина чисто по-женски интерпретировала ситуацию:
– Скоро я стану не такой красивой, – склонив голову, она заглянула Глебу в лицо и положила руку себе на живот. – Я хочу, чтобы ты успел налюбоваться, потому что кто знает, как сложатся…
Глеб улыбнулся и приложил палец к ее губам.
– Не продолжай.
– Почему?
– Потому что следующим твоим словом будет слово «взаимоотношения», а я не люблю канцеляризмов.
– Как хорошо, что ты никуда не поехал, – с этими словами женщина бросила взгляд на пейджер, прикрепленный на поясе джинсов Сиверова.
Глебу не хотелось говорить ничего, сейчас любые его слова прозвучали бы фальшиво, будь то очередные заверения в любви или искреннее раскаяние. Он обнял Ирину, прижал к себе. Теперь в его объятиях не было вожделения, той прежней, несколько звериной страсти, когда, хорошенько поразмыслив, понимаешь, что тебе в общем-то все равно, какая женщина рядом с тобой. Он обнимал Ирину не для того, чтобы получить плотское удовлетворение, а для того, чтобы оберегать.
И Быстрицкая ощутила это. Она наслаждалась теплом и покоем, исходившими от этих объятий мужа.
"Неужели он поверил, – подумала Ирина, – что я спала? Неужели он не догадывается, что я волновалась, переживала, ждала его возвращения? Я же вижу по его глазам, что никакого дела не было, он пахнет костром.
Наверное, заехал куда-нибудь в лес, развел огонь и сидел, не мигая глядя на него, думая, что же ему теперь со мной делать. Но он вернулся, и поэтому я забуду все те обидные слова, которые приготовила, чтобы высказать ему. Он их не услышит".
А у Сиверова были свои мысли: «Как хорошо, что Ирина проспала все это время, и я сумел вернуться в тот же самый момент, когда ее покинул. Она не заметила разлуки».
А на низеньком пуфике в прихожей лежала скомканная куртка Глеба. Из-под ее полы выглядывали восковые округлости яблок, и прихожая наполнялась запахом летнего сада.