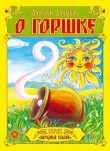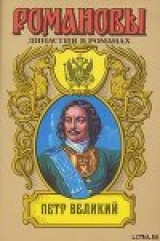
Текст книги "Петр Великий (Том 1)"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 54 страниц)
– Не толкуй пустое, дитятко. Где же зимою в лесу прожить? Там и от волков обороны мало, не то от людей… Да и помалкивай лучче. Не думай про лихо, оно пройдёт мимо. На леса, на горы, на сухие поляны… Спаси и защити, Матерь Божия, отрока Петра.
Побледнела Наталья. Губы её шепчут не то молитву, не то заклинание…
Восемь лет царевичу. Но он уж такой рослый, что и все двенадцать можно ему дать. А по уму и смелости он далеко превосходит не только однолеток, но и взрослых товарищей, каких допускают дядьки и наставники для совместной игры с Петром.
Встряхнув кудрявой головой, выпрямясь перед женщинами, словно кидая вызов кому-то, он объявил:
– Пусть кто тронет тебя, матушка… Я весь свой полк соберу… Ужо не спустим обидчику… Да и брат-государь по правде любит меня… И тебя слушает. Ты и скажи ему… Я тоже скажу… Он нас оборонит, не даст в обиду… Он…
– Да ладно… Да будет, дитятко. Глупый ты, несмышлёный ещё… Я так, пустое молвила. А ты вон уж што. Помолчи, слышь. Я велю. Гляди, и в беду нас впутаешь, – уже принимая строгий вид, стала приказывать Наталья; но не выдержала до конца роли и с новыми горячими поцелуями и ласками зашептала: – Ох, Петенька, солнышко моё ясное… Горькие мы с тобою сироты… Недруги нас обступили, кругом обложила сила вражья… Помалкивай лучче, соколик ты мой. Молю тебя Христом-Богом… Лучче, коли тише, – невольно повторяя полузабытый завет покойного, Тишайшего царя Алексея, уговаривает сына вдова-царица.
Ничего не сказал на это мальчик, повёл густыми, тёмными бровями – и отошёл опять к столу, за книжку свою уселся…
А мать с дочерью дальше ведут печальный разговор, только потише, почти шепотком теперь, чтобы опять не встревожить этого мальчика, который дороже им собственной жизни и счастья. И имя царевны Софьи изредка доносится до обострённого слуха Петра, который, весь насторожась, глядит только в книгу, а не читает её.
В тот же день, когда Зотов позвал царевича в обычный час к уроку, Пётр, учившийся постоянно внимательно, с большой охотой, был очень рассеян, даже грустен, словно иногда и не слышал объяснений и вопросов наставника.
– Да здоров ли ты, государь мой царевич? Ино оставим науку, коли што. Потолкуем налегке про кой-што. Вон хоть в ту горницу пойдём, где воинское дело представлено. Може, што новое скажу тебе, – предложил Зотов.
Больше всего любил мальчик картины в одном из покоев, предоставленных ему, на них было изображено военное вооружение, снимки с известных баталий, планы лагерей и крепостей.
Но невинная уловка не помогла.
Мальчик перешёл в «батальный» покой, слушал, что говорил ему Зотов, а выражение внутренней напряжённой думы не сходило с красивого личика.
– Да не поведаешь ли мне, Петрушенька, с чего заскучал? Может, недужен ты, светик мой, – с искренней, нежной тревогой спросил наконец Зотов. – Надо государыне сказать. Лекаря покличем. Скажи, прошу душевно.
– Не надо… Зачем матушке? Здоров я… А вот спросить хочу тебя… Да не ведаю, ладно ли будет? Матушка сказывала, молчал бы. А и молчать нет мочи. С того я…
– Вижу, сам вижу мятется душенька твоя чистая, ангельская. Да уж поведай мне. Вот тебе икона. Крест святой порукой: а ни-ни… на духу не поведаю, попу не открою, што сказать изволишь… А може, умишком моим худым и советишко дам пригодный. Не от разума, от усердия моего да от щедрой приязни…
Искренно любящий мальчика Зотов быстро-быстро крестился, а глаза его даже наполнились слезами от наплыва чувств.
– Ну уж скажу… Слышь, лишь бы никому не сказывал… Помни. Крестом поручался ты…
И, понизив голос, царевич передал наставнику весь недавний разговор свой с матерью и бабушкой.
– Мудрёную задал ты мне задачу, царевич. И не ждал я никак того, што услыхать довелося. Лучче бы и не допытыватца, и не дознаватца мне… Простого я роду, не обык к вашим царским делам да случаям… Што и сказать, совет какой дать, не знаю.
И Зотов умолк. Ничего не сказал и мальчик. Но с такой тоской глядел он мимо учителя в соседнее окно, что у того сердце сжималось от боли.
Наконец он снова заговорил.
– Да поведай уж, што ты волил знать от меня, царевич? Може, наставит Господь меня, недостойного…
– Сам подумай, чего мне надобно.. Как бы матушку оберечь? Недругов наших одолеть? Видно, боязно матушке; и меня бы, как Димитрия-царевича, со свету бы не сжили людишки подлые…
– Да неужто ж царевна встанет на брата, сестра-то родная?
– Царевна? – сразу, вздрогнув, насторожился Пётр, – Да нешто правда, што Софья на нас с матушкой… с ворогами с нашими? Мосеич, што ты?
И широко раскрылись глаза у мальчика не то от ужаса, не то от омерзения.
– Господь с тобою… Нешто я сказал такое?. Ты же мне сказывал, будто и царевны-сестрицы имя было матушкой-царицей помянуто… Я, по правде сказать, слыхал, што неспокойно в терему у царевен, особливо в покоях царевны Софьюшки. Да не на грех же подбивают её… Обычно в дому вашем царском дня не бывает без наговоров да составов разных. Друг дружке ногу каждый подставить норовит. А штобы такое дело! Храни Боже! Ежели вороги ваши плохое и задумали, так то лишь одни бояре… Ну, скажем, Языков тот же, што в ином месте поселить тебя, государь-царевич, с царицей-матушкой сбирается… Ну, Хитрово али Милославские… А штобы царевна… Храни Господь. И не поминай её.
– Ладно, ладно, не стану Слышь, што задумал я. К братцу, к царю, прямо пойти и поведать про все. Ужли ж не вступится братец? Брат же я государю. Крёстный он мне. Батюшка, слышь, помираючи, при всех сказывал мне по братце на царство сесть. Даст ли он в обиду нас?
– Не даст, не даст, царевич. Верное твоё слово. Вон Господь как умудрил тебя, младенца… Одно дело, и бояре побоятца дурное што учинить с тобой. Ещё и наследника нет у государя. А будет ли, Бог весть.. Слышь, и то они друг дружку корят порой, што сами горе земле готовят. Второе, мол, лихолетье настанет, коль корень царский изведётся. Так промеж здешних людей, промеж челяди толк идёт… Иди с Богом, скажи государю. Пред его очами – правда, как масло на воду, так и выступит. Поди, он и не знает, што умышляют злые люди… Царь даст пораду… Только, слышь, меня не называй… што совет я давал тебе… Меня-то одним махом проглонут тута… Слышь, царевич…
Воодушевление, охватившее на короткое время Зотова, сразу пропало при мысли о той опасности, какой подвергался он сам, впутываясь в игру верховных бояр и царской семьи.
– Уж ты не думай. Тебя не помяну… Уж ты верь, – успокоил Зотова мальчик.
И Зотов понял, что ребёнок действительно не выдаст его. Не слушая благодарностей наставника, Пётр снова в раздумье заговорил:
– А постой… ежели мне раней к святейшему патриарху… Ему слово молвить… Помнишь, как читали мы про Ивана Васильича… Теснили ево в юности бояре, а он у патриарха, у святого Макария и совет и помочь нашёл… Как скажешь?..
Почёсывая слегка затылок, Зотов в смущении не знал, что отвечать.
– Макарий… Так то был Макарий, – наконец негромко проговорил он. – А наш святейший кир-патриарх… Дай ему Господи многая лета… Благ он уж больно. Словно и нет для него злых людей, все хороши да милы… Станет ли он с боярами с главными, с сильными в спор вступать? То подумай, царевич. Да и не наш он. Из украинцев… Может, оттово и не мешается вовсе в дела московские. Церковь блюдёт…
Зотов словно забыл, что перед ним восьмилетний ребёнок, и толковал, как со взрослым юношей. И выражение лица царевича совсем было не детское в эту минуту.
– Правда твоя… Не такой он, старец Иоаким, как был Макарий. Не будет нам защиты от него… Да што там… Прямо – лучче… Ты сиди… я приду скоро… Я только к братцу-государю…
Не успел Зотов сказать что-нибудь, остановить ребёнка, как тот уж выбежал из покоя и знакомыми переходами поспешил на половину Федора.
Резвый мальчик-царевич и раньше, бывало, появлялся один везде во дворце, заглядывал и к брату спросить о здоровье от имени своего и царицы Натальи, выпросить гостинцев или новых книжек.
Теперь тоже никто не обратил внимание на Петра, когда тот появился в покоях Федора.
Здесь стольник объявил, что государь ещё на совете, в Грановитой палате, с ближними боярами своими.
Мальчик даже не дослушал, что говорил дежурный спальник, и поспешил дальше.
Стрельцы и привратники были удивлены появлением младшего царевича у дверей палаты, но остановить его не посмели, полагая, что без царского зова он не явился бы на совет бояр с царём.
Тут же, почти у дверей догнал царевича Зотов, который, опомнившись, кинулся следом за своим питомцем.
– Царевич, пожди… Неладно так-то, на совете на боярском… Помысли малость, – задыхаясь от поспешной ходьбы и волнения, шепнул царевичу наставник.
– Чего неладно? Я же поклониться желаю государю-брату моему, царю Федору Алексеевичу. Не видал его давно.
И с этими словами Пётр перешагнул порог. Зотов, ни жив ни мёртв, так и застыл у порога, не решаясь войти, и только сквозь полураскрытую дверь глядел, что будет дальше.
Степенно подошёл царевич к ступеням, на которых стоял трон, охраняемый по бокам двумя золочёными львами, по образцу византийских царских престолов.
Федор, как и все думные бояре, сидящие тут, был удивлён появлением брата, но сейчас же ласково закивал головой в ответ на чинный, глубокий поклон мальчика, поднялся с места и поцеловал его в голову и в лицо, пока мальчик, по обычаю, приложился к руке царской.
– Али пришёл с чем на совет наш на царский?.. Жалуй, милости прошу… Просить, што ли, хочешь о чём? Сказывай… Поди сюда, ближе.
И, снова усевшись на троне, Федор поставил перед собою брата, словно невольно залюбовавшись смущённым, покрасневшим, почти пунцовым от волнения, личиком царевича. Смелость, с какой Пётр явился сюда, вдруг покинула его. Он молчал, не зная, с чего начать… Мял в руках край своего кафтанчика и кусал пухлые, свежие губки красиво очерченного рта, чтобы не расплакаться громко.
Тут же сидели почти все, на кого мальчик хотел принести жалобу брату: боярин Языков, Хитрово, Иван Милославский…
Ребёнок не думал, конечно, делать заглазного доноса. Он знал, что каждое слово против этих бояр станет им известно. Он хотел пожаловаться, сознавая свою правоту, радуясь, что придётся стать на защиту горячо любимой матери и, может быть, даже пострадать при этом…
Но выступить хотя бы и с таким большим делом при двадцати – тридцати боярах и царевичах, таких важных, почти сплошь седобородых и седовласых… При этих думских дьяках и дворянах, сидящих поодаль и с таким вниманием кидающих взоры на малыша, словно бы они и не узнали его или приняли за какое-либо незнакомое раньше существо… Все это лишило мальчика самообладания. Он понимал, стоит ему заговорить – вместе со словами вырвутся из груди невольные, непрошеные слезы… Унизительный ребяческий плач, которого вообще не любил царевич. Даже если порой приходилось терпеть боль, Пётр старался не плакать. А тут…
И, крепко сжав губы, мальчик продолжал молчать…
– Ну, что же ты, братишко? Или забыл, с чем шёл? Забоялся при всех… Ладно. Ступай теперя. Скоро и кончим. Ко мне попозднее приходи, там потолкуем…
Ласковое предположение, что он забоялся, словно укололо царевича. Способность говорить сразу вернулась к нему.
– Без страху пришёл я, брат-государь мой, царь Федор Алексеевич. Челом тебе бью, жалобу приношу слёзную… От себя да и от матушки-государыни нашей, Наталии Кирилловны.
Сразу лица бояр приняли удивлённо-встревоженное выражение. Послышались и подавленные возгласы. Некоторые, как Языков и другие, чутьём догадались, о чём будет речь, и побледнели.
Царевич при вспоминании о матери ощутил, как слезы клубком снова подкатываются к самому горлу. Но ещё крепился.
– Жалобу? Што приключилось? Сказывай скорее… Поди сюда… Садись…
И царь усадил его рядом с собою на широкое сиденье трона, где раньше худощавая фигура Федора выглядела так беспомощно.
– Што ж молчишь? Обидел-то хто тебя и матушку? Говори. Видно, дело не малое, што здесь нашёл меня. Я слушаю.
– Обидел хто?.. Ещё нет. А задумано… Вот он, – указывая на Языкова, звенящим голосом начал снова царевич, – матушке сказывал: из терема её, из твоего дворца царского нас переселить задумали… Тесно-де тута. В новы хоромы нас… А то и вовсе с глаз твоих… А там… матушка сказывала: без твоей охраны царской хто ведает, што учинить могут люди злые?! Не похуже, чем в Угличе было от Бориса Годунова на царевича Димитрия, вот как в истории писано… Я не за себя, за матушку боюся… Сироты мы, да брат же ты мне, государь, не чужой. Ужли не вступишься? Ужли и угла нам с матушкой нету в доме родительском…
Слезы снова так и брызнули из глаз царевича. Чтобы громко не разрыдаться, он умолк.
И всё смолкло кругом.
Федор, прижав к груди голову брата, ласково отирал ему слезы и сам словно раздумывал о чём-то. Потом взглянул прямо в глаза Языкову, сидящему недалеко от трона, и спросил:
– Што значат речи царевича? Ну, буде, брат милый… Да, не плачь же, негоже… На людях плакать невместно царевичу… Слышишь?..
Ласки, поцелуи и уговоры брата успокоили мальчика. Он затих.
А Федор снова обратился к Языкову:
– Слышь, Иван Максимыч, сказывал ты: сама государыня-матушка, утеснения ради, толковала тебе: прибавить бы покоев в её терему али иное место дать для житья. А тут што слышно стало? Растолкуй, боярин.
То багровея, то бледнея, едва выдавливая слова из пересохшего горла, Языков поднялся и заговорил:
– Царь-государь, Господом распятым клянусь: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Может, я одно толковал, а государыня инако принять изволила. Её государское дело. А мне ли от тебя, государь, твоего царского величества родню отлучать. И в уме того не было. Хоть на пытку вели. Все то же скажу…
Неловко стало всем и от клятвы, и от этих слов боярина. Наглость и злоба уживались в их грубых, тёмных душах, но худородный выскочка Языков прибавил к этому и холопьей низости.
Снова наступило тяжёлое молчание.
– Так, ин пусть оно так; верю тебе, боярин. Слышал, родимый, слышал, Петруша? Знай и матушке скажи: никто не посмеет матушку али, храни Бог, тебя обидеть – меня обидеть, мне зло сотворить. А бояре наши не станут царям своим, коим крест целовали, худо чинить. Верим мы. Иди с Богом, Петруша… Дела у нас ещё…
С просветлевшим лицом встал ребёнок, снова отдал обычный поклон царю, долгим, признательным, не обрядовым, от сердца поцелуем ответил на поцелуй Федора и вышел из палаты.
Снова едва поспеть мог Зотов за своим питомцем, когда тот кинулся обратно к матери, чтобы скорей рассказать ей все, порадовать родимую.
А Языков, заметя сквозь распахнувшуюся дверь фигуру Зотова, только губы закусил и спустя немного шепнул соседу своему, Хитрово:
– Знаешь, боярин, хто все сие лицедейство настроил?
– Хто? Уж не Полоцкий ли? Он на эти дела мастер. Да, слышь, помирает он.
– Нету… Иной, не столь полёту высокого. Ярыжка приказная, Зотов, учитель Петрушеньки нашего. Видать, тоже в люди захотелось. На шутки пошёл… к царице подбивается, ко вдовице неутешной… Хе-хе-хе. Ладно, я ему удружу…
– Да, удружить надоть, коли так.. Ты помолчи покуда… Вон царь в нашу сторону поглядывает. Потолкуем ещё…
Они потолковали в тот же день. И решили судьбу Никиты Моисеича.
На Рождество того же 1680 года пришлось снаряжать чрезвычайное посольство для подписания мира на двадцать лет с крымским ханом. Во главе стоял наместник переяславский, думный дьяк Тяпкин.
Расхвалив Зотова, как знающего дело и умного человека, уговорили царя присоединить и его к важному посольству.
– А брата кто же учить станет? – спросил было Федор.
– Мало ль кроме Зотова у царевича учителей? Чему и учил Никитка его царское величество? Вон царевич, Бог дал, не то Псалтирь – Апостол весь наизусть сказывать изволит И пишет преизрядно. И счёту всякому обучен… Иные учителя потребны государю-царевичу… А Зотов не только школярить может кого, а боле добра принесёт, коли в послах поедет.
Уговорили Федора, и Зотов со слезами на глазах узнал весть о своём «повышении», под которым скрывалось несомненное желание недругов царицы Натальи удалить от неё и от царевича преданного человека.
Пётр и Наталья поняли хитрый ход бояр. Но делать было нечего. И немало плакал, долго скучал потом царевич по своему наставнику. Вспоминала его и царица.
Прошла зима; весна и лето наступили своим чередом.
Одиннадцатого июля 1681 года сбылось то, о чём горячо мечтал юный царь, чего с нетерпением просили у Бога врага Нарышкиных, чего последние ожидали с тревогою, чуть ли не со страхом.
Царица Агафья подарила Федору малютку-сына, наречённого Ильёй в память деда, Ильи Милославского.
Однако эта радость оказалась слишком мимолётной.
Четырнадцатого июля не стало царицы Агафьи, и те же люди, которые сообщили Федору эту тяжёлую весть, несмело добавили:
– А и про царевича Илью дохтура довести приказывали твоему царскому величеству: больно скорбен младенец, ангел Божий… Кабы и его не призвал к себе Господь… Больно ненадёжен, слышь…
Только за голову схватился царь и застонал, как раненый, выслушав зловещие слова.
Ещё больше врачей и сведущих баб-повитух было собрано во дворец… Чего ни делали, только бы поддержать еле тлеющую жизнь в слабом, болезненном младенце, стоившем жизни своей матери. Ребёнок словно не захотел остаться здесь без неё – и царевича Ильи не стало 21 июля, через десять дней после рождения.
Мучительным, тяжёлым кошмаром, без сна и без еды почти, пронеслись эти десять дней для юного вдовца, потерявшего разом и молодую жену и надежду царства, первенца-сына…
В иные минуты окружающим казалось, что царь начинает говорить необычно дико и глядеть так же тупо и бессмысленно, как царевич Иван. Ещё хватило сил у страдальца проводить до могилы тело жены. Но когда хоронили её ребёнка, Федор сам лежал в жару, без памяти. И эта болезнь, должно быть, спасла его от чего-нибудь худшего, вроде безумия…
Глава III. ПЕЧАЛЬНЫЙ БРАКТяжек был удар, способный сломить и более сильного человека. Но слабый, болезненный Федор перенёс его. Смирение и глубокая вера царя помокли ему в этом.
Поднявшись после болезни, бледный, исхудалый, почти восковой, он, вспоминая о жене и ребёнке, только шептал своими бескровными губами:
– Воля Божья. Он один ведает, што творит…
Тётки и старшие сестры царя, запуганные, робкие, совсем застывшие в своём теремном полузаточении, жадно ловили каждую весть, долетающую через высокие стены, окружившие их жилище, но сами не решались впутываться во события.
Одна царевна Софья и ухаживала за больным братом, и старалась чаще быть при нём, когда он поправился немного.
Удар, поразивший царя, больно задел и весь род Милославских. Все понимали это.
– Вот, чай, теперь кадык подняли Нарышкины… Братец Ванюшка хворый у нас. Все знают. Сызнова Натальин Петруша на череду на царство, коли…
Царевна Екатерина, толковавшая с Софьей, не договорила, словно из боязни накликать смерть Федора напоминанием о ней…
Но Софья решительно качнула головой, которая так глубоко и крепко сидела на её пышных, даже чересчур развившихся теперь плечах.
– Не бывать тому. Не больно порадуются. Пускай тешатся покуда. Одно дело, брат Федор не в могилу сбирается. Ещё и вдругорядь оженитца может. А коли бы, милуй Бог, не стало его… Все едино, не дадут нарышкинскому отродью землю во власть… Мало хто и стоит за них. Наши горой подымутся… Народ за нас… стрельцы за нами пойдут. Василь Василич Голицын, князь – над всею ратью поставлен. А он ли не за нас? Своё возьмём. Нечего нам перед Натальей шею гнуть, да я… Вот не пущу да не пущу её с отродьем на трон… И не будет того.
Такой силой, такой уверенностью звучали слова царевны, таким недобрым огнём горели её глаза, что каждый невольно поверил бы, не только двадцатидвухлетняя девушка-царевна, сама желающая того же, о чём говорила Софья.
Даже жутко немного стало Екатерине от слов сестры.
– Как же ты надумала, Софьюшка?.. Неужли?.. Грех-то ведь тяжкий… Не от одной матери, да брат же он нам… Подумай…
– Я думала. А тебе, гляди, поучитца надобно. Будет грех, так не на нас. А и то, што ты мыслишь, – ни к чему оно… И без того можно с пути поубрать, ежели кто помехой станет…
И, словно видя перед собой эту досадную помеху, Софья сильнее сдвинула свои тёмные густые брови.
Федора тоже покоряла силой своего духа старшая сестра, как бы решившая заменить ему мать.
Постоянно и настойчиво твердили царю все окружающие о необходимости вступить снова в брак.
Но Федор больше отмалчивался или ссылался на трауре на своё нездоровье, на советы врачей: раньше, мол, надо окрепнуть ему, а потом думать о женитьбе.
И только Софье не возражал. Он понимал: не мелкие личные расчёты двигают ею, а родовая гордость. Он верил той горячей любви, которую постоянно проявляла сестра в своих заботах, в неусыпном уходе за братом во время частых недугов Федора.
И всё-таки порою слова замирали на губах царевны, она прекращала уговоры, встретив робкий, как бы умоляющий взгляд брата.
Ей казалось, что так глядели в старину мученики, о которых она читала в разных книгах.
Новая женитьба была чем-то вроде мучительного, но неизбежного подвига. И Федор, зная всю его неизбежность, молча как бы молил:
«Потерпи немного. Дай собраться с духом… Я всё сделаю для царства, для нашего рода… Но не сейчас… Отдохнуть надо душе и телу перед новым испытанием».
Так понимала взгляды царя Софья. И она не ошибалась.
Нередко Софья толковала обо всём этом с Василием Голицыным, с которым очень подружилась за последние годы.
Умный, образованный, боярин-воевода превосходил многих из окружающих его вельмож и быстро составил себе карьеру.
Честолюбивый и решительный, князь сумел разгадать душу Софьи и пришёл ей на помощь во всех делах и планах.
Раньше, конечно, немыслимо было никакое сближение или дружба между затворницами-царевнами и людьми даже самыми близкими к царю, кроме ближайшей родни самой царицы.
Теперь же, когда и общий ход событий, и постоянные болезни царя выбили из колеи размеренную жизнь в московских дворцах и теремах, никого не удивляло, если царевны чаще обыкновенного появлялись и на народе, и на мужской половине Кремля. Не удивляло и то, что бояре, духовные лица и даже стрелецкие головы появлялись в пределах теремов не только во время редких, торжественных событий и выходов царских, но даже в неурочные дни, под предлогом деловых докладов, челобитья или посещения родственниц, постоянно живущих при теремах цариц и царевен.
Конечно, старухи, строгие блюстительницы древних нравов и обычаев, покачивали с сокрушением головой и потихоньку судачили между собой.
Но так как всё происходило в пределах приличий, они не решались громко огласить свои сетования.
Так понемногу распадались запоры, наглухо замыкавшие двери старого русского дворцового терема, осторожно надрывалась вдоль и поперёк густая фата, закрывающая от мира лицо и душу женской половины царских дворцов.
Слабоволие, вечное нездоровье царя, родовая распря, хотя незаметно, глухо, но упорно и грозно клокочущая в стенах дворца, яркая личность умной, настойчивой и осторожной при всём этом царевны Софьи – вот что заронило некоторым смелым, дальновидным честолюбцам мысль о новом государственном порядке, возможном на Руси.
С помощью одной из враждующих сторон удалить другую, объявить слабоумного, но довольно крепкого, живучем Ивана царём по смерти Федора, жениться на одной из царевен, стать опекуном царя, посаженного для виду на престол… Потом постепенно приучить народ к мысли, что дети царевны-сестры могут наследовать власть после дяди… Регентство… и вдали, кто знает, может быть, по примеру Бориса Годунова, даже царские бармы… Почему бы нет?
Царство сиротеет. Умный и смелый человек разве не вправе поднять то, что может оказаться в один прекрасный день ничьим?
Только Пётр мешает… Но он пока ребёнок, трудно ли обойти это препятствие.
Вот какие планы в числе многих лелеял в душе Василий Васильевич Голицын и сошёлся на них с царевной Софьей. И, как бы подготовляя почву для новых событий, для новых людей, он со многими другими боярами уговорил царя на важный, решительный шаг. Задумано все дело было ещё царём Алексеем.
Древний обычай местничества, родового и служебного старшинства, отголосок дружинного строя, во многом связывал руки московским государям и на пути их к самовластию, и при введении новых начал в народную жизнь. Алексей не решился докончить дело, начатое ещё тяжкой рукой Ивана Грозного.
И вот при слабом, податливом Федоре недавнее, неродовитое боярство, считая, что принижение древних родов возвеличит их самих, добилось большого и важного решения. На торжественном собрании всех государственных чинов с участием патриарха и духовных владык 12 января 1682 года прозвучала речь Федора о вреде местничества. Тут же было составлено и подписано «соборное деяние», постановление, об уничтожении местничества на Руси. Из Разрядного приказа вынесли все списки и книги, на которые опирались бояре при спорах о первенстве и о местах. Грудой свалили их на площади и сожгли!
Василий Голицын был одним из главных лиц, склонивших царя на такой решительный шаг.
Теперь, призванный на совет, слушая Софью, более нетерпеливый, чем сама царевна, не связанный с Фёдором ни родством, ни привычкой детства, Голицын не мог разделить добрых порывов, которыми озарялась порою душа девушки, такая мужественная и непреклонная всегда.
– Што же, оно и подождать не беда, – с притворным смирением выслушав царевну, заявил князь. – Ево воля царская, што станешь делать. Мы все – рабы царя… Тут не поспоришь. Оно, скажем, и то… Завтра умри государь – и всядет на трон царевич юнейший… Матушка его, царица, первой станет. Припомнит она в ту пору всем, от ково што плохое видела али к кому недружбу питает. Это одно. А другое… Нешто царям можно жить, как нам, простым людям? Над ними милость Господня. Я женат, нет ли, с меня не спросится. А государю Федору Алексеичу, коли суждено помереть, он и не женатый помрёт. Судил Господь ему оставить наследника царству, так и женитьба станет не на вред, а на исцеленье ему. Верить в Господа надо и нам, смердам, а царям наипаче. На то и Божии помазанники они… Уж коли ты сказываешь, свет государыня-царевна, так в вере окреп государь, по моим словам и толковала бы с ним. Вреда не будет.
Слушает вдумчиво Софья, молчит.
Ловко построенная, вкрадчивая, умная речь Голицына навела её на новые мысли.
Конечно, колебаться не следует. Если только все готово, надо скорее ставить последнюю ставку. Будет жив Федор, явится у него наследник, всё-таки главная цель осуществится. Наталья Нарышкина со всем её родом отойдёт далеко-далеко на задний план. Она, Софья, будет первой и по близости к царю Федору, и потом по малолетству наследника…
Если же правда, что женитьба может ускорить смерть брата… Воля Божия! Тогда…
Софья не захотела довести до конца цепь соображений и картин, зарождающихся у неё в душе.
– Добро, боярин… Твоя правда, Васильюшко. Не время ждать да откладывать. И сама потолкую с братцем, и боярыню Анну наведу. Он её слушает… А на ком бы оженитца царю? Неужели сызнова невест собирать? Стоит ли? Сам сказываешь, нельзя тратить часу напрасно. Кого ж бы посватать?.. Штоб с нами царица заодно была и родня вся её… Не скажешь ли? Может, было уж на уме у тебя…
– Думалось… Не потаю. Как ты скажешь, государыня-царевна? А у Апраксиных сестрица подросла, пятнадцатый годок пошёл девице. Тихая, богобоязная девица, собой куда хороша. Ино и царь на неё поглядывал, чай, ведаешь. Ровно распукалка[35]35
Распукапка – бутон; почка.
[Закрыть] вешняя боярышня.
– Да уж не расписывай… Знаю её. На моих глазах, почитай, и росла Марфуша… Не перехвали гляди.
– Мне што… Мне она в дочки годится, – поймав на себе ревнивый взгляд Софьи, заметил Голицын. – А братовья Апраксины нам люди верные И сам старик из наших же рук глядит. Вот чево бы лучче.
– А Языкова позабыл? Слыхать, Иван Максимыч сам присватывается к боярышне. Тоже давно знакомы они. Соседи и дружбу ведут старинную. Как он скажет?
– Што ж, што Языков? «Ау, брат», – только и скажем. Неужто царю не уступит? Мало ли боярышень на Москве? И познатнее и побогаче… Утешится.
– Да может, князь, люба ему девица, всех дороже.
– Потерпит. Мало кому што любо. Ино дело, близок локоть, да не укусишь. Не так живи, как хочется, – со вздохом, печальным голосом произнёс этот воин, такой суровый, строгий на вид, никогда почти не меняющий выражения своего красивого лица, на котором заметён почётный знак – след от вражеской сабли.
Вспыхнула и Софья. Помолчав, она только и сказала:
– Добро. Так и дело поведём. А теперя – не взыщи. К государю-брату пора. Звал он меня на богомолье с им ехать… Родителей помянуть.
– Вот и ему ты помяни, царевна, о чём мы толковали с тобой.
– Да уж сказано. Своё не забуду. С Богом, князь!
Они расстались.
Решение, принятое обоими, было поддержано и остальными вожаками партии Милославских. Работа закипела.
Сумели уговорить и патриарха принять участие в благом деле.
Федор часто видал и ласкал, как сестру, как ребёнка, боярышню Апраксину, весёлую, красивую, пышущую здоровьем девушку.
И когда ему предложили взять её в царицы, он не стал долго отговариваться. Покойная царица Агафья успела пробудить в душе царя чистую, тёплую привязанность к себе. И даже после её смерти Федор не мог отрешиться от этого первого чувства, пережитого им.
Так не все ли равно, кого избрать теперь, кто займёт место на троне и в терему, но не в душе царя?
Когда согласие было получено и о нём узнал Языков, он ничего не сказал. Только усмешка недобрая, как судорога, проскользнула у него по лицу.
И в тот же день, вечером, боярин-оружничий, появившись на половине царицы Натальи, долго наедине беседовал с ней.
О чём? Никто не мог узнать, хотя и проведали Милославские и Хитрово о таком необычном свидании Языкова с Нарышкиной.
Когда Богдан Матвеич Хитрово прямо задал вопрос Языкову, тот нисколько не смутился.
– Да ужли ж ты и сам не догадался, боярин? Время подошло горячее. Бог един знает, што наутро всех ждёт. Заявился я к государыне-царице, ровно бы её руку держать собираюсь. А сам повызнать надумал: што там, у Нарышкиных, деется? Што затеяно сейчас всей ихней стороною? Им тоже ведомо, что государю, тово и гляди, смертный час приспеть может… Чай, готовят нам отпор, штобы молодшего царевича на трон посадить… Вот и толковали…
– И… што же… столковалися?
– Нету покуда. Не верит мне государыня Наталья Кирилловна. «Все-де врагом нам был. С чего дружба одолела?» Так сказывает.
– Гм, правда-то оно правда… Умён ты, боярин. И в слове, видно, твёрд. За нас стоишь, – выслушав объяснения Языкова, где правда перемешалась с ложью, проговорил Хитрово. – А ныне и больше можешь нам помочь подать. Слышно, задумал царь и женитьбы не ждать, а про всяк случай – наречи наследника, Петра-царевича. С чево – не знаю, а остыл ко мне государь. Ровно бы гневен стал. Ты у него в милости. Потолкуй о затее об новой. Да не мешкая. Ежели правда – поотговорить надо. Сказать ему… Да што тебя учить. Сам других поучишь… Как скажешь, Иван Максимыч, идёшь ли на то?