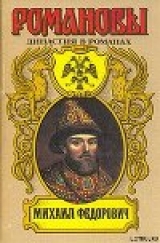
Текст книги "Михаил Федорович"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц)
– Пойдем, побежим скорее! – шепнула она Мише, который ничего не успел расслышать и ничего не сообразил, но побежал следом за Танюшей и, судя по ее озабоченному, деловому виду, готовился услышать от нее что-то важное.
– Что он говорил? – спрашивал он неоднократно у сестрицы на бегу; но та только рукой от вопросов отмахивалась и прибавляла бега.
Раскрасневшаяся, запыхавшаяся вбежала она в избу и, прежде чем кто-нибудь успел на нее обратить внимание, одним духом выкрикнула:
– Дядя! Тетя! От царя за нами на суденке люди приехали!… Указ привезли… Нас в другое место и нашего пристава в другое место… А маму сюда!
Миша, не желая отстать от сестрицы, тоже тревожно
доложил:
– От царя приехали… на лодке приехали…– и решительно не знал, что следует ему сказать дальше.
– Ох, таранта! – с добродушным укором сказала княгиня. – Ну что ты путаешь? Ну где ты это слышала?
– Там слышала, – настаивала Танюша. – Чужой пристав с нашим приставом говорил!… Пойдите сами посмотрите! Спросите их!
Произошло невольное и общее волнение, все всполошились, все заговорили разом, все собрались выйти из дома и посмотреть, что там на берегу творится.
– Ступай-ка опять, да разузнай все хорошенько! – озабоченно заговорила княгиня Марфа Никитична.
– И я! И я! И мы с тобой тоже! – закричали Миша и Танюша, и вслед за князем все население боярской избы высыпало за частокол, а князь, держа детей за руки, чтобы они не очень спешили и горячились, направился к тому месту берега, где пристав стоял около челнов с Софроном Шабровым.
В то время когда князь Борис, спустившись с откоса и понемногу все ускоряя и ускоряя шаг (потому что и его охватило какое-то невольное волнение), подходил к озеру, челн, подталкиваемый рыбаками на шестах, подплывал к берегу. В нем, кроме двоих рыбаков, князь различил еще какого-то плотного мужчину с темною, окладистою бородою и женскую фигуру в темной одежде. Вот рыбаки в двух саженях от берега вылезли из челна в воду и, облегая его, поволокли на себе по прибрежному песку. Потом, почтительно и бережно поддерживая под руки своих седоков, высадили их на берег…
Тут только князь разглядел, что черты лица этой женщины знакомы ему… сердце екнуло у него, но он не смел еще верить глазам…
Однако приезжая уже заметила его и детей и опрометью бросилась к ним навстречу с распростертыми объятьями:
– Детушки! Детушки мои дорогие! – воскликнула она, едва сдерживая душившие ее рыдания.
– Мама! Мама! – звонко крикнули детки и, вырвавшись у князя, понеслись ей навстречу.
IV И РАДОСТЬ – НЕ В РАДОСТЬ
Прошло еще три года, и на Руси совершилось много важных событий. Царь Борис вступил в борьбу со смутой, которая ополчилась против него в лице загадочного Лжедмитрия, прикрывавшегося тенью невинно загубленного Углицкого страдальца. В самый разгар борьбы Борис умер, передав бразды правления в слабые руки юного Федора[14]14
…Борис умер, передав бразды правления в слабые руки юного Федора…– Борис Годунов скоропостижно скончался 13 апреля 1605 года. Сын Годунова царевич Федор был наречен на царство через три дня после смерти отца.
[Закрыть], который попытался продолжать борьбу далее; но измена поднялась отовсюду, грозный враг одолел – и Федор Борисович пал в борьбе[15]15
…Федор Борисович пал в борьбе…– Федор Годунов был низложен 1 июня 1605 года. Вскоре он был арестован и казнен.
[Закрыть]… Все это совершилось так быстро, что на окраинах Московского государства еще не успели получить вести о кончине царя Бориса, как уже дьяки и подьячие опять сидели за работой и наспех писали во все концы Русской земли о кончине царя Федора Борисовича и о вступлении «на прародительский престол законного, прирожденного великого государя Дмитрия Ивановича[16]16
…великого государя Дмитрия Ивановича. – Под именем Дмитрия Ивановича на престол вступил самозванец Лжедмитрий I.
[Закрыть]».
Нескоро доходили эти важные вести и до отдаленных городов, лежавших на востоке и севере Руси; еще дольше, еще медленнее проникали они в отдаленные поселки и обители, лежавшие в глухих местах. Потому и немудрено, что даже и тот дьяк, который был новым государем отправлен в Антониев Сийский монастырь «с тайным делом», приехал в эту дальнюю обитель уже по первопутку и, надо сказать правду, насмерть перепугал старого игумена Иону.
– Ты, старче, кого в церкви Божией за службой поминаешь? – спросил игумена дьяк, едва переступив порог обители и предъявляя ему свои полномочия.
– Как кого? Вестимо, господин дьяк, поминаю, кого нам указано: по преставлении царя Бориса, поминаю законного его наследника, великого государя Федора Борисовича, и матерь его Map…
Дьяк резко перебил его на полуслове.
– Изволь это тотчас отменить и поминать ныне благополучно царствующего, законного государя Дмитрия Ивановича. Вот тебе о том и указ от патриарха Игнатия.
Игумен вдруг изменился в лице: крайнее смущение выразилось в его широко открытых глазах, губы шевелились без слов и язык «прильпе к гортани»[17]17
…великого государя Дмитрия Ивановича. – Под именем Дмитрия Ивановича на престол вступил самозванец Лжедмитрий I.…язык «прильпе к гортани» – цитата из 21-го псалма: «И язык мой прильпе гортани моему».
[Закрыть]… Он долго не мог оправиться от своего волнения, не мог произнести ни звука, не решался даже принять патриаршей грамоты, которую ему протягивал дьяк.
– Что же ты? Читай грамоту…
– Не… не см…е…ю читать, го-го-спо-дин дьяк! – пробормотал игумен Иона, заикаясь от страха. – Не ведаю, о каком патриархе ты говорить изволишь… У нас господин патриарх Иов поминается.
– Ну был Иов, а теперь Игнатий![18]18
…был Иов, а теперь Игнатий! – Вместо свергнутого патриарха Иова по указанию Лжедмитрия на патриарший престол собором был возведен Рязанский архиепископ Игнатий.
[Закрыть] Был царь Федор, да волею Божьею помре, ну и теперь стал царем Дмитрий на Москве! Русским тебе языком говорят…
– Дозволь узнать, господин дьяк, – как-то особенно смиренно и принижено заговорил игумен Иона, запуганный строгим дьяком, – и патриарх Иов тоже волею Божьею…
– Нет, не Божьею, а царскою волею сведен с патриаршего престола и заточен в Отарицкий монастырь. Да читай же грамоту: там все написано!
Совершенно оторопевший и растерявшийся старик игумен взял наконец грамоту, стал ее читать – и дьяк видел, как тряслись его желтые сморщенные руки. Дочитав грамоту до конца, игумен положил ее на стол, перекрестился на иконы и, обращаясь к дьяку, сказал более спокойным голосом:
– Что еще приказать изволишь, господин честной?
Дьяк полез за пазуху и вытащил другой столбец.
– Здесь у тебя в обители находится сосланный Годуновым опальный боярин Федор Романов, в иночестве Филарет…
– Находится, господин дьяк, и коли дозволишь правду тебе сказать, солоно всем нам от него приходится… Ох, как солоно!
Дьяк прищурил глаза, всматриваясь в лицо игумена, и процедил сквозь зубы:
– А почему бы так?
– Уж привередлив очень… Ничем-то на него не угодишь. Приказано нам было, чтобы у него в келье малый жил, как бы для услуги, нам чтобы его речи знать, и тот малый ему полюбился и стал от нас речи утаивать. Мы этого малого из его кельи взяли, а на место его старца Иринарха к нему послали; а он, изменник государев, на того старца и прогневайся.
– Не изволь государеву родню таким словом обзывать, коли в ответе быть не хочешь! – строго заметил дьяк.
– Да какая он родня государю Федору Борисовичу! – возразил было растерявшийся игумен.
– Не Федору Годунову, которого в живых нет, а нонешнему, природному государю Дмитрию Ивановичу. И вот указ государя о том. чтобы инока Филарета из заключения здешней обители освободить, у пристава Воейкова из-под начала взять и представить на его государевы очи.
Тут уж игумен Иона до такой степени растерялся, что только поклонился дьяку и развел рукой, как бы желая этим сказать: «Твоя, мол, воля! Что хочешь, то и делай!»
– Веди же ты меня к нему немедля – указ государя ему объявить. А там уж от дальнего пути не грех отдохнуть.
– Пожалуй со мною, господин дьяк, – заторопился игумен Иона, очень довольный тем, что он хоть как-нибудь мог наконец избавиться от этой тяжкой беседы и скрыть овладевшее им смущение.
Он повел дьяка через монастырский двор, обстроенный пятью-шестью избами и не везде огороженный городьбою, местами развалившеюся, местами, очевидно, растасканною на топливо. На пути, у одной из изб, государева дьяка встретил пристав Воейков, суровый, высокий и худощавый человек. Низко кланяясь, он уступил дорогу в сени игумену и дьяку и поспешил отворить дверь из сеней в избу, служившую кельей Филарету.
Переступив порог избы и перекрестившись на иконы, дьяк увидел перед собою ссыльного инока, стоявшего у окна с толстою писанною книгой в руках. Дьяк отвесил ему низкий поклон и невольно вперил в него изумленный взор…
Перед ним стоял высокий мужчина, лет под шестьдесят, сильно поседевший и исхудавший за последние годы тяжкой ссылки, но все еще прекрасный собою, осанистый и величавый. Большой ум светился в его темных живых глазах, которые по временам загорались ярким пламенем и приобретали дивную, чарующую, подавляющую силу.
Густые, серебрившиеся сединою волосы волнистыми прядями спадали ему на плечи из-под простой черной скуфейки, а окладистая борода спускалась почти до половины груди на потертую и поношенную черную рясу…
Но могучая, прекрасная фигура Филарета производила в общем такое сильное впечатление, что нельзя было под этою убогой одеждой, среди этой убогой кельи не угадать большого боярина, человека властного и гордого, привыкшего повелевать и внушать к себе уважение. Ответя спокойным кивком головы на поклоны дьяка, Филарет, вероятно угадавший в нем посланца издалека, отложил книгу на аналой и устремил на дьяка пытливый, вопрошающий взор.
– К твоей милости с указом государевым,-заговорил дьяк, совсем не тем тоном, каким он говорил с игуменом Ионой.
– Читай, готов слушать.
Дьяк развернул столбец и стал читать указ великого государя Дмитрия Ивановича о том, что он, радея о благе всех своих родичей, повелеть соизволил всех бояр Романовых, а в том числе прежде всех Федора Никитича, в иночестве Филарета, из ссылки вызвать в Москву, возвратить им сан боярский и все отнятые у них поместья и вотчины. Филарет слушал чтение дьяка с сосредоточенным вниманием, ничем не выказывая волновавшие его чувства. При имени «великого государя Дмитрия Ивановича» густые брови его сдвинулись на мгновение и в глазах мелькнуло что-то странное – не то удивление, не то презрение, – но он не перебил дьяка ни одним вопросом, не справился об участи Годуновых, как игумен Иона… Даже не выказал радости ввиду освобождения от ссылки и заточения.
Дьяк кончил чтение и с поклоном подал указ Филарету, а тот указ принял и сказал только:
– Благодарю Бога и великого государя за милость ко мне.
Дьяк помялся на месте и решился задать вопрос:
– Когда тебе угодно будет ехать? Мне приказано просить тебя пожаловать в Москву без всякого мотчанья[19]19
Старинное – медление, мешкание. (Примеч. авт.)
[Закрыть] и не мешкая нигде в пути.
– Отдохни с дороги, – благосклонно ответил Филарет, – а я к пути всегда готов.
И опять ни в голосе его, ни в выражении лица не было ни тени волнения, радости или тревоги… Но зато и на игумена Иону, и на пристава Воейкова смотреть было жалко – так они вдруг опешили, принизились и растерялись. Когда дьяк, отвесив Филарету поклон, направился к дверям вместе с игуменом, пристав не вытерпел, вернулся из сеней в келью и стал отбивать перед Филаретом поклон за поклоном, приговаривая:
– Милостивец, не погуби!… Если в чем согрубил – не погуби, не взыщи на мне, окаянном!
– Взыскивать с тебя мне нечего… Ты исполнял волю пославших тебя, – спокойно и твердо сказал Филарет. – Иди с миром.
Пристав не заставил себе повторять это ясно выраженное указание на то, что инок Филарет желал остаться наедине с самим собою; кланяясь, он попятился к двери и скользнул за нее ужом.
Но когда дверь за ним закрылась и Филарет остался один в своей убогой келье, он поддался вполне тому волнению, которое овладело им с первых слов выслушанного им указа и подавление которого стоило ему невероятных усилий воли. Он быстро подошел к окну, опустился на лавку, развернул царский указ и стал жадно пробегать его глазами.
«Великий государь Дмитрий Иванович! – шептал он про себя с улыбкой презрения. – Обманщик наглый… Ставленник польский и казацкий… И на престол попущением Божьим… И где слава, где мощь всесильного лукавством царя Бориса?… Темны и неизведаны пути Господни…»
И не льстили ему, не привлекали его те милостивые речи, с которыми обращался к нему новый «великий государь», дерзко и самовольно называвший его своим родичем, суливший все блага жизни… Ему легче было вспомнить обо всех ужасах перенесенной им опалы, разорения и ссылки, нежели о тех почестях, милостях и богатствах, которые ему предстояло получить из рук самозваного царя Московского, каким-то невероятным чудом вознесенного на высоту престола.
– Но как же быть? Что делать? Как решиться идти в обман и об руку с обманщиком? А если не идти, если презреть его…
Мысль о жене, о детях, о свидании с ними вдруг властно вторглась в эти рассуждения и помыслы и вызвала слезы на глазах подневольного отшельника.
– Детушки, детушки милые! – воскликнул он почти громко и не мог сдержать рыданий… Рыдая, опустился он на колени перед иконою Спаса, висевшей в углу, и стал молиться и плакать и изливать горячую исповедь души перед Богом, души, давно наболевшей от всех бедствий и зол, какие на него так обильно пролились за последние годы – на него, ни в чем не повинного и так страшно, так беспощадно испытуемого судьбою! И вот теперь, вслед за этими горестями и бедствиями, надвинулась на него новая волна, против которой еще труднее будет устоять; будущее манит его счастьем, свиданием с родными и близкими, манит мирскими благами, от которых он успел отвыкнуть, которые научился презирать… Но для того чтобы достигнуть этого счастья и этих благ, надо было нарушить мир души своей, порвать со своею совестью, поклониться кумиру, который должно бы повергнуть во прах.
– Что делать, что думать мне? Куда стопы мои направить?! – скорбно взывал он в молитве своей, и луч света, озаривший душу его после долгого и восторженного умиления перед Всеблагим, указал ему, наконец, выход из этой тьмы противоречий, лжи и обмана…
– Кто знает пути Господни? Кто дерзнет похвалиться, что они ему ясны и видимы? Мирские блага меня теперь не соблазнят, и власть не привлечет меня, и суета не ослепит своим коварным блеском!… Нет больше во мне боярина Романова: он обратился в инока смиренного, и это смирение должно теперь спасти меня от соблазна… Эта ряса, которую надел я против воли, которую я ненавидел долго, как тяжкие оковы, с которою потом я свыкся и примирился, эта ряса, которую нельзя стряхнуть с себя и сбросить, как сбрасываем мы одежды мирские, – она теперь послужит мне бронею против зол и соблазна, она мне не дозволит занять места на пиршестве иезавелином… И если даже я только детей своих спасу от уз обмана и лжи, укрою от зла, – разве этого мало? Разве не стоит для этого идти туда, где зло водворилось, и зло и обман сносить до той поры, пока Господь не укажет ему предела, не потребит его гневом Своим?…
И он опять стал плакать и молиться, и просить у Бога сил и помощи в предстоящей ему борьбе, и молился долго… День уж вечерел, когда он поднялся с молитвы, успокоенный, примиренный со своею совестью и готовый вполне сознательно сказать себе:
– Да будет во всем Его святая воля!
V БУРЯ НАДВИГАЕТСЯ
Осень 1608 года стояла удивительно теплая, тихая, сухая. Сентябрь уж шел к концу, а лес еще стоял в полном уборе и блистал густою, ярко-золотистою, то огненно-красною, то багряною листвой. И дни стояли ясные, нежаркие, при той удивительной прозрачности воздуха и той поражающей ясности неба, которые свойственны только северной осени. И как бы в противоположность этой тихой осени богоспасаемый город Ростов – «старый и великий», как он некогда писался в грамотах, величаясь перед новыми городами Владимиро-Суздальского края, всегда спокойный, сонный и неподвижный, словно замерший среди своих старинных церквей и башен, – в эту осень сам на себя не походил… На улицах заметно было необычайное оживление и движение; на перекрестках, на торгу, на папертях церквей – везде граждане ростовские собирались кучками, толковали о чем-то, советовались, спорили, что-то весьма тревожно и озабоченно обсуждали. И в приказной избе тоже кипела необычная работа: писцы, под началом дьяка, усердно скрипели перьями с утра до ночи, а дьяк по многу раз в день хаживал с бумагами к воеводе Третьяку Сеитову и сидел с ним, запершись, по часу и более. И сам Третьяк Сеитов был тоже целый день в суете: то совещался с митрополитом ростовским Филаретом Никитичем, то с кузнецами пересматривал городскую оружейную казну, отдавая спешные приказания относительно починки и обновления доспехов и оружейного запаса, то обучал городовых стрельцов ратному строю и ратному делу. Одним словом, на всем Ростове и на всех жителях его лежал отпечаток какой-то тревоги, беспокойства, ожидания каких-то наступающих бед и напастей. Это тягостное ожидание наполняло умы всех граждан, от старших и до меньших людей, и потому неудивительно, что главным предметом всех частных бесед, где бы они в это время ни происходили, были те же ожидания, те же страхи и опасения, грозившие бедою нежданною и неминучею.
И вот в саду того дома, где в Ростове помещалась инокиня Марфа Романова со своими детьми, Мишей и Танюшей, и с деверем своим, боярином Иваном Никитичем Романовым, в один из этих прекрасных и солнечных дней конца сентября 1608 года шла между Марфой Ивановной и Иваном Никитичем точно такая же беседа, как и всюду в Ростове, на площадях да перекрестках, на базарах и в домах.
– Час от часу не легче, – говорила, вздыхая, Марфа Ивановна, – одной беды избудешь, к другой себя готовь!
– Словно тучи, идут отовсюду беды на Русь, – сказал угрюмо сидевший около инокини боярин Иван Никитич, – и просвету между туч не видно никакого! Одна за другой спешит, одна одну нагоняет… Сама посуди: от одного самозванца Бог Москву освободил, – и году не прошло, другой явился, а с ним и ляхи, и казаки, и русские изменники… И вон куда уж смуту перекинуло: под Тушиным Москве грозят, обитель Троицкую осаждают да сюда уж пробираются, в Поволжье… Спаси, Господи, и помилуй!
– Да неужели они и сюда прийти могут? – тревожно спросила Марфа Ивановна, невольно бросая взор в ту сторону сада, откуда неслись веселые и звонкие детские голоса.
– Вчерась получены были вести, будто под Суздалем явились передовые отряды лисовчиков[20]20
Лисовчики – название польской легкой конницы.
[Закрыть]. А от Суздаля сюда далеко ли?… О, да эти змеи лютые всюду проползут!
– Да ведь и в Суздале есть воевода и при нем отряд изрядный, а во Владимире и зять наш Годунов, Иван Иванович, и рать при нем царская. Неужели не дадут отпора? Неужели допустят врага сюда?
– Как говоришь ты, сестрица, – не дадут отпора? И дали бы, да тут же рядом измена, за спиною у тебя. Везде-то шаткость, ни на кого надежды возложить нельзя, ни друга, ни брата, ни кровного. А ты об отпоре говоришь!
– Так как же быть, по-твоему?
– А по-моему так: заранее меры принять. Я так и брату Филарету говорил, – вот, к примеру, тебя с детьми я отослал бы, пока есть путь в Москву. Там все же вернее будет.
– Меня с детьми? А муж здесь чтобы остался? Нет, нет! Ни за что!
– Ну, так сама останься, а детей отпусти со мною. Я все равно сегодня в ночь поеду.
– Нет, и с детьми расстаться мне не под силу. Сколько муки натерпелась я в разлуке с ними.
– Мама! Мама! – зазвенели со стороны, из-под густых берез, серебристые голоса детей. – Гриб нашли! Гриб нашли! Белый, хороший!
И Миша с Танюшей стремглав подбежали к матери, с торжеством подавая ей свою находку.
– Это я первая увидала! – утверждала Танюша.
– А я… А я его сломал! – оспаривал Миша.
– Ох, вы милые, дорогие мои! – обратилась, мать к деткам, обнимая их и привлекая к себе. – И ты, моя большуха глупенькая! Чуть не невеста уж, ведь тринадцатый годокпошел, а из-за гриба поспорить готова. И ты, моя надежда! Грибовник мой! Нет, не расстанусь я больше с вами!
И она обняла детей, стала их горячо целовать и в лоб, и в щеки.
– По нынешнему смутному времени, сестрица, так говорить– Бога гневить! Разве мы в себе вольны? Или ты забыла, как всех нас разметала гроза гнева Божия и вихрь разнес нас по лицу земли русской! Как цвет и гордость нашей семьи погибла? Брат Михаил – красавец, богатырь по силе – сошел в могилу, а я, больной и хилый, все перенес. Чем ты поручишься, что и теперь живем не накануне такой же беды? Вот я и думаю, что было бы неразумно испытывать судьбу, а следует позаботиться теперь же и упредить опасность.
– Мама, что такое дядя говорит? – пугливо прижимаясь к матери, проговорила Танюша. – Разве тут нам жить опасно?
– Нет, голубушка! Дядя не об нас и говорил… Ступайте с Мишей, поищите еще грибов: из одного не сваришь похлебки… А где же пестун Мишенькин, где Сенька?
– Здесь я, матушка-боярыня! – раздался голос из-за крыльца, и к инокине Марфе подошел высокий и сухой мужчина, лет сорока пяти, с очень приятными чертами лица; глаза его светились добротою, и улыбка почти не сходила с уст его.
– Смотрел я, государыня, любовался, как господин воевода городовых стражников мушкетной пальбе обучает… Видно, что он не на шутку воевать затеял, и тогда, пожалуй, точно ворогам несдобровать будет… Жаль только, что наши мужики ростовские не заодно с воеводою думают.
– А ты почем их думы знаешь? – спросил Иван Никитич, недоверчиво озираясь на Сеньку.
– Как почему знаю? Я же на торгу ежеден толкаюсь и в храмы Божии хожу, а мужики теперь все горланами стали – не шепотом говорят.
– Что говорят-то? Ну? – нетерпеливо допрашивал Иван Никитич.
– А вот, одни-то, кто посмирнее, те жалобную песню поют: уж нам ли, мол, воевать, весь век на печи просидевши! Нам-де, людям мирным, торговым да пашенным, доспех пристал ли? Иной говорит – за весь свой век тетивы ни разу не натянул, меча из ножен не вынул… А кто посмелее, те уж прямо кричат: в нашем городе ни острога нет, ни наряда настенного; коли к нам ворог придет, надо супротив его не с рогатиной, а с хлебом-солью выйти!…
– Вот тут и говори об отпоре, сестрица! – с горькой усмешкой сказал Иван Никитич, поднимаясь с места и опираясь на трость. – И если ты не хочешь слушать моего совета – твоя воля! Только, чур, не спокайся потом.
– Нет, братец, не могу, не в силах так поступить… Лучше всем вместе умереть, чем порознь жить и тосковать друг по дружке!
Иван Никитич пожал плечами и, не сказав более ни слова, заковылял к дому, а дети, которые все это слышали из-за ближайших кустов, где они спрятались, вдруг выскочили оттуда и бросились к матери на шею.
– Да, мамочка! Да! Лучше всем вместе, чем порознь жить! – шептала матери Танюша.
Но даже и ласка деток не могла согнать с чела инокини Марфы того темного облака, которое на нем нависло. Черные думы не давали ей покоя, и она не находила себе ни в чем ни утехи, ни просвета. Наконец, утомленная своими неразрешимыми заботами, она почувствовала потребность остаться наедине с собою и сказала Сеньке:
– Сведи-ка ты детей в Кремль, в митрополичий дом, сегодня, за недосугом, они еще у благословения родительского не бывали. А я тут стану братца в путь собирать.
Когда они ушли, а она осталась одна на той же лавке, в углу густого сада, который уже золотили и румянили лучи рано закатывающегося солнца, она погрузилась в думы о муже, о детях, о тех опасностях, которые могли их здесь ожидать, и старалась найти хотя какой-нибудь утешительный выход из своего тягостного положения… Но в тот день ей не суждено было ни на чем успокоиться.
– Государыня, – раздался с крыльца голос сенной девушки, – холоп твой Степанка Скобарь просит, чтобы ты дозволила ему твоих очей видеть… Говорит, с вестями приехал.
– С вестями?-тревожно переспросила Марфа Ивановна. – Зови его скорей!
Степан Скобарь вошел в сад из горницы, спустился с крыльца и, подойдя к госпоже своей, отвесил ей низкий поклон, касаясь земли перстами.
– Съездил, матушка! Все разузнал, а только хороших вестей с меня не спрашивай. Беда кругом, куда ни глянешь.
– Был ли во Владимире? Говори скорей! Видел ли зятя, сестру?
– Где их видеть? Владимир передался на сторону Тушинского царя, и зять-то твой, Иван-то Годунов, сам с хлебом-солью к тушинцам вышел.
– Боже! Боже мой! Что это за время ужасное! – воскликнула Марфа Ивановна, всплеснув руками.
– И Суздаль в их руках! Там стали было противляться, да кожевник Меньшак Шилов всех сбил с толку: заревел вдруг в истошный голос, чтобы все, кто хочет жив остаться, царю Дмитрию пусть крест целуют. И все перепутались и стали целовать крест Тушинскому… И в Переяславле тоже! А ведь переяславцы нам, ростовским, первые враги. Ну, того и жди, что скоро сюда нагрянут: наш черед теперь на зубы тушинцам попасть.
– Ты и поклясться можешь, что все эти вести верны? – твердо сказала Марфа Ивановна.
– Слова лжи не вымолвил, – с уверенностью сказал Степан Скобарь. – Вот и крест целую.
Он полез за пазуху, вытащил свой тельник и поцеловал его.
Тогда Марфа Ивановна поднялась с места и направилась к дому. На крылечке хором ей встретился Иван Никитич, уже одетый в дорожное платье.
– Что, сестрица? Хороши ли вести тебе принес Степанка? – сказал он. – А Годунов каков? Хорош отпор он дал тушинцам? И неужели же ты и после того всего упорствуешь здесь остаться?
– Да, братец, теперь больше, чем когда-нибудь, я в этом убеждена, что мое место здесь, при муже и при детях!
– Пускай бы уж при муже! Ну, а детей-то на что же под обух вести?…
Марфа Ивановна молчала и спокойно глядела ему в глаза: он понял, что она приняла твердое решение.
– Ну, как знаешь. А мне пора, пока еще не все дороги отсюда перехвачены. Прощай, сестрица! Буду ждать всех вас на Москве, коли Бог даст свидеться.
Они молча обнялись и поцеловались, не сказав ни слова более на прощанье.
* * *
На другое утро, спозаранок, тревожно зазвонили колокола во всех ростовских церквах кроме кремлевских соборов. Не то набат, не то сполох… И все граждане, поспешно высыпавшие из домов на улицу, полуодетые, простоволосые, встревоженные, прежде всего спрашивали у соседей при встрече:
– Пожара нет ли где?… А не то ворог не подступает ли?
– Ни пожара, ни ворога, а все же беда над головой висит неминучая. Вести такие получены! – слышалось в ответ на вопросы, хотя никто и не брался объяснить, в чем беда и какие именно вести.
Между тем звон продолжался, толпы на улицах возрастали, а из домов выбегали все новые и новые лица: мужчины, женщины и дети. Кто на ходу совал руку в рукав кафтана, кто затягивал пояс или ремень поверх однорядки, кто просто выскакивал без оглядки, в одной рубахе и босиком или еще хуже того – об одном сапоге. Женщины начинали кое-где голосить, дети, перепуганные общим настроением и толками, кричали и плакали. Тревога изображалась на всех лицах и становилась общею.
– Да кто звонит-то? Из-за чего звонят? – спрашивали более спокойные люди, ничего не понимая в общей панике.
– А кто же их знает! Вот у Миколы зазвонили, и наш пономарь на колокольню полез.
– Да кто велел звонить?
– Ну чего вы к нам пристали! Не мы, чай, приказывали!
– Говорят, гонец приехал, вести привез – по церквам читать будут; ну вот мы у церкви и собрались. Ан, смотрим, и церковь на замке стоит, – слышится в толпе, собравшейся у церкви.
– Да вот постойте, постойте! Отец протопоп и сам идет!
Все бросаются к отцу протопопу с расспросами о вестях и о причине звона.
– Знать не знаю. И вестей никаких не получали, – отвечает отец протопоп в полном недоумении. – Расходитесь вы, благословясь, а я сейчас пономаря с колокольни спугну.
– Как нам расходиться после этой тревоги и страха смертного! Нам надо вести знать, – кричат в ответ протопопу с разных сторон.
– Где же я вестей возьму, коли у меня их нет? Ступайте к властям в Кремль, у них спрашивайте, – отзывается отец протопоп.
– А и точно, братцы. Пойдем к самому митрополиту да к воеводе: они должны знать – они на то поставлены.
– Вестимо, к ним! К ним! Туда! В Кремль! К митрополиту, к воеводе! Как им не знать! – раздались в толпе голоса и крики и, повторяемые другими толпами, привели к общему движению в одном направлении.








