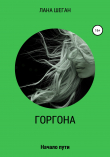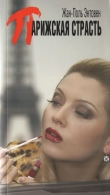Текст книги "Горгона"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Черт его знает, как нехорошо получилось.
И еще хуже стало, когда они все пошли танцевать. Распоряжался здесь Рюша, как дирижер, взмахивающий указательным пальцем. Еще бы, староста класса, привык в школе командовать. Алечка, как вцепилась в Витьку, так больше его и не отпускала. Даже в коротких паузах ревниво и, видимо, цепко придерживала за локоть. Боялась, что ли, что отобьют его, кура такая. Перетаптываясь с огрузневшим Шизоидом, Вика это хорошо видела. И опять у нее, как при гриппе, толчками подскакивала температура. Временами ее даже немного знобило. А Шизоид, по-видимому, уже изрядно наклюкавшийся (водку-то он хряпал и в самом деле, как взрослый мужик), бормотал что-то невнятное, однако вполне однозначное: Нормальный оттяг… Ну чего ты?.. Насчет перепихнуться… – Что означает последнее слово, Вика догадывалась. Дыша в ухо и шею, Шизоид лапал ее достаточно откровенно, – прижимал к себе так, что сплющивались набухшие груди. Вика, чуть отклоняясь, все же особо не сопротивлялась. Обниматься с Шизоидом было, как обниматься с деревом: некоторая стесненность движений, неловкость от того, что могут заметить другие. Ничего больше. Она его даже не слушала. И только когда Шизоид, бухнув мясистой ладонью по выключателю, откровенно в образовавшемся полумраке просунул ей пальцы меж пуговиц – засопев от избытка эмоций так, что даже перекрыл музыку, Вика холодно и расчетливо впилась ему ногтями в запястье.
Шизоид охнул и, шипя, затряс рукой в воздухе.
– Ну ты чего?.. – сказал он. – Ну ты, Савицкая, знаешь, бревном трахнутая…
– А не лезь, куда не просят, – объяснила Вика.
– Ты, вообще, спасибо скажи, что я тобой занимаюсь…
– Спасибо, – хмыкнув, сказала Вика.
– Ладно, не выпендривайся, иди сюда…
– Не трогай меня!
– Ну че ты, ну че ты, ну ты чего?..
Ухватив Вику за локти, Шизоид тянул ее, пригибая, в ближайший угол. Вырваться не удавалось, пальцы у него будто одеревенели. Вика уже примеривалась, чтобы съездить ему свободной рукой по бугристой физиономии, но тут, к счастью, откуда-то из темноты вынырнул вездесущий Рюша и, немедленно вклинившись между ними, приобнял Шизоида, чтобы тот не слишком качался.
– Старик, какие вопросы? Пойдем выпьем!..
– А чего она? – громко, на всю комнату вопросил Шизоид. – Я к ней – путем, а она – царапаться…
– Никаких вопросов, старик, сейчас – по двадцать пять капель!..
– Кикимора вздрюченная!..
– Ну все, все, старик!..
Они забултыхали к разгромленному столу.
И тут Вику точно ударило. Ее вдруг пронзила догадка, что Шизоида пригласили на вечеринку исключительно для нее. Этого придурка лохматого, это тупое косноязычное чучело, этого второгодника, – только, чтобы он ей занялся.
Видимо, никто больше не захотел.
И догадка эта была настолько невыносима, что, сжигаемая ее ядовитым, почти смертельным огнем, Вика решительно пересекла комнату, наступив, кажется. на чью-то ногу, втиснулась в угол, где за торшером устроились счастливые Витька с Алечкой, разобралась кто есть кто в этом переплетении и предложила, веселостью заглушая то злобное, что начинало в ней прорастать:
– Пойдем, Витек, потанцуем!..
Лицо у Витьки стало несколько озадаченное. Он как бы не очень понимал, о чем речь.
– Э-э-э… – не сразу ответил он. – Да… Конечно… Потом… Сейчас – не хочется… Ты извини, Савицкая, я тут – разговариваю…
От него действительно пахло одеколоном.
Алечка, опустив голову, рассматривала поблескивающий перламутровый маникюр.
Она словно отсутствовала.
– Ну пойдем-пойдем, что значит «не хочу2? – нервничая, сказала Вика.
– Нет, правда, Савицкая… Извини…
Искательная улыбка, отвислые, будто у пса, широкие губы. Вика не помнила, как она выбралась обратно, из-за торшера. Вечеринка начала распадаться на несвязанные друг с другом фрагменты. Она посидела немного с Рюшей, который словоохотливо объяснил ей, что Шизоид – человек, в общем-то неплохой, здоровый рабочий материал, из него можно лепить все, что хочешь… – Если, конечно, тебе охота лепить из дерьма, – заметила Вика. Потом выпила немного вина и даже поцеловалась с Виталиком, которому принадлежала квартира. Тот вдруг вспыхнул энтузиазмом и начал рассказывать о своей коллекции бабочек: собирал ее, боже мой, чуть ли не с пяти лет, предложил немедленно показать самые редкие экземпляры, махаона какого-то, который в этих местах вообще не водится. Вика уловила в его словах определенный подтекст и потому отказалась. Объяснила, что побаивается этих всех насекомых. Про себя, однако, подумала, что не хватает еще инцидента с Виталиком. Он что, тоже рассматривает ее как легкую и необременительную добычу? Вику это коробило, но тем не менее приходилось считаться с неприятной реальностью. Именно так ее, видимо, здесь и рассматривают. И, наконец, она снова потанцевала с уже отмякшим Шизоидом. Причем, Шизоид на этот раз держался уже вполне прилично. Двадцать пять капель явно пошли ему на пользу. Он ее больше не лапал и даже когда пошатывался, не пытался прижаться. Напротив, вполне откровенно, хотя и путано объяснил, что ничего, собственно, такого в виду не имел. Мы ведь для чего собрались? Мы ведь, елы-палы, для этого и собрались. Ну не хочешь, не надо, ну ладно, ходи голодная.
Какой-то музыкальной волной их вынесло в коридор, а потом – в небольшой закуточек, в конце его, наподобие глухого чулана, где от ночничка-циклопа, матово тлеющего на стене, разбегались во все стороны скользкие стеклянные отражения. Вика догадалась, что это и есть коробки с коллекциями. Бабочки были ужасно распялены на иголках. А под ними, сгрудившись на нескольких беспорядочно поставленных стульях, сидели – Рюша, Виталик и угадывающийся по шевелюре Серега-охматый. В центре же этого довольно странного полукруга расположилась Лерка, небрежно закинувшая ногу на ногу. Плечами она изогнуто привалилась к стене, а пальцами, сжатыми в кулаки, зачем-то держала верхние отвороты блузки.
Вика не понимала, чего это они здесь скопились.
Но в тот момент, когда Шизоид, тоже, вероятно, заинтригованный, пропихнул ее внутрь и сам стал сзади, Рюша дернув на вошедших ушами, напряженно поинтересовался:
– Ну что? Слабо?
– Не слабо, а смысла не вижу, мальчики, – сладко улыбаясь ответила Лерка.
– Какой тебе смысл? Деньги?
– Нет, не деньги.
– А что?
– Сам догадайся… – Лерка прицокнула языком, а потом, неторопливо обведя взглядом присутствующих, игриво спросила: – Что, мальчики, очень хочется? Ну, так уж и быть…
И вдруг, быстрым движением разведя края блузки, вывалила вперед громадные, будто дыни, груди.
Матовая белизна их ударила по глазам.
– Ух ты!.. – громко сглотнув слюну, сказал Виталик.
– Вот это да…
– Ну, мать, ты даешь…
У Вики страшно заполыхало лицо. Она была рада, что на нее никто не обращает внимания.
А Лерка, по-прежнему улыбаясь, приподняла груди ладонями, покачала их перед мальчиками, явно гордясь солидной величиной и тяжестью, еще больше прогнулась, как будто собиралась выполнить «мостик», и направила вишневые вздувшиеся соски прямо на Рюшу:
– Нравится?..
– Ц-с-с…
– Нормальная залепуха!..
Кто-то даже икнул.
Лиственное сухое шуршание доносилось со стен. Точно внезапно ожили и заворочались наколотые на булавки тысячи бабочек.
Это, вероятно, тоже, скорее всего, забылось бы, заслонилось другими событиями, превратилось бы в далекую слабую боль, о которой можно не вспоминать, тем более, что через неделю Вика, как всегда летом, улетела на юг, и под солнцем, прожаривающим крымское побережье, в ярком плеске воды и в шуршании длинных волн, выкатывающихся на гальку, все случившееся с ней стало лишь миражом, зыбким маревом, которое еле-еле сквозило из прошлого. Его уже почти не было видно. Еще немного, еще чуть-чуть, и оно бы совсем рассеялось. Но когда Вика, одетая смуглостью жизнерадостного загара, обгоревшая так, что обострившееся лицо стало темнее волос, вся звенящая от чистоты юга, соскучившаяся, белозубая, переполненная тем нетерпением, которое всегда рождают каникулы, вернулась в город, который вдруг оказался на удивление пыльный и неуютный, выяснилось, что за три летних месяца там все изменилось, старая жизнь сошла, а вместо нее проступила иная, пугающая своей новизной.
Год был последний, и впереди маячили выпускные экзамены. Требовалось срочно решать, что делать в мире, который неумолимо распахивался перед ними: поступать в институт? Тогда – в какой? Искать работу? Но что значит на самом деле это – «искать работу»? Проблем вставало великое множество, однако вся школа, десятые классы во всяком случае, будто сошла с ума. Говорили только о том, о чем раньше, краснея, шептались лишь под большим секретом: что Бахотина из десятого «б» давно уже с Сенчуком из того же класса, что у физика, Викентия Анатольевича, третий год тянутся некие отношения с историчкой и что Зинаида, по официальной версии, заболевшая и потому исчезнувшая из класса, в действительности «залетела» чуть ли не с тренером футбольной команды (скандал, громовые раскаты, доносящиеся из учительской; Роза вместо урока по географии рассказывает о девичьем достоинстве: дескать, юноши уважают тех, кто держит себя прилично; нервничает – Лерка с Шизоидом хихикают на задней парте).
Все в этой новой жизни стало иным. Укоротились прежде строгие и мешковатые школьные платья. Забелели колени, а кое у кого и до середины голые бедра. Талии стянуты были теперь в такую замечательную обтяжку, что все плотские выпуклости над ними просто выпячивало. Вика замечала быстрые жадные взгляды мальчишек, бросаемые украдкой. Первенство здесь, вне всяких сомнений, конечно, держала Лерка. Грудь ее за лето, видимо, еще подросла, и теперь двумя грозными полушариями распирала материю. Казалось, пуговицы на платье вот-вот лопнут, материя, как тогда, разойдется, и соски, увенчивающие молочную плоть, высунутся наружу. Вика, вероятно, стеснялась бы, если бы имела такое броское изобилие. А вот Лерка, наоборот, ничего. Даже гордилась, по-видимому, что привлекает внимание. Выпрямится на уроке, потянется, как бы в дремоте, – и глаза мальчишеской половины класса приклеиваются к вздымающемуся на груди переднику. Вика ей немного завидовала. Другие, впрочем, тоже не отставали. Алечка, например, стала вполне ощутимо подкрашиваться, и не то, чтобы очень уж явно, однако достаточно очевидно. Выделились тонкие брови, черными пружинистыми иголочками загнулись ресницы, губы – спелые, чуть припухлые, подразнивающие влагой зубов. Называть ее обезьянкой уже было нельзя. Вот как Алечка расцвела. Роза Георгиевна на нее косилась, но замечаний не делала.
Мальчики, кстати, тоже полностью изменились. Еще в прошлом году вели себя совершенно невыносимо: подкрадутся сзади и дернут за косу. Причем, больно, дураки, дернут, так что невольно вскрикнешь. А он отскочит – и смеется вместе с приятелями. Хотят, чтобы обратили внимания, недоростки, презрительно объясняла Лерка. Или потянут обязательный бантик – завязывай его четыре раза за перемену. Спасения от них не было, хоть дерись. А теперь, после этих трех месяцев, они стали важными и задумчивыми. Точно узнали за лето некую тайну, наподобие той, вероятно, которую скрывал дядя Мартин. И проникновение в эту тайну наполняло их самомнением. Некоторые и смотреть теперь начали совсем по иному: словно соображая, а что там у тебя под платьем? Вика от таких взглядов невольно поеживалась. Стали чрезвычайно развязными в жестах и в разговорах. Тот же Рюша бодро спрашивал Лерку – при всех, нисколько уже не стесняясь:
– Ну что, цыпа моя, когда я буду тебя иметь?
– Когда потребуется характеристика от вашего комитета, – притворно вздыхала Лерка.
– Ну это еще полгода ждать, цыпа моя…
– Ничего, – говорила Лерка. – Я как-то не тороплюсь.
Тогда Рюша подмигивал ей и шел дальше. Он был в этом году избран председателем комитета школы, даже уроки посещал далеко не все: пропадал в районе по каким-то загадочным и важным делам, и однажды Алечка сказала про него странное слово – «влиятельный». Вика не понимала: как это, Рюша, Рюша – и вдруг «влиятельный»? Он же не директор, не завуч, даже не Роза Георгиевна, классная руководительница. Он – просто Рюха, с которым они лазали через забор, чтобы посмотреть на каптерку. Рюха он и есть Рюха. И вместе с тем чувствовалось, что именно так, скорее всего, и будет. Рюша в лепешку разобьется, но сделает Лерке отличную характеристику. Несмотря на то, что у Лерки оценки за этот год – тройка на тройке. А в свою очередь Лерка, как честная девушка, отблагодарит его соответствующим образом. Для них обоих здесь нет проблемы. И от доступности того, что раньше было запретным, слегка затуманивалось сознание.
Да что там Лерка со своим Рюшей! Даже Витька, охламон вечный, стал теперь совсем другим человеком. Мало того, что вытянулся чуть ли не под два метра, так, оказывается, еще в прошлом году вместе с кучей приятелей записался в спортивную секцию. Накачал рельефные мускулы, как у штангиста. На уроках физкультуры теперь показывал профессиональный фокус: перетягивал руку ниткой выше локтя, затем, страшно побагровев, эту руку сгибал. Вздувался бицепс, нитка лопалась. Девочки, обступающие его, тихо постанывали. Вику передергивало от этой животной силы. Вообще уже стал не Витька, а в самом деле – Виктор. С Алечкой они теперь ходили вполне открыто. На последнем уроке он, как правило, грубовато осведомлялся: Ну что, потопали?.. – Потопали, – отвечала Алечка. И они вдвоем, не замечая никого вокруг, удалялись по Гронницкой. К Вике же он стал обращаться исключительно по фамилии: Ты чего это, Савицкая, сегодня такая хмурая?.. – Или: Ну с тобой, Савицкая, знаешь, не договориться!..
Удивляло, когда они успели так просветиться? Тайна, проступавшая с изнанки жизни, для них тайной, по-видимому, уже не являлась. У Вики нарастала обида: ведь он же – мой, мой, только мой!.. Превращение в лебедицу почему-то все задерживалось и задерживалось. Зеркало с издевательским равнодушием отражало – плоский нос, действительно, как у утки, пористую рыхлую кожу с двумя-тремя неизменными прыщиками, слишком маленькие коричневые глаза, как будто стянутые болтом к переносице. Волосы – тусклые, никакие шампуни не помогают. И – сутулость какая-то, детская недорасправленность всей фигуры. Вика догадывалась, что так она пытается спрятать слишком уж выступающую под платьем грудь, распрямлялась – платье тотчас натягивалось спереди. Становилось неловко, и плечи сами собой опять сутулились. Чего уж там выставляться при такой роже? Но когда же, когда же? Другие ведь уже давно превратились?
Она нервничала: почему этого до сих пор не произошло? Мать же была нормальной и, судя по всему, очень привлекательной женщиной. Вика уже начинала догадываться об этом. Вдруг увидела легкость, с которой та движется по квартире, поворот головы, скульптурные, чуть вызывающие очертания тела, – ни намека ни на сутулость, ни на унылое настроение – свежесть, приветливость, точно у нее всегда праздник. Разумеется, не такая красавица, как легендарная родственница дяди Мартина, но одним своим неслышным присутствием создающая некую атмосферу. На нее все время хотелось смотреть. Вика замечала, как радовался дядя Мартин, когда мать появлялась в комнате. У него даже голос становился звонче и с какими-то переливами.
А отец иногда так прямо и говорил:
– Какая, Аня, ты у меня красивая.
И мать вспыхивала слабым румянцем и опускала веки.
Вика пробовала потом делать точно также, то есть, вспыхивать, когда к тебе обращаются, и загадочно опускать ресницы. Получалось, правда, что-то комическое, совсем непохожее на то, как у матери.
Ничего, ничего, она постепенно научится.
И только к весне начало ощущаться, что здесь что-то не так. Проявлялось это в мелких, но неприятных деталях, выскакивавших при общении с одноклассниками. То они галдящей толпой обсуждают какую-то вечеринку – хохот, подначки, шуточки специфические, совершенно непонятные посторонним, – а когда она подойдет, чтобы послушать, вдруг замолчат и заговорят о чем-то другом. Или вдруг поползет по классу назойливый шепот, и буквально видно, как он зарождается где-то в задних рядах, растекается шелестом, огибает, чтоб не затронуть, Вику двумя потоками, а затем вновь сливается на передних партах.
Значит, опять, минуя ее, о чем-то таком договариваются.
Опять она – лишняя.
Серый туман стоял между нею и остальными.
А однажды, случайно подойдя к двери в класс, она ясно услышала, как Лерка с другой стороны настойчиво объясняет кому-то:
– Ну и кто будет ей там заниматься? Ты, что ли? Ты же не будешь?..
А немного смущенный голос Витьки бубнит в ответ:
– Ну, Шизоида ей, например, пригласить или, например, Менингита…
– Вот-вот! В гробу она видала твоего Шизоида!..
– Ну, неудобно же перед человеком, ну ты – понимаешь?..
– Неудобно на потолке спать: одеяло сваливается!..
Вика сразу же догадалась, что разговаривают о ней. С каменным лицом она прошествовала мимо них и села за парту. Достала тетрадь, учебник, сняла скользкий колпачок с авторучки. Краем глаза заметила, как эти двое растерянно переглянулись. В сердце ей будто воткнули занозу и затем медленно, медленно начали извлекать ее безжалостными ногтями. Хуже всего была смущенная, извиняющаяся снисходительность Витьки. Шизоида ей подкидывает, ничего лучшего Савицкая, естественно, не заслуживает! Она догадывалась, конечно, что на вечеринках этих уже не ограничиваются, как раньше, только скромными танцами, когда рука партнера лишь изредка привлекает поближе. Среди страстного полумрака и музыки, лезущей в уши, позволяется, вероятно, довольно многое. Но не с Шизоидом же, в конце концов, ей обниматься!
Кстати, Шизоид после этого лета к ней пару раз вполне целенаправленно подходил и простыми словами объяснял, что неплохо бы, значит, вообще, это самое. Ну, что ты, Савицкая? Ну что ты, в натуре, как не родная?.. – Глаза у него были ожидающе выпучены. Ему и в голову, видимо, не приходило, что он ее задевает. Собрав силы, Вика весело отвечала: Ничего, обойдешься… – Однако сердце в такие минуты опять точно выдавливало мучительную занозу. Тайна жизни была темна, тревожна и непроницаема. Кончилась ужасная зимняя глухота, когда улицы имели всего два цвета: черный и белый. Небо по утрам уже начало слегка розоветь. Дул сладкий ветер, и от головокружительного тепла снег в глыбких сугробах спекался множественными коросточками. Захлюпало с крыш, бодро зашипели ручьи под водосточными трубами. И от шлепанья этого и от шипенья сердце сжималось еще болезненнее. Словно жесть и вода, звучавшие сейчас по всему городу, обещали ей что-то и не выполнили своих обещаний. Вике хотелось закрыть уши ладонями. Сколько можно? Будущее неумолимо отодвигалось.
Изо всех сил налегла она теперь на учебу. Год был действительно выпускной, и времени почти что не оставалось. Роза Георгиевна напоминала теперь об этом чуть ли не на каждом уроке. Обводя строгим взглядом мальчишек, доходчиво растолковывала, что им грозит в случае неудачи. Не поступите в институт – пойдете в армию! Она поднимала палец и выдерживала долгую паузу. Тишина в таких случаях казалась зловещей. Мальчики морщились и с деревянной поспешностью записывали что-то в тетради. Саму Вику армию, разумеется, не волновала, но тем не менее, и ей следовало на что-то решаться. Для начала она исправила свою твердую четверку по математике на пятерку, затем одним махом осилила остаток учебника по биологии, которая у нее явно хромала, на всякий случай подтянула литературу, хотя здесь вроде бы все было в порядке, и, наконец, вызубрила за две недели «Краткий справочник трудностей русского языка», теперь все запятые у нее стояли там, где положено. Она, стиснув зубы, даже пробуровила ненавистную ей географию, и Роза Георгиевна, которая вела у них именно этот предмет, удовлетворенно заметила как-то, что вот, мол, Савицкая, в отличие от некоторых других – осознала, занимается, видите, так, что и спросить приятно. Намекнула на золотую медаль, которая существенно облегчит поступление.
Говоря откровенно, медаль Вику не очень интересовала. Потому, вероятно, что учеба давалась ей без особых усилий. Здесь происходило примерно то же, что когда-то и с шахматами: она научилась играть, взирая на яростные баталии отца с дядей Мартином, начала чисто интуитивно прозревать судьбу деревянных фигурок; вот оскаленный конь на «е пять» явно слабеет, если осторожненько подрубить с королевского фланга, он обязательно зашатается, а потом вслед за ним посыплется и весь центр противника. Это было слишком понятно, и поэтому не увлекало. В шахматы она теперь играла без особого удовольствия.
И по той же причине не привлекал ее чернильный танец оценок в будущем аттестате. Медаль – не медаль, но тоже как-то вызывает зевоту. Не было здесь того, ради чего можно было бы забыть самое себя, – потерять голову, жить, как во сне, пронзенная одной-единственной страстью. Желтый кружочек с буковками и раскрытой книгой эмоций у нее не вызывал. Ну – отличница, ну, разумеется, поступит она куда-нибудь. Разве в этом заключается истинное назначение жизни? Ей все время казалось, что упускается здесь что-то самое главное. И в один из апрельских дней, когда небо над городом уже по-весеннему зеленело, когда чуть дымилась под солнцем мокрая земля на газонах и когда из-под клейкого теста ее уже проклевывались первые, нерешительные еще травинки, Вика вдруг оглянулась на звенящую по комнатам солнечную пустоту, потянулась до хруста в суставах – в квартире никого не было – резко, так что взметнулась пыль, захлопнула скучный учебник, прошла в ванную, торопливо скинула пестрый халатик, стараясь не намочить волосы, влезла под душ, после этого с яростным наслаждением растерлась ворсяным полотенцем, – отгоняя все мысли, прошлепала, не одеваясь, в комнату матери и, поддернув одну из штор, чтобы нельзя было подсмотреть из дома напротив, стала перед трюмо, раскинувшим зеркальные створки.
Она исследовала себя как бы со стороны: бедра, охватывающие то, что служит таинственным источником наслаждения, коричневатый пушок, переходящий в дымчатую полоску на животе, гибкая талия – чтобы еще утончить ее, она слегка вытянулась – и две плотненькие горячие груши с темными черенками. Не такие, конечно, коровьи вымени, как у Лерки, зато – упругие, с родинками, дразнящие крепкой изогнутостью. – Пика-антно… – сказала Вика не своим голосом. Затем выгнулась, точно Лерка, и приподняла груди руками. Соски весело, будто ждали этого, уставились в зеркало. Ну и чего им всем еще надо? Лицо свое она старалась не замечать. И вдруг представила, что вот также, чьи-то руки, Витькины, например, осторожно берут ее снизу за грудь, уверенно и одновременно застенчиво, тоже приподнимают, чтобы сосочки налились плотью, и затем, наполнившись, разом охватывают острые кончики. А потом обнаженное мужское тело прижимается к ней – твердым. Ее будто огнем обожгло. Стыд сладкой судорогой стиснул горло. Щеки – заполыхали.
Тогда Вика быстро оделась и вновь открыла учебник по математике.
Какие-то формулы.
Буквы прыгали перед глазами, и она ничегошеньки не понимала.
Именно тогда вдруг стало ясно, что никакого превращения с ней не будет. То есть, превращение, если его так можно было назвать, уже состоялось, Вика выросла, и уродливый взрослый костяк начал выпирать из-под кожи – безобразные громадные локти, болтающиеся при ходьбе, безобразные, бугорчатые какие-то выступы плечевых суставов, безобразные коленные чашечки, выставленные больше, чем у других людей. Это было не преображение, которого она так ждала. Это было увеличение размеров, вот и все. Не заиграла музыка в темном саду, не озарилось чудесным светом кукольное представление, гадкий утенок не превратился в грациозного лебедя.
Она чувствовала себя обманутой.
Ознаменовалось это еще одним горьким событием. На заборе, который когда-то ограничивал владения Серого Кеши, на воротах со стороны улицы появилась табличка: «Вход на стройплощадку категорически запрещен!» В марте Вика увидела, как туда заезжают тяжелые грузовики с песком и щебенкой, а в апреле, как раз тогда, когда небо страстно зазеленело, грозную табличку сняли, как сняли, впрочем, и сам забор с его проволокой, и, возвращаясь из школы, Вика остановилась перед неожиданно распахнувшейся пустотой: дорожки, небрежно подсыпанные гранитной щебенкой, газон с десятком полузадушенных саженцев то ли тополей, то ли лип, кустики, жалкими прутьями огораживающие бордюр. Таинственное железо, складированное в штабелях, куда-то исчезло, а на месте каптерки выросли две песочницы и грибок, крашеный ядовитой охрой. Сосредоточенный карапуз уже ползал под ним, расковыривая совком землю, и со скамейки неподалеку, сквозь очки на носу приглядывала за ним бабуля в страшноватом берете.
У Вики перехватило дыхание.
Тот прежний мир, который она так любила, и в самом деле закончился. Появился совершенно другой, торчащий непредсказуемыми углами.
В нем было неприятно существовать.
В квартиру Вика вошла на цыпочках. Чтоб не услышали, придерживая рукой язычок, мягко закрыла дверь, постояла в неожиданных после солнца на улице тенях прихожей. Если бы можно было вот так – и не выходить отсюда в гостиную! Прислонясь к пальто, пахнущему трубочным табаком, – значит, дядя Мартин опять пришел играть в шахматы – она увидела знакомую спину, согнутую над строем фигурок и услышала, как он говорит отцу чуточку раздраженно:
– Все-таки я не понимаю тебя, Василий. Неужели ты хочешь сказать, что главное в человеке – это внешность? Извини, это как-то на тебя совсем непохоже. Мне всегда казалось, что ты больше ценишь именно внутреннее содержание, а не то, что наслаивается на глупость с помощью макияжа. Ведь дуру, как ни накрась, она все равно будет дурой.
– Все это – рассуждения, – тоже с некоторым раздражением отвечал отец. – Разумеется, одухотворенность – то, что ты называешь внутренним содержанием, – определяет человека как личность. Это так, но ты забываешь об одной важной детали. Она не просто отвлеченная личность, она – будущая женщина. А для женщины физическая красота уже является содержанием. Вот, например, Аня, как ты…
Судя по звуку, он поцеловал матери руку.
– Благодарю, сказала мать несколько отчужденно.
– Личность проявляется постепенно, а внешность – сразу. Многое тут решает именно и прежде всего – возраст. И еще очень долго какой-нибудь туповатый и необразованный Петька будет для нее гораздо ценнее, чем, скажем, писания Фомы Аквинского. Что бы там Фома Аквинский не говорил о «реализованной осуществленности». Впрочем, с ее точки зрения, этот Петька вовсе не будет ни туповатым, ни необразованным. Это – жизнь, Мартын, здесь ничего не поделаешь. Знаешь, я был бы спокойнее, если бы она как человек была хуже. Если бы она не любила людей, как сейчас, а – от природы – слегка презирала бы их. Встречаются же иногда такие курьезы. Может быть, в ней тогда появилось бы определенное честолюбие, она стала бы ученым или крупным администратором. Сублимация скрытых страстей – великая сила. Но она, к сожалению, ни администратором, ни ученым не станет. Нет в ней, к сожалению, таких – нужных данных… К тому же, эстетика имеет – и самостоятельное значение…
– Красота спасет мир, – иронически сказал дядя Мартин.
– Не знаю, спасет ли она мир, но одного человека она спасти может…
– Ну хватит, хватит, – сказала мать опять несколько отчужденно.
Дядя Мартин ощутимо крякнул и сделал следующий ход. Кажется, поставил коня на то место, откуда только что его убирал.
– Чего ты от меня хочешь, Василий?
– Ты это знаешь, Мартын, – сказал отец очень серьезно.
– Боже мой, неужели ты веришь каким-то средневековым рецептам?
– Один раз этот рецепт помог, – сказал отец.
– Боже мой, а ты знаешь, чем это кончилось?
– А чем, собственно, это кончилось? – спросил отец.
– Согласно легендам, все это кончилось очень плохо.
– Ну, не надо преувеличивать, наши предки были склонны к мистическому сознанию…
– Счастья ей это, во всяком случае, не принесло, – сказал дядя Мартин.
– А что такое счастье? – спросил отец странным голосом.
– Не знаю, мне трудно с тобой спорить, Василий. – Дядя Мартин поднял голову и посмотрел несколько вбок. – А ты что, Аня, как женщина, думаешь обо всем этом?
Было слышно, как мать порывисто вздохнула.
– Я ничего не думаю, я просто боюсь, – наконец, сказала она. – Вот я слушаю вас, двух взрослых и умных мужчин, и мне – страшно. Вы, по-моему, даже не понимаете, о чем говорите… – Она замолчала и вдруг позвала совсем другим, обыденным голосом: Вика? Виктория? Ты где там? Ты что, уже вернулась?..
Сразу же наступила зыбкая тишина. Чувствовалось, что сидящие в комнате тревожно переглянулись. С легким стуком опустилась фигура на шахматную доску.
– Виктория?..
– Вика?
– Эй?..
Вике хотелось спрятаться среди пальто, горбящихся на вешалке. И чтобы никто никогда здесь ее не нашел. Она казалась себе сосудом, полным горячих слез. Главное было сейчас – не расплескать их при всех.
Она, как стеклянная, вошла в комнату.
– Здравствуй, утенок, – тут же растерянно сказал дядя Мартин. Виновато и, как никогда внимательно, посмотрел на нее. Вдруг добавил. – Ты что-то сегодня особенно хорошо выглядишь…
Судя по тону, он вовсе не иронизировал.
Отец, как бы соглашаясь, кивнул.
– Обедать будешь?
Вика тоже кивнула.
И тут горькая влага в горле все-таки выплеснулась. Вика едва успела заскочить к себе в комнату. Рухнула на подушку и обхватила ее, чтобы не разрыдаться. Сразу же теплая рука легла ей на спину, и дядя Мартин, неловко присаживаясь рядом, сказал:
– Ничего, это скоро пройдет.
– Что, что пройдет!?. – крикнула Вика.
– Все пройдет, утенок. Не торопись.
– Что «все»?
– А вот увидишь сама…
После этого минуло несколько дней. О случившемся в начале апреля, как по уговору, больше не вспоминали. Вика уныло ходила в школу, отбывая положенные часы за партой, написала за один вечер заданное сочинение о Родионе Раскольникове. Равнодушно посмотрела потом на оценку «отлично» в конце страницы. Зачем это было нужно, она не слишком задумывалась. Все шло, как шло. Золотая медаль, судя по всему, становилась реальностью. Дома она тоже сразу же погружалась в учебники. Правила, формулы и разнообразные параграфы плотно заполняли сознание. Думать о чем-либо постороннем ей было некогда, и впервые в жизни, наверное, Вика радовалась этому обстоятельству. Ей и не хотелось сейчас ни о чем думать. И лишь проходя мимо зеркала, в комнате или прихожей, она невольно опускала глаза. Зеркало стало заклятым врагом, с которым опасно встречаться взглядом. Вика избегала его, боясь тех бездн, что неожиданно открывались за амальгамой. Жизнь текла размеренно, успокоительно и привычно. Каждый день заходил дядя Мартин, чтобы поговорить и сыграть с отцом в шахматы. О своем обещании, что «все пройдет», он больше не вспоминал, с Викой, если она подсаживалась, держался точно так же, как раньше: называл утенком, поводя изогнутым мундштуком, цитировал что-нибудь на латыни. Именно латынь его почему-то сейчас особенно завораживала. Чеканные металлические обороты гудели, как струны. Даже воздух в квартире, казалось, немного вибрировал. Иногда дядя Мартин слегка повышал голос, и тогда фужеры в серванте отзывались нежным пением хрусталя.