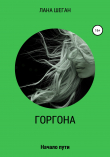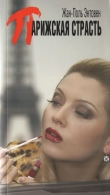Текст книги "Горгона"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Андрей Столяров
ГОРГОНА
Темна дырчатая прохлада под тополями и зелена вода в каналах Санкт-Петербурга.
Жизнь легко обращается в камень.
Выглядит это так…
Двор, кончался забором, обтянутым поверх досок колючей проволокой, кое-где она обвисала и зубцы островерхого края в таких местах были обломаны, а за забором начинались владения Серого Кеши: длинные штабеля чего-то железного с проходами между ними, пятна мазута на земле, таблички с надписями: «Стой! Запретная зона!». Метров через сто штабеля раздавались, образуя угольную поляну, и обнаруживалась каптерка, до половины вросшая в землю: обитая войлоком дверь, козырек, два бельмастых окна под съехавшей крышей. Ночью они всегда тускло светились, и, по рассказам мальчишек, видна была в подслеповатом нутре тень самого Кеши.
Иннокентий готовился выйти на промысел.
Днем же он отсыпался, и перелезть через ближнюю часть забора было вполне безопасно.
И вот когда, спрыгнув, точнее, неуклюже перевалившись, на другую сторону, постояв – прислушиваясь и приглядываясь – чувствуя, как звенит в ушах набухшая тишина, они робко, как исследователи незнакомой страны, двинулись к ближайшему штабелю, внутрь территории – впереди оглядывающийся Витька, который это все и затеял, дальше – Лерка с косичками, как у мартышки, торчащими двумя жесткими проволоками, еще дальше – щерящаяся по-собачьи Алечка и, наконец, сама Вика, у которой от страха гулко стукало сердце. А позади – Рюша с Серегой-лохматым, вызвавшиеся мужественно защищать отряд с тыла. И вот когда они подошли к проходу, который, как уверял Серега, заканчивался каптеркой, и когда уже в нос им ударил запах того железного, что в штабелях – мертвый, керосиновый запах, предупреждающий об опасности, – Рюша вдруг даже не крикнул, а пискнул задавленным хомячком: Атас!.. – и сразу же сбоку потрясающе, как будто недорезанные, завопили: А что это вы здесь делаете?!. – кто-то в раздутых жабрах одежды бежал им наперерез, бухая сапогами и протягивая страшные руки, чтобы поймать.
Вика, как подкинутая, вновь оказалась на вершине забора.
И вот в тот момент, когда освобождение казалось уже совсем близким – вот он, двор, и вот – мешковато съехавший по другую сторону, озирающийся на бегу Витька, сейчас, сейчас! – железные неумолимые пальцы схватили ее за лодыжку.
Вика чуть не сверзилась от испуга.
К счастью, это был не Серый Кеша, выковыривающий из-под мягкого черепа кашу мозга. Время было еще не то, и Кеша, вероятно, еще подремывал в своей развалюхе. Это была ужасная тетка в ватнике – с багровой, будто обваренной кипятком, бурной рожей и со смоляными патлами, торчащими на голове в разные стороны.
– Слезай!..
– Не слезу!.. – тоже по-звериному завопила Вика.
– А вот отведу в милицию, тогда узнаешь!..
Пальцы уже стаскивали ее с забора. Однако ужасное слово «милиция» растормошило Вику. В милицию ее еще никогда не водили. Темная жутковатая сила вдруг поднялась изнутри. Мускулы лица натянулись, точно при судороге, и тугими пружинами перекрутили рот, нос, брови, упругую резину щек.
Сердце, как воробей, запрыгало с одного ребра на другое.
– Хр-р-р… – диковато сказала Вика.
Железные пальцы разжались. Тетка в некотором замешательстве отступила и, держа на весу по-прежнему растопыренную ладонь, растерянно произнесла:
– Кикимора…
Вика вязанкой дров перевалилась через спасительную ограду. Опомнилась она лишь тогда, когда уже в соседнем дворе, соединенным с первым проседающей низкой аркой, Витька, тоже – бледный, трясущийся, но делающий вид, что ничего страшного не произошло – дернул ее за руку и нетерпеливо спросил:
– Ну что, что, что?…
– Это его подруга, Кандыба, – авторитетно заявил Рюша.
– Заткнись, Рюхатый! Ну – что, что?…
– Не знаю… Кикиморой обозвала… – сказала Вика.
И вдруг зрачки у изогнувшегося Витьки съехали к носу, он отпустил ее руку, отступил на шаг и дико захохотал – снова сгибаясь и пришлепывая себя по бедрам:
– Кикимора!.. Ой, не могу!.. Кикимора!..
Тут же прыснула Лерка, до этого нервно приглаживавшая ленточки на своих проволоках, ощерилась Алечка, прикусив мякоть губы желтоватыми выставленными клыками, хрипло, как заржавевший, захехекал Виталик, а задумчивый Рюша, врубившийся позже других, надул щеки и издал долгий мокрый звук:
– Пф-р-р-р!..
Так у них во дворе выражали презрение.
И было это настолько обидно после пережитого и вместе с тем, как Вика тут же почувствовала, настолько верно и справедливо, что знакомый каменный двор расплылся в водянистом тумане, в носу хлюпнуло, глаза предательски защипало, и она крикнула, будто птица, выталкивая слезы голосом:
– Дураки!..
Эхо заметалось в колодце, открытом небу.
– Кикимора!..
– Ой, не могу!..
– Кикимора!.. Кикимора!..
– Идиоты!..
Ей хотелось куда-нибудь спрятаться и никогда никого больше не видеть.
Впрочем, развеялось это довольно быстро, и когда Вика, перескакивая по лестнице через ступеньку, еще шмыгая носом и неразборчиво бормоча что-то оскорбительно-угрожающее, взлетела к квартире, кстати, не сразу попав ключом в щель замка, обида на это дурачье уже почти улеглась. А когда она, сполоснув лицо холодной водой, растерши его докрасна, чтобы и следа позорных слез не осталось, просочилась в комнату, стараясь не привлекать внимания, и наткнулась на дядю Мартина, согнувшегося вместе с отцом над шахматами – увидела его суставчатый нос, хрящеватые уши, не зажженную трубку, подрагивающую физиономией чертика в том месте, куда набивают табак, и услышала его благодушно-невозмутимое: Здравствуй, утенок… – неприятный озноб внутри почти полностью рассосался, и она уже спокойно присела сбоку, профессиональным взглядом оценивая позицию, отметила слабость королевского фланга у черных: пешки разодраны, ладья заперта своим же слоном, которому тоже некуда выйти, еле слышно вздохнула, когда отец взял конем на «цэ пять», где брать не следовало, и, дождавшись, последовавшего за тем разгрома, радостно кивнула в ответ на нечастое предложение:
– Ну что, сыграем, утенок?
Она только спросила, слегка запнувшись:
– А почему, дядя Мартин, ты называешь меня утенком?
– Как «почему»? Потому, что ты пока и есть гадкий утенок.
– А потом превращусь в лебедя?
– В лебедицу, – иронически сказал дядя Мартин. Вынув изо рта трубку и процитировал, подвывая и раскачивая мундштуком в воздухе: Птица-лебедь, птица-лебедь с белопенными крылами! Что ты криками ночными будишь дремлющую землю?.. – вставил мундштук обратно, между зубов. – Хочешь стать лебедицей, утенок?
– А как я в нее превращусь?
– Ну я дам тебе такой таинственный порошок древнего египетского мудреца, славного и великого своими знаниями Айзала Бен Халеви. Разведешь его в лимонаде, выпьешь, – и все. Ба-бах! Станешь красавицей…
– Как твоя прабабка? – спросила Вика.
Дядя Мартин вдруг поперхнулся.
– Кха-кха!.. Кто тебе рассказал об этой моей… м-м-м… дальней родственнице?
– Ты, – честно призналась Вика.
– Кха-кха!.. Как это я? Когда?
– Ну, вот – я спала, потом почему-то проснулась. Пошла в ванную – вы сидите на кухне. Она была что-то такое… фрай… фрэй… Сейчас не помню.
– Фрейлина, – странным голосом сказал дядя Мартин. – Она была фрейлиной при дворе императрицы Екатерины. Вообще, утенок, это – довольно грустная история. Там все получилось, как-то не так…
– Она умерла?
– В известном смысле умерли все, кто тогда жил. Прошло двести лет. Нет, с ней случилось что-то весьма удивительное. Что – неизвестно, семейные хроники, к сожалению, об этом умалчивают…
– А отчего?
– Ну, Хватит-хватит! – вдруг сказала мать, высоко подняв брови.
Дядя Мартин вновь поперхнулся.
– Кха-кха!.. Ладно, не забивай себе голову, утенок. Как моя… м-м-м… прабабка ты все равно не станешь. Ты будешь такое – длинношеее, клювастое, в перьях, с перепончатыми красными лапами…
– С противным скрипучим голосом, – добавил отец, роющийся на книжной полке. – Кстати, с точки зрения уток, лебедь действительно безобразен: шея у него – змеиная, цвет – белый, нелепый для тех, кто живет в грязном пруду. Да еще зачем-то держатся парами… Бр-р-р…
Он передернул плечами.
– Так что, не спеши с превращением, утенок, – сказал дядя Мартин. – Иногда гадким утенком быть лучше, чем одиноким лебедем. Утенок по крайней мере в стае.
– Я не спешу…
Вика была совершенно искренна. Обида ее действительно улеглась и лишь чуть-чуть саднила – давним воспоминанием. Минут через десять она уже прыскала, глядя, как дядя Мартин задумывается над ее быстрыми и явно неожиданными ходами, как он комически хмурит брови, спасая свой разваливающийся от флангового удара пешечный центр, ужасается, что сделать это тем не менее не удается, сопит, чешет в затылке, морщится, скрипит стулом, и, вопреки всем усилиям, попадает в самые элементарные, с точки зрения Вики, ловушки.
А проиграв подряд три партии, в одной из которых у него, впрочем, был реальный шанс на ничью, он торжественно, будто на чемпионате, пожал Вике руку, преподнес в качестве приза заранее приготовленный длинный шоколадный батончик, серьезно сказал: Талант, – повторил еще раз: Да-да, я считаю – талант, – и несмотря на то, что отец, просматривающий том энциклопедии, тут же поправил его: Не талант, а способности. Талант – это все-таки нечто большее… – Вика все равно была счастлива. И даже загадочный разговор, чуть позже, уже как бы сквозь сон, донесшийся до нее из кухни, когда дядя Мартин, явно имея в виду ее, также серьезно сказал: Плохо, Василий. С этим надо бы что-то делать… – а отец не менее серьезно ответил: Что с этим сделаешь? – а мать торопливо добавила: Тише! Она может услышать!.. – и сейчас же щелкнул замочек на дверях в комнату, – даже этот разговор ее не насторожил. Происшедшее днем, во дворе, было уже из прошлой жизни. Вика лишь нехотя перекатилась на правый бок, уютно свернулась и подумала в надышанное тепло подушки: С чем это с «этим»? И что «делать»? – А когда из сонных глубин, как рыба-луна, всплыло ощеренное лицо Витьки – напряженное, стиснутое, с двумя щербинами среди нижних зубов, она уже знала, что ничего делать не нужно. Не нужно ничего с «этим» делать. Наподдать ему, как следует, вот и все. Веки ее сомкнулись.
Наутро она уже вообще ничего не помнила. Это забылось, как забывается все в той стране, что называется детством. Еще вчера за забором, топорщащимся колючками, и в самом деле жил Серый Кеша: охотился на людей (а, кстати, зачем он на них охотился?), Бродил по ночному двору, пугал до дрожи одним своим именем – весь действительно серый, весь вылепленный из холодной глины, – светилось окно в каптерке, перемещались в пузырчатой его глубине мутные тени. А сегодня уже – забор и забор, ржавчина под гвоздями, проеденные мшистой сыростью доски, никому не нужные железяки, вздыбленные штабелями, масляный запах ветоши, от которого закладывает носоглотку. Ни капельки не интересно. И выясняется, что не было, оказывается, никакого Серого Кеши. Никто не выковыривал пальцем мозг из-под черепа. И не жил в подвале Мохнатик, про которого любила рассказывать Лерка, – плюшевый, с распахнутыми ушами гномик, похожий на Чебурашку. И с моста через ближний канал, когда-то и кем-то названного «чудесным местом», оказывается, нельзя было, приподнявшись на цыпочки, увидеть другой район города. Собственно, и мост был теперь уже гладкий, асфальтовый, а не деревянный. И был новый магазин на углу, выставивший в витринах уродливые манекены. Сами идиотские лица их отвергали мысль о чем-то загадочном. Целые материки прошлой жизни погружались в небытие. Они тонули во времени, как древние корабли. Зато отчетливо проступал теперь горячий шершавый камень Санкт-Петербурга, толпы людей, стекающие по утрам в зев метро, трудолюбиво ползущие по проспекту автобусы, гул трамваев, роняющих на асфальт надсадно длинные искры. От них потом оставались в пыли мелкие катыши. Случай с багроволицей теткой тоже погрузился в пучину небытия. Вика о нем практически не вспоминала. Ей было не до того. География детства расползались, как выстаревшая паутина. Хотелось поскорей смыть ее, чтобы перейти в настоящий мир взрослых. И теперь глядя на малышню, копошащуюся в земле у того же забора, Вика лишь снисходительно, как Роза Георгиевна, их классная руководительница, поднимала брови. От этой наивности она уже совершенно оторвалась, и только при редких свиданиях с дядей Мартином, который – всегда неожиданно – заглядывал к ним вечерами, на первый взгляд, беззаботный, и все же, нет-нет, посматривающий в ее сторону, у нее начинало внезапно звенеть в висках и, точно отряхивающийся птенец, ворошиться сердце. Словно дядя Мартин знал какую-то ее давнюю тайну, и тайна эта, будучи даже невысказанной, имела самое непосредственное отношение к ее нынешней жизни.
Дядя Мартин вообще был человеком загадочным. Он, по слухам, происходил из немцев, поселившихся в городе еще во времена первого императора. Правда, вспоминать о своем необычном происхождении он не очень любил, но и походил он, по представлениям Вики, тоже прежде всего на немца – добродушный, невозмутимый, с вечно зажатой в зубах трубкой черного дерева – не курил уже много лет, но привычка задумчиво посасывать янтарный мундштук сохранилась. Он напоминал портрет, однажды встреченный Викой в альбоме европейского Возрождения: человек в черной мантии и квадратной смешной шапочке, какие надевали ученые. Мантии у дяди Мартина, правда, не было, но его темно-серый костюм с галстуком, уходящим под шелковые крылья жилета, тоже нес на себе отпечаток немецкой схоластики – ну какой нормальный человек будет ходить летом в костюме – и казалось поэтому, что он только что вышел из мрака средневековой лаборатории; оттуда, где булькает, выплескиваясь из реторт, едкое варево, течет красный дым, внезапно сплетающийся в узоры, вырастают из тиглей таинственно поблескивающие кристаллы, а по каменным сводам стонут и мечутся тени нетопырей, вызванные из иного мира.
Вике нравилось наблюдать за ним. Как он отставляет чашку и, подсмеиваясь сам над собой, говорит матери: Данке шен… – как он, усаживаясь на стул, аккуратно, чтоб не помялись, подергивает стрелочки брюк на коленях, как он вытягивает из кармашка часы, похожие на головку лука, отщелкивает с мелодичным звоном крышечку, украшенную монограммой, и, задрав как бы в удивлении брови, долго смотрит на циферблат. Она любила слушать его споры с отцом, когда дядя Мартин, нависнув над шахматными фигурами, негромко ронял что-нибудь вроде: В действительности все не так, как на самом деле. – И отец немедленно спрашивал: А что такое «действительность»? – «Действительность» – это то, что мы хотим видеть, незамедлительно отвечал дядя Мартин. А «на самом деле» – это то, что останется, если сдернуть фату успокоительного воображения. – Но может быть, это просто другое воображение? – спрашивал тогда отец. – Может быть, но неприятность открывающейся картины – критерий истинности. Истина, увы, всегда неприятна… – Тогда отец замечал: Схоластика – самая точная из наук… – И они оба начинали смеяться, подмигивая друг другу. Вика слушая их, свернувшись калачиком в кресле. Было очень спокойно, и хотелось дремать под шорох сталкивающихся на клеточном поле воинств.
Она и в шахматы научилась играть исключительно ради дяди Мартина. Чтобы выпив на кухне чая и поговорив с родителями о неинтересных взрослых делах (куда-то ввели войска; что они там, все с ума посходили?!) он бы обыденно прошел в комнату, взял с полки складную доску, погромыхивающую внутри фигурками, подмигнул бы Вике, уже ожидающей этой минуты, и спросил бы с легкой иронией:
– Ну что, сыграем, утенок? Чему ты еще за это время научилась?..
Впрочем, ирония у него довольно быстро выветрилась. Выяснилось, что Вика прекрасно чувствует искусственную шахматную стихию: видит варианты, разворачивающиеся из каждого хода, ощущает фигуры не просто как они называются, а по их скрытой силе. Ведь даже ферзь иногда может быть слабее пешки. Позиция представлялась ей натяжением связанных друг с другом невидимых нитей. Если, например, отдать выдвинутую пешку «эф» на королевском фланге, то пока дядя Мартин с азартом эту пешку отыгрывает, вскроется линия «цэ», уже на фланге ферзя, нити, тянущиеся оттуда, будут таким образом перерезаны, и все прочные, на первый взгляд, несокрушимые ряды черных начнут необратимо заваливаться. И она отдавала пешку, и безбоязненно продвигала по линии «цэ» ладью, и действительно, ферзевый фланг черных начинал сыпаться, будто карточный домик, бастионы, поспешно воздвигаемые в месте прорыва, тоже рушились, дядя Мартин с досадой крякал, брал себя ладонью за подбородок, а потом говорил: Смотри, Василий, как она меня тут уделала… – Вика краснела от похвалы и зажимала руки коленями. Ей хотелось, чтобы у нее был такой муж: иронический, добродушный, с достоинством принимающий даже неприятное поражение. Мать как-то в шутку сказала: По-моему, ты в него влюблена. – Вика тогда недоуменно пожала плечами. Что за дикая чушь! Как она может быть влюблена в человека такого возраста? Сорок семь лет – это уже полный старик. Тем не менее, она стала поглядывать на дядю Мартина с еще большим вниманием. В конце концов, даже если и влюблена, что здесь плохого? Да и не влюблена она вовсе, просто – такой удивительный человек.
Загадка же дяди Мартина заключалась еще и в том, что, уже давно окончив Университет по специальности «математика» и не просто окончив, а опубликовав сразу же после этого несколько превосходных статей (блистательное начало, сказал как-то отец, пророчили нашему Мартыну большое будущее), работал он, тем не менее, не в математическом институте, как следовало ожидать, и даже не в закрытой военной конторе, которые под незаметными вывесками заполоняли собой весь город, а в обычной проектно-конструкторской организации, занимающейся гидростроительством, то есть тоже в конторе, конечно, и тоже, разумеется, засекреченной (что у нас не засекречено? – возмущался отец, дворники и те скоро будут иметь допуск), и при этом даже не в каком-нибудь проектном подразделении, а – всего лишь заведующим крохотной технической библиотекой. (Похоронил себя человек, что тут сделаешь?).
Это и в самом деле была загадка. По рассказам отца Вика знала, что дяде Мартину много раз предлагали взять самостоятельную конструкторскую разработку, занять, например, должность старшего инженера и даже, представьте, заведующего отдельным сектором, – это при том, что кандидатскую диссертацию он так и не защитил, – и каждый раз дядя Мартин вежливо, но бесповоротно отказывался. Объяснял, что не чувствует в себе склонности к работе проектировщика. Лучше уж я тут, извините, тихо, в библиотеке. Не хочется выглядеть, извините, самонадеянным идиотом. С другой стороны, опять же по рассказам отца, конструкторы их КБ, особенно молодые и нетерпеливые, напоровшись при проектировании на какую-нибудь неразрешимую трудность, обращались со своими проблемами именно к Мартыну Ивановичу (Мартину Иоганновичу, если уж быть точным, замечал ядовито отец. Вике иногда казалось, что он чуть-чуть ревновал), и дядя Мартин обычно, глянув на принесенные чертежи, отвечал, что ничего трудного на самом деле здесь нет, это вы сами справитесь (молодой конструктор уходил опечаленный), или скоренько подчеркивал карандашом две-три малозаметных ошибки (внимательнее надо быть, молодой человек), но иногда, рассказывали, случались и такие моменты, когда глаза его неожиданно и заинтересованно вспыхивали, он брал трубку, откидывался на спинку вертящегося стула, согласно легендам, две-три минуты молча смотрел в потолок – прерывать его в это время считалось невежливым – а потом быстро и как-то легко набрасывал техническое решение. Причем, часто такое, которое можно было немедленно оформлять в виде изобретения. Проситель уходил потрясенный. Светлая голова, вздыхал отец в таких случаях. Многого мог бы добиться, если бы не его загибы…
В чем состояли эти загибы, Вика не совсем понимала. Однажды она прямо спросила дядю Мартина, почему он отказывается от всяких заманчивых предложений. Неужели ему действительно нравится дышать пылью в библиотеке? И дядя Мартин, печально на нее посмотрев, объяснил, что ему требуются не столько должность или самостоятельная разработка, сколько свободное время. Время, утенок, это самое ценное, что у человека есть. Когда-нибудь ты это поймешь.
– И чем ты занимаешься в свое свободное время? – спросила Вика.
– Я ищу одну вещь, – сказал дядя Мартин.
– Какую?
– Нечто вроде философского камня. Ты слышала о философском камне, утенок?
– Он превращает металл в золото, – подумав, сказала Вика.
– Не только это. У него есть и много других, гораздо более ценных качеств. Что – золото? Презренный металл. Золото в данном случае – это далеко не самое интересное. Просто человечество в течение тысячелетий ставило его на первое место в своих целях, вот и получилось, что это весьма частное свойство заслонило собой все остальное.
– А что же дороже золота? – спросила Вика.
– Знание, – терпеливо объяснил дядя Мартин. – Знание о том, как сделать золото, дороже его самого. Сколько бы золота ты в своем распоряжении не имел, оно все равно рано или поздно кончится. Нет пределов желаниям человека. Но если ты знаешь, как его можно добыть, перед тобой открываются просто неисчерпаемые возможности…
– Но ведь философского камня не существует, – припоминая, заметила Вика. – В учебнике по истории сказано, что – эта гипотеза оказалась ложной. Ее поддерживали всякие там шарлатаны, чтобы выманивать у людей деньги. Ну, там, разные алхимики, колдуны, астрологи…
Дядя Мартин опять печально вздохнул.
– Если бы это было так просто, утенок. Не каждый, кто ищет философский камень, обязательно – шарлатан. Иногда человек может, например, искренне заблуждаться. Искренне заблуждающегося человека нельзя ведь назвать шарлатаном? Кроме того, отдельным ученым, по-видимому, удалось его обнаружить. Скажем, Альберту Великому или знаменитому Бен-Бецалелю. Некоторые сведения на этот счет в литературе имеются.
– Почему же тогда мы ничего о нем не слыхали? – спросила Вика.
– А вот это действительно – одна из самых больших загадок, – сказал дядя Мартин. – Вероятно, «камень» оказался не таким, каким они его себе представляли…
– А каким? – блестя глазами, спросила Вика.
И дядя Мартин вздохнул в третий раз:
– Это я и сам хотел бы знать, утенок…
Некоторое время Вика думала над его словами. Философский камень представлялся ей в виде мутно-зеленого, точно фосфор, слегка обжигающего обмылка. Коснешься какого-нибудь предмета тусклым его свечением, и предмет на глазах желтеет, превращаясь в натуральное золото. Или не превращается, зато, как под рентгеном, становится видна скрытая суть вещей.
Это, впрочем, ее не слишком интересовало. Жизнь и без того была полна волнующими чудесами: шелестели как-то по особенному тополя на набережных, неправдоподобно желтый закат, охватывающий половину неба, вырезал, будто из картона, пальчатый городской профиль – шпили, башенки, трубы, сквозные балкончики; темным жидким стеклом лежала вода в каналах, изламывались силуэты в бокале освещенного эркера, хранила чугунный покой ограда в два человеческих роста, синие прозрачные сумерки раздвигали реальность, зажигалась звезда, сквозила дремотная оторопь спрятанного среди домов сада, и иногда Вике казалось, что если в такой момент особым образом замереть и прислушаться, то доносится сквозь деревья серебряная тихая музыка – ударяют молоточки по клавишам, вздрагивает и открывается занавес, будто куклы разыгрывают представление в открытой шкатулке. Все тогда казалось доступным и осуществимым. Все – волшебно легким и предвещающим заманчивые открытия. Все вокруг полно было увлекательного и внятного смысла, и предчувствие этого смысла уже обволакивало реальность. А потом наступало жаркое летнее время, и необыкновенная сизая пыль закручивалась над мостовыми. Блистали стекла. Зеленоватый зной стоял во дворах. Философский камень оборачивался куском легкой пемзы. Дядя Мартин был одним из тех многочисленных чудаков, что, скрипя огромными башмаками, бродят по улицам Петербурга. Вике он был привычен, как коты в сапогах, феи и длиннобородые маги. Звучало странное заклинание: Экс!.. Кекс!.. Бре-ке-кекс!.. – В конце концов, из этого вырастаешь. И она действительно выросла, неожиданно для себя самой став почти вровень с матерью. Этакая дылда – на целых полголовы выше других девчонок. В классе ее даже пересадили на заднюю парту. – Заслоняешь, Савицкая… – склонив очки, строго объяснила Роза Георгиевна. – Не вижу, что делается у тебя за спиной.
Глупо хохотнул Витька, за что немедленно получил увесистый подзатыльник, захихикала Алечка, правда, тут же умолкнув, когда Вика в ярости обернулась, Рюша поднял плоские брови, да так и застыл, что-то обдумывая. Больше никто не пикнул. Роза Георгиевна предостерегающе подняла указку. Тем не менее, Вика чувствовала себя дура дурой. Она сильно стеснялась, стоя на перемене среди подруг. – Каланча… – пищала всякая мелкота, скользя в тапочках по паркету. Каланча, – читалось во взглядах девчонок из соседнего класса. Каланча – наверное, считала и она сама. Было обидно, но не станешь же связываться с плаксивыми недомерками. Приходилось старательно делать вид, что ничего такого не замечаешь. Впрочем, прозвище «каланча» за ней, счастью, не закрепились. Все переживания по поводу роста были, оказывается, вообще излишни. За весенние месяцы также стремительно вымахала и сама Алечка. А затем очень быстро тронулись в рост Шизоид и Менингит. Эта дикая парочка второгодников, еле-еле переползающих из класса в класс. А уже в апреле, как будто прогретая солнцем, потянулась за ними чуть ли не половина Викиного окружения. Причем, некоторые даже слегка обогнали ее, не затормозив вовремя, а совсем недавно еще похохатывавший над ней злорадный Витька превратился к маю в долговязого, весьма нескладного парня, который при входе в класс обязательно задевал макушкой притолоку дверей. Девочки уже поглядывали на него как-то особенно: быстрый просверк зрачков, а затем веки – медленно опускаются. Больше всех, разумеется, липла Алечка, повелительно и жеманно тянувшая при каждом удобном случае: Витенька, у тебя не найдется карандаша-а-а?.. Витенька, у меня тут что-то замок на портфеле не открыва-а-ается… – А этот идиот, конечно, и рад стараться.
Вике это почему-то не слишком нравилось. И хотя она больше не чувствовала себя дурацким пугалом среди нормальных людей, настоящего превращения из гадкого утенка в лебедя все же не произошло.
Оно, конечно, должно было произойти. Вика в это искренне верила. И с удушливым трепетом, от которого ныло сердце, нетерпеливо ждала, что вот-вот проявится, наконец, плавный поворот шеи, действительно, как у лебедя, кожа очистится от угрей, станет нежно-матовой и красивой, остистые волосы помягчают, а на лице проступит то дразнящее выражение, которое она уже не раз замечала у Алечки. Выражение, как бы обращенное ко всем мальчикам сразу: Ну, что ты мне такого хочешь сказать? И тогда она небрежно пройдет мимо остолбеневшего от неожиданности Витьки, равнодушно скользнет по нему глазами, точно не узнавая, а когда он ее окликнет, скорее всего этаким заискивающим голосом, сделает вид, что не слышит, и рассеянно отвернется.
Пусть немного помучается.
Вот будет здорово!..
Превращение в гордую лебедицу однако задерживалось. Вика с особой силой почувствовала это в мае, когда под шорох выползающей из липких почек листвы, они собрались небольшой компанией по случаю предстоящих каникул.
Она долго думала, что надеть этим вечером. Лихорадочно перебирала платья, хотя и было-то их у нее всего два: красное, которое Вика уже давно терпеть не могла, потому что от пламенного его оттенка кожа становилась ощутимо темнее, и еще – синее, которое шло ей значительно больше, но тут стало вдруг тесным и резало складочками в подмышках. А с переставленными пуговицами, что Вика, разумеется, сразу же сделала, начало почти неприлично выдавливать наверх груди. Вика чуть не расплакалась, не представляя, что выбрать. Кончилось тем, что она неизвестно за что разозлилась на самое себя, раздраженно махнула рукой, влезла в синюю, опасно потрескивающую на швах тесноту, подколола кулончик, который хоть чуть-чуть прикрывал вырез, и, сопровождаемая взволнованным взглядом матери, которая тоже начала нервничать, ринулась через асфальтовый двор, к парадной напротив. И уже, влетев в квартиру Виталика, освобожденную от родителей на этот вечер, опоздав, тем не менее, минут на тридцать, если не больше, увидев Лерку с вырезом платья еще ниже, чем у нее, Рюшу при галстуке, в рубашке с аккуратно завернутыми рукавами, самого Витьку в красивом джемпере, распираемом изнутри бицепсами, обнажающую зубы Алечку, у которой покачивались в ушах маленькие сережки, – все такие знакомые, радостные, привычные лица, – Вика вдруг непонятно с чего ощутила, что она здесь немного не к месту, можно было не волноваться так уж насчет опоздания, можно было даже не приходить вообще – никто бы этого, скорее всего, не заметил, и у нее, точно перерезали нитку, упало сердце.
Все шло наперекосяк этим вечером. Как-то так получилось, что за столом она оказалась не рядом с Витькой, что вроде бы подразумевалось, а с мордастым, пахнущим мылом и потом Шизоидом, которого ей меньше всего хотелось видеть. Неизвестно, как он здесь вообще очутился. С чего это вдруг его пригласили и втиснули рядом с Викой? Вике это соседство было исключительно неприятно. Тем более, что Шизоид и вел себя соответствующе: тут же, на первом тосте, как взрослый, солидно, с кряхтением хряпнул водочки, покосился на Вику, придвинулся ближе нелепо скроенным туловищем, предложил ей чего-то там помидорно-сметанного и хотя Вика держалась с ним крайне сдержанно, так и остался – нахально прижимаясь бедром к бедру. А когда Вика, чтобы лишний раз не обращаться к нему, сама тянулась за чем-нибудь через стол, наклоняясь и ослабляя натяжение синей материи, оценивающий взгляд немедленно опускался и полз ей за вырез платья. Шизоид словно прикидывал, стоит ли вообще с ней связываться. От этого взгляда ей хотелось ссутулиться.
Витька же, причесанный и, кажется, благоухающий одеколоном, оказался к ее удивлению опять вместе с Алечкой, – оживленной, все время подсовывающей к нему свое личико, – и при взгляде на них у Вики подскакивала температура. Очень уж они непринужденно смеялись и, на взгляд Вики, очень уж откровенно соприкасались друг с другом. Причем, Алечка выглядела сегодня просто великолепно: в новой прическе с пружинящими вдоль щек упругими локонами, в новом бархатном платье с какими-то вспененными на плечах рюшечками, с бронзовой старинной висюлькой, продавливающей ткань между грудей. А когда она хохотала (что явно старалась делать, как можно чаще), чисто по-женски взирала на Витьку с преувеличенным восхищением. Витька же при этом просто надувался от удовольствия. Не доходило, видимо, до дурака, что его завлекают.