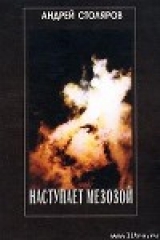
Текст книги "Наступает мезозой"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Гораздо важнее здесь было другое. Он опять чуть было не загубил весь опыт своей поспешностью. Правда, зловещий коричневатый оттенок после извлечения коацервата в аквариуме не появился, но и благополучным создавшееся положение назвать было нельзя. Студенистые комочки, наверное травмированные таким вмешательством, ощутимо съежились и прекратили оживленную циркуляцию, неподвижно повисли друг против друга, как бы сцепившись с пространством, сфера воды вокруг них приобрела окраску разбавленного молока. Так протекло в томительном ожидании более суток, а потом вдруг один из них, самый нижний, затрепыхался и развалился на две половины. После чего циркуляция коацерватов возобновилась.
Это, конечно, была ошеломляющая победа. Жизнь не есть размножение, но размножение есть один из главных признаков жизни. Но одновременно это было и сокрушительное поражение, потому что теперь стало ясно, что вмешиваться в круговорот «океана» опасно. Он и в самом деле представлял собой нечто целостное. Шаткое равновесие, которое можно было бы определить как «преджизнь», могло быть нарушено в любую минуту. Это означало бы в свою очередь крах всех надежд. Значит, опять тупик, опять невозможно двигаться дальше.
Примерно такого же мнения придерживался и Бизон. Как-то осенью, после долгого и совершенно никчемного заседания кафедры, где в очередной раз дебатировался вопрос о привлечении к исследованиям дополнительных средств, он осторожно, уже около десяти вечера постучался к нему в комнату, попросил разрешения своими глазами глянуть, что здесь происходит, очень долго, пожевывая мягкие губы, всматривался в прозрачную, чуть зеленоватую среду «океана», менял освещение реостатом, подкручивал сведенные окуляры, заметил в конце концов, что надо, конечно, ставить вам более мощную технику: подавайте заявку, попробуем заказать фазовоконтрастный разверточный блок, есть такие, «Цейсс» до сих пор производит очень приличную аппаратуру; потянул к себе лист чистой бумаги, забросал его, будто курица, ворохом бессмысленных закорючек, сомкнул их в странные схемы – это был его способ думать, а потом высказался в том духе, что нет, жизнью это, пожалуй, называть преждевременно; продвижение налицо, можно хоть завтра писать авторскую монографию, однако до подлинно белковых образований дистанция здесь ещё колоссальная; вообще нет уверенности, что это именно тот путь, которым шла жизнь на Земле; вполне возможно, что вы нащупали нечто принципиально иное…
– Жизнь не обязательно должна иметь белковую форму, – запальчиво возразил он.
Бизон, удивившись горячности, поднял мохнатые брови.
– Лет пять назад такие слова грозили бы вам огромными неприятностями. К счастью, эти пять лет уже позади. А насчет жизни, знаете, чем больше я занимаюсь теоретической биологией, тем сильней у меня ощущение, что именно феномен жизни нам не подвластен. Есть в ней что-то, что находится за пределами нашего разума. Изучать мы её можем сколько угодно, а вот экспериментально создать – это нечто иное. Здесь вам потребуется помощь Бога, если, конечно, он пустит вас в свои тайные мастерские. Или помощь дьявола, который любит играть в такие игрушки…
– Значит, кто-то из них мне поможет, – сказал он.
– Вы так думаете?
– Я в этом совершенно уверен!
Бизон остановился в дверях и как бы даже стал ниже ростом. Он походил на лешего, который для чего-то напялил белый халат.
Глаза его стеклянно блеснули.
– Я только боюсь, что это будет не Бог, – сказал он.
Бог – не Бог, дьявол – не дьявол; у него не было времени разбираться в этих метафизических хитросплетениях. Теория познания его никогда особенно не интересовала. Хватало и тех заморочек, что за последнее время обрушивались на кафедру. Все как будто в одночасье посходили с ума. Демократы, рыночники, либералы, коммунисты, аграрии; даже вылезшие откуда-то – трудно было в это поверить – фашисты; плановая социалистическая экономика, свободная экономика, кейнсианство; какой-то монетаризм, административно-хозяйственные методы управления… Все это спутывалось в клубок, не имеющий ни конца не начала, наслаивалось друг на друга и раздражало своей явной бессмысленностью. Причем тут, скажите, это самое кейнсианство? Зачем мне знать разницу между свободным кредитом и связанным? Не все ли равно, какая у национал-патриотов экономическая программа? Работать надо, а не сотрясать воздух бурными словесами.
Ситуация, тем не менее, заметно ухудшилась. Неожиданно, будто снег на голову, свалились систематические задержки зарплаты. Сначала отложили выдачу до конца месяца, потом – до начала следующего, затем все-таки выдали половину, а другую пообещали, когда придут деньги из Министерства. Министерство, между тем, не проявляло особой поспешности. День за днем проходил в бесплодных объяснениях с бухгалтерией. Кафедра гудела, как улей, на факультете вспыхивали затяжные скандалы. Жена, когда он возвращался домой, беспомощно разводила руками. Им зарплату задерживали уже почти на целый квартал.
– Не представляю, как дожить до четвертого, – говорила она.
– Как-нибудь доживем, – он садился и ел макароны, залитые подсолнечным маслом.
– Ну тогда займи у кого-нибудь.
– Не у кого нам занимать.
– Тогда я у своих родителей попрошу.
– Ни в коем случае!
Эта беспомощность раздражала его сильнее всего. Ну – прикинь семейный бюджет, посчитай, сколько нужно на самое необходимое. Он не верил, что денег может не хватить даже на макароны. Что за чушь! И ведь есть же в конце концов у них какие-то сбережения.
– Но тогда я останусь без шубы на зиму, – говорила жена.
Он отвечал сквозь зубы:
– Шуба потребуется тебе только через полгода. Ближе к осени, и будем думать на эту тему.
– А через полгода ты мне какие-нибудь деньги дашь?
Он вставал и, чтоб сдержать раздражение, уходил в комнату. К сожалению, жена не привлекала его теперь даже физически. Близость, если такое случалось, была у них исключительно вынужденной. Но даже эти не слишком частые отношения он старался свести к необходимому минимуму. Подачка низменной биологии вызывала у него отвращение. Два-три дня после этого он испытывал к себе нечто вроде презрения. Оступился, ладно, в конце концов не так уж это человеку и нужно. Дух должен торжествовать над телом, а не наоборот. Связей на стороне, кроме пары случайных, у него тоже не было. Слишком много это отнимало драгоценного времени. И слишком трудно это было потом без неприятностей прекратить. Одиночество в этом смысле он переносил без всякого затруднения. Более того, как раз в те периоды, когда он в известной мере долго оставался один, точно так же, как и во время юношеских блужданий по городу, в голову ему приходили самые удачные мысли. Сублимация, по-видимому, возгонка грубой энергии. Именно так, вероятно, и совершались все выдающиеся открытия. Однако «созидающего молчания» удавалось достичь не слишком часто. Внешний мир прорывал одиночество и то и дело напоминал о себе.
Трудности обнаруживались там, откуда их ждать, вроде бы, не приходилось. Вдруг уволился ни с того ни с сего один из трех работающих на кафедре лаборантов. Почти целый семестр, до конца учебного года, пришлось распределять его обязанности между собой: вешать таблицы, выставляли в аудитории учебные препараты, заказывать корм для лягушек, мыть скальпели и кюветы после занятий. Ситуация по прежнему времени была неслыханная: чтоб за три месяца не найти студента, желающего закрепиться на кафедре! А вот поди ж ты – один ответил, что его такая работа, извините, не интересует, другой сослался на перегрузку, вызванную общественными обязанностями, третий, оказывается, уже куда-то устроился и был доволен, а отличник, которого, кстати, прочили через полтора года в аспирантуру, неожиданно буркнул, что «кто ж вам будет корячиться за такую зарплату?». Выяснилось заодно, что и в аспирантуру он тоже отнюдь не рвется. Зачем мне аспирантура, я осенью вообще собираюсь отсюда сваливать. В конце концов через цепочку знакомых нашли какую-то аккуратную девочку, но и сами поиски, и уклончивые ответы студентов свидетельствовали о многом.
И о том же свидетельствовали разные, вдруг обнаруживающиеся неприятные мелочи. Начались, например, перебои с самыми элементарными реактивами. Пришлось в срочном порядке сделать запас из имеющихся на данный момент резервов. Колбы, микропипетки, ванночки тоже вдруг стали почти неразрешимой проблемой. Дважды за весенний семестр отключали без всякого предупреждения электричество, и в начале апреля у него первый раз в жизни чуть было не приключился инфаркт, когда утром, войдя с легким сердцем в вестибюль исторического факультета, он вдруг узрел необычный сумрак, рассеиваемый лишь светом из пыльных окон, черный зев коридора, лестницу, погруженную в душноватый мрак, а у себя в комнате, куда он в мгновение ока взлетел, – мертвую, с потухшими индикаторами, жутко поблескивающую «Бажену» и в её полукруглом охвате, более не подсвечиваемом по краям рефлекторами, – тускло-серую, будто ртутную, воду остывающего аквариума. Хорошо еще, что температура в этот день была плюсовая. Если бы зимой, то – все, материал можно было бы выбросить на помойку. Пришлось договориться с вахтерами, которые дежурили в вестибюле, дать им немного денег и заручиться клятвенным обещанием немедленно известить. Он сам отпечатал на четвертинке бумаги свои имя, отчество и телефон, надписал красным фломастером, чтобы звонили в любое время, обвел рамочкой, поставил четыре восклицательных знака и для большей надежности посадил это на клей внутри вахтерки.
Однако хуже всего получилось с заказанной для «Бажены» цейссовской оптикой. Документы, подписанные кем надо, ушли, и более полугода от фирмы не было никаких известий. Как раз в это время толпы студентов разрушили Берлинскую стену, следовали темпераментные заявления, пресс-конференции, эффектные жесты с обеих сторон. Германия объединялась; видимо, до рутинных запросов никому не было дела. Политика, как это уже случалось, заслоняла собой все остальное. И он, вероятно, махнул бы рукой на эту досадную неудачу: не получилось и ладно, нельзя же в конце концов, чтобы везло всегда и во всем, однако совершенно случайно, просто из разговора, услышанного в ректорате, неожиданно выяснилось, что как раз этот самый, заказанный и согласованный во всех инстанциях «Цейсс» все же пришел, причем ещё в позапрошлом месяце, получателем принят, оформлен и даже уже запущен, вот только вопреки первоначальной заявке достался он почему-то Бучагину.
Тот, кстати, не видел, здесь ничего особенного:
– Разве я тебе не сказал? Извини, старик, совсем закрутился. Новая лаборатория: исследование активных центров ферментов. Самое, между прочим, сейчас перспективное направление. Прямой заказ, финансируют зарубежные фармакологические концерны.
– «Цейсс» для этого не требуется, – с холодным бешенством сказал он.
Бучагин напряженно моргнул.
– Извини, старик, у меня теперь иностранцы – два раза в неделю.
– Ну и что?
– А то… Не могу же я показывать им голые стены.
– Для антуража, значит. Ну – будет грандиозный скандал…
– Старик, ради бога, мы же с тобой приятели!
– В понедельник, если «Цейсс» не придет, я напишу официальную докладную.
– Старик, ты с ума сошел!
– Смотри. Мое дело – предупредить…
В понедельник, весь новенький, вздутый рифлеными щечками «Цейсс» был перевезен и смонтирован на выносных платах «Бажены». Одну тумбочку, слева, занял теперь весьма компактный дисплей, а другую, по правую руку – принтер, распечатывающий результаты. Проводку для них обоих пустили прямо по полу. Процессор – к стене, сканнер – на журнальный столик, принесенный из дома. В кабинете после этого стало не повернуться. Бучагин при редких встречах, разумеется, смотрел зверем. Еле заметно кивал и проходил мимо, не удостаивая разговором. Чувствовалось, что этот потерянный «Цейсс» он не простит никогда. Зато новая аппаратура сразу же начала приносить результаты. Выяснилось, например, что коацерваты действительно не имеют четкого клеточного строения. Мембранных структур или, по крайней мере чего-то подобного, у них просто нет. Значит, разделение внутренней биохимии осуществляется неким ещё неизвестным науке способом. Это в свою очередь предполагало принципиально иной тип обмена веществ. Данные уникальные и в самом деле напрашивающиеся в докторскую диссертацию. Более того, оказалось, что разные коацерваты не идентичны друг другу. У одних цитоплазматические уплотнения размещались в области предполагаемого ядра, у других же подобные образования концентрировались вдоль оболочек. Таким образом подтверждалась сразу же пришедшая ему в голову мысль: «хоровод» представляет собой не популяцию индивидов, а некий сверхорганизм. Причем, организм, пребывающий, скорее всего, в зачаточном состоянии. Теперь стало понятным, почему не удается культивировать отдельные коацерваты. «Печень», вырезанная из «тела», не может жить полностью изолированно. Точно также как «тело», лишенное «печени», становится нежизнеспособным. Слитно-раздельное существование – вот тут какая напрашивалась догадка.
Правда, обнародовать эти данные, хотя бы в виде гипотезы, он опасался. Несколько лет назад он прочел роман Синклера Льюиса «Эрроусмит», и история доктора Мартина, обнаружившего, что его буквально на месяц опередил кто-то другой, потрясла его и служила с тех пор серьезным предостережением. Было здесь нечто общее с той ситуацией, в которой оказался он сам. Ни в коем случае нельзя было раскрывать конечную цель исследований. Нельзя было печатать предварительные материалы, не получив главного результата. Он просто чувствовал, что ходит где-то рядом с очень несложной догадкой. Сверкнет озарение, сцепятся некоторые пока недостающие звенья, кто-то иной, воспользовавшись его подсказкой, стремительно проскочит вперед. Он смертельно боялся, что его тоже опередят. Тогда годы сумасшедшей работы потеряют значение. Никаких догадок, тем более в виде концепций, он поэтому не публиковал, точных цифр не указывал, не иллюстрировал материал фотографиями, а напротив – придерживал, сколько мог, даже второстепенные результаты. Со стороны могло показаться, что работа его безнадежно застопорилась. Но такое именно впечатление он и хотел о себе создать. Меньше успехов – меньше зависти и недоброжелательного внимания. В открытых статьях он печатал лишь некоторые промежуточные итоги.
Впрочем, даже такие итоги порождали немедленный отклик. Дурбан и Грегори отслеживали самые крохотные его публикации, непрерывно запрашивали о «быть может, случайно опущенных вами деталях», выражали недоумение, что результаты не повторить, несмотря ни на какие усилия. Раздражение их нарастало буквально от месяца к месяцу. Грегори, презрев вежливость, теперь прямо писал: «Вы, Николас, мне кажется, что-то такое от нас скрываете. Вы вводите нас в заблуждение и заставляете изучать миражи. Разумеется, мне понятно ваше беспокойство о приоритете, но приоритет в науке устанавливается не временем получения факта. Приоритет устанавливается только временем его публикации. Застолбите участок, пока это не сделал кто-то другой. Такова, во всяком случае, официальная международная практика».
У него эти нравоучения вызывали усмешку. Какой смысл имели они по сравнению с упорным восхождением на вершину, по сравнению с теми безднами, куда не заглядывал ещё ни один человек, по сравнению с озаряющим все вокруг светом истины? Дурбан и Грегори казались ему карликами у подножья горы. Вершина скрыта туманом, и очертания её пока не улавливаются. Голоса их рассеивались по мере прохождения через атмосферу. Смысл упреков терялся, сюда долетало только слабое эхо. Отвечал он в том духе, что уникальность эксперимента и для него самого есть некоторая загадка. Он не представляет, почему уважаемый мистер Грегори не может повторить его результаты. Биология, тем более в виде «преджизни», штука капризная. Если помните, Гурвич ещё в двадцатых годах писал о «состоянии устойчивого неравновесия». Вероятно, на результаты влияет самое ничтожное отклонение. Может быть, магнитное поле в области нахождения вашей лаборатории. Как только появится время, он попытается разобраться в данной проблеме. Пока же, его работа идет по чрезвычайно напряженному графику… С искренним уважением… Всего наилучшего… Надеюсь на новые встречи…
Эти отписки в известной степени помогали. Давление зарубежных коллег на некоторое время становилось слабее. А чуть позже, когда Грегори был приглашен на очередную межвузовскую конференцию, когда он, презирая условности, явился на кафедру прямо с аэродрома, когда он нетерпеливо распахнул дверь в лабораторию и, как зачарованный, замер перед аквариумом с танцующими коацерватами, стало ясно, что даже этот прирожденный скептик теперь повержен: спала с глаз пелена, заговорили немые камни, истина воссияла, никаких обтекаемых формулировок более не потребуется.
Картина и в самом деле приковывала внимание. Как раз за последние две-три недели движение коацерватов явно гармонизировалось. Они теперь не просто хаотически погружались, а затем всплывали к поверхности, они делали это в каком-то сложном и одновременно правильном ритме: на секунду прилипали к колышащемуся «крахмальному» дну, прокатывались по нему, надувались, чуть-чуть подпрыгивали и потом, будто легкий медленный пух, устремлялись по вертикали. Чиркали по краю воды и плавно уходили обратно. Причем, глотнув воздуха, они поблескивали, будто высеребренные изнутри, а, коснувшись «крахмала», гасли, зато становились почти прозрачными. Это напоминало мельницу, у которой были видны лишь кончики глазурированных лопаток. Безостановочное кружение притягивало и, кажется, даже гипнотизировало. Часами можно было смотреть, как вращается загадочное «колесо жизни». И хорошо, что Грегори не нужно было ничего объяснять. Видимо, он как специалист сразу же схватил суть явления. Во всяком случае он не стал просить черновые протоколы эксперимента, сравнивать фотографии, мучить бессмысленными вопросами. Он лишь выдвинул челюсть и придавил губу плоскими желтыми, как у коровы, зубами. Мотнул головой, глаза вспыхнули, словно наполненные электричеством.
– Это, Николас, по-моему, уже близко к Нобелевской! Но теперь вы тем более обязаны немедленно опубликовать результаты. Хотя я, кажется, понимаю, почему вы их до сих пор придерживаете. Скажите, а вы не боитесь впустить в этот мир – нечто такое… Нечто такое, что этому миру вовсе не принадлежит?
– Вы о чем?
– Ну вы догадываетесь, что я имею в виду? Знаете, я получил в детстве религиозное воспитание…
– Боитесь геенны?
– Не то чтоб буквально, но время от времени какой-то озноб прохватывает. Думаешь иногда, а может быть, ладно, бог с ней, с наукой.
– Значит, это сделает кто-то другой, – сказал он.
– Здесь я вас понимаю… – Грегори неторопливо кивнул.
И вдруг обернулся к аквариуму, где коацерваты продолжали свой странный танец.
У него даже брови закостенели.
– Пойдемте отсюда, Николас. Мне почему-то кажется, что оно на меня смотрит…
И тем не менее, это опять был тупик. Как когда-то с белковыми нитями, которые возникали из «океана». Танец сонных коацерватов длился уже целых пять месяцев, и за все это время никаких изменений в аквариуме не происходило. Студенистые комочки все также циркулировали от дна к поверхности: прилипали, немного вздувались, глотали искусственную сернистую атмосферу, снова погружались, чиркали по «крахмалу», подпрыгивали, – и весь цикл повторялся вновь с точностью до секунды. Никаких дальнейших тенденций к развитию они не выказывали, размеры оставались такими же, и точно такими же оставались их рыхло-шарообразные очертания. Внутренние структуры, на что он в тайне надеялся, не образовывались. И даже количество их сохранялось по-прежнему неизменным. Девятнадцать полупрозрачных комочков кружились в зеленоватой воде. Развитие прекратилось. Жизнь, по-видимому, исчерпала первоначальный эволюционный потенциал. В среде установилось некое равновесие, «ледниковый период», межвременное биологическое оцепенение.
Правда, он, кажется, уже начинал понимать, в чем тут дело. Жизнь – это не просто мерцание, разгорающееся в темном пустом пространстве. Жизнь – это взрыв, катаклизм, рождающий из пустоты странное нечто. Ни с того ни с сего она, по-видимому, не возникает. После «Бажены» необходим был, скорее всего, некий новый толчок. Однако какой – радиация, магнитный удар, резкая смена температуры? Выбор средств был слишком велик, чтобы остановиться на чем-то конкретном. Он боялся каким-нибудь неосторожным воздействием загубить уникальный эксперимент. Один к ста миллиардам; такой удачи у него больше не будет. Слишком свежа ещё была память о мертвенной, дряблой, зловещей, внезапной коричневатости – той, которая появилась, когда он попытался извлечь одиночный коацерват. Нет уж, пусть лучше все остается по-прежнему. Ничего не менять, не подстегивать жизнь искусственными раздражителями. У него нет права даже на одну-единственную ошибку. И вместе с тем он чувствовал, что ему катастрофически не хватает времени. Если пересчитывать на естественную эволюцию, то пять месяцев это не просто длинный, а невероятно длинный для развития срок. Соответствует он, вероятно, целому геологическому периоду: наползанию ледников, оттепели, повышению уровня океана. И если в течение этого прямо-таки «космического» по масштабам периода в появившемся биоценозе ничего существенного не произошло, значит, жизнь не просто остановилась, чтобы после некоторого накопления сил двинуться дальше, она остановилась как факт, как явление, как некий спонтанный процесс, как субстанция, поддерживающая движение косной материи. Внутренние её резервы уже исчерпаны, скоро – распад, предотвратить который, по-видимому, не удастся.
Это трясло его как непрекращающаяся лихорадка, не давало заснуть, заставляло являться на кафедру гораздо раньше обычного. Ни о чем другом он просто уже не мог думать. «Ледники» наползали. Времени у него, скорее всего, действительно не оставалось. И потому он целыми днями сидел, колдуя над извлеченными из аквариума капельками раствора: пытался определить в них наличие протобелков или неких ферментов, закладывал в центрифугу, разделял на основные биохимические составляющие, делал сотни анализов, растворял выпаривал, снова растворял, отфильтровывал. Десятки колбочек с разноцветными порошками выстраивались перед ним, сотни пробирок с кислотными или щелочными суспензиями хранились про запас в холодильнике, тысячи препаратов от «ценкера» до гематоксилин-эозиновых заполняли собой три длинные секции пристенного шкафчика. Вычерчивались потом самые подробные и тщательные диаграммы. В папке таблиц, чтоб не запутаться, приходилось теперь вводить разделы и подразделы. От пестроты мелких цифр воздух иногда рябил черными точками. В глазах появлялась резь, тупо ныли виски от вечного возбуждения. Казалось – ещё усилие, ещё один крохотный шаг. Камни действительно заговорят, истина воссияет. Однако чем больше он увязал во множестве частностей и подробностей, чем полней представлял себе химическую картину исходного «океана», чем обширней становились таблицы, куда он сводил все новые и новые данные, тем неопределенней казалась сама конечная цель работы. Она расплывалась, обволакиваемая туманом деталей, колебалась, как зыбкий мираж, при первом же дуновении, превращалась в нечто аморфное, не имеющее логических очертаний, и в конце концов исчезала точно случайный сон. Тогда он шел в переулочки, примыкающие к Университету, а затем по пустынным асфальтовым линиям – от Большого проспекта до Малого. Васильевский остров распахивался перед ним тишиной скверов и двориков. Ползли над крышами облака, трепал волосы порывистый невский ветер. Ничего этого он не видел и даже не чувствовал. Он просто шел, пока все тело не начинало звенеть от усталости. Мыслей во время таких прогулок у него больше не возникало. Он лишь иногда растирал слезящиеся, набрякшие воспалением, горячие комковатые веки.
Кончилось это так, как, вероятно, и должно было кончиться. Ночью, примерно месяца через два после стремительного визита Грегори, позвонил вахтер, которому он доплачивал именно за такого рода известия, и косноязычно уведомил, что уже три часа как на факультете отключили теплоснабжение. Где-то на трассе авария, выбило, говорят, главный вентиль. Это не только у нас, вообще пострадал целый микрорайон. Обещают, конечно, в ближайшее время наладить, но вот сколько провозятся, сами понимаете, неизвестно.
– Вы просили докладывать, если что-нибудь такое произойдет.
– Спасибо, – сказал он, судорожно сжимая телефонную трубку.
– Я сейчас позвоню ещё городской аварийке.
– Конечно… Спасибо…
Минут через тридцать, чудом поймав такси, он трясущимися руками уже открывал двери на кафедру. Обстановка была даже хуже, чем можно было предполагать. Батареи остыли, в комнате царил пронзительный холод. Изо рта при дыхании вырывался беловатый парок. На оконных стеклах с внутренней стороны скопился иней. Шторы казались ломкими; наверное, тоже промерзли. «Бажена» ещё работала, но – тоненько подсвистывая от напряжения. Выйти на прежний режим она была явно не в состоянии. Температура на градуснике была пять целых и сколько-то там десятых. Вакуумный колпак треснул, атмосферный воздух проник внутрь системы. Стоило почти восемь лет поддерживать строгую изоляцию! Бестолку подсвечиваемый аквариум выглядел вообще не сообразно ни с чем. Скользкие отвратительные куски пакли плавали на поверхности. Кристаллический солевой бордюр, будто снег, окантовывал жидкость. А сама она потемнела и приобрела уже знакомый коричневатый оттенок. Коацерваты, разумеется, пострадали больше всего. Они осели на дно и слиплись в рыхлую, довольно-таки неопрятную массу. Наматывался на неё «крахмал», колеблющийся плесневидными нитями. А под ним в толще студня змеились серые борозды и углубления. Это напоминало обнаженный человеческий мозг: кости черепа растворились, а волосы приросли непосредственно к мозговым оболочкам. Чувствовалось, что рыхлость его в дальнейшем будет только усиливаться. И внутри уже что-то темнело, правда, пока ещё не слишком заметно. Видимо, там начинались первые некротические изменения.
То есть, катастрофа была полной и окончательной. Годы работы припахивали теперь тинистым йодом. Слизь и плесень покрывали собой бесплодно растраченную часть жизни. Позади было кладбище, усеянное юношескими мечтаниями.
Отчаяние его было так сильно, что переходило в бесчувственность. На мгновение он подумал, что, может быть, имеет смысл включить масляные радиаторы, попытаться отогреть комнату, вернуть комочки в прежнее состояние. И он даже потянулся было к переключателям, но тут же отдернул руку. Сохранить среди обломков достоинство – вот все, что ему оставалось. Глупо и смешно было бы суетиться под камнепадом судьбы. Одного бесстрастного взгляда на прорастающий ворсинками «мозг» было достаточно, чтобы понять бесплодность всех дальнейших усилий. Что погибло, того уже не вернешь к жизни. То, что умерло, как ни бейся, умерло, по-видимому, навсегда. Здесь было то же, что он когда-то давно почувствовал в морге. Что есть жизнь, и почему она уходит так безвозвратно? И потому он пальцем не пошевелил, чтобы хоть что-нибудь предпринять. Он не тронул переключатели и не попытался заделать на колпаке зигзагообразную трещину. Он даже не стал выключать подсвистывающую, подмигивающую огнями «Бажену». Он просто вернулся домой, и снова, как ни в чем ни бывало, накрылся с головой одеялом. Впервые за прошедшие годы он проспал до одиннадцати. Будильник он отключил. Торопиться ему теперь было незачем.
Однако когда в середине дня он в странно-приподнятом настроении все же появился на кафедре – не для того, разумеется, чтобы работать дальше, а для того, чтобы напоследок убраться в лаборатории, – первое, что он заметил, неторопливо отдернув шторы, – это то, что волосатая груда «мозга» за ночь существенно увеличилась. Она словно втянула в себя всю «крахмальную массу», потемнела почти до самых краев, но кажется и не думала «протухать». Более того, пленочная её поверхность ощутимо подрагивала: сокращалась и вновь расправлялась, будто от электрического разряда. А ворсинки, которых стало значительно меньше, шевелились и будто всасывали в себя мутную воду.
Сердце у него чуть сдвинулось и повисло над пустотой. В ушах слабенько зазвенело от накатывающего прилива крови. Он быстро нагнулся, пытаясь разглядеть – что там, за толстым зеленоватым стеклом. И точно испугавшись этого его внезапного, порывистого движения, волосатый «мозг» сжался, став ещё морщинистее и ещё темнее, высунул из прилегающей ко дну части две толстые эластичные псевдоподии, пошарил ими вокруг, словно ища какое-нибудь укрытие, а затем оттолкнулся – и вдруг плавно, как воздушный шар, поплыл по аквариуму…
Через неделю стало окончательно ясно, что это – победа. Рыхлый «мозг» превратился в похожее на мешок, темное, покрытое пленочками существо, которое, несмотря на случившееся, чувствовало себя достаточно бодро. Было оно довольно крупное и занимало собой почти пятую часть аквариума. Размерами с арбуз или дыню средней величины. Складки на поверхности тела у него ощутимо разгладились. Перепончатое покрытие упруго вминалось при каждом движении. Земная атмосфера ему, видимо, не повредила. Более того, когда он, достав все-таки реактивы и изготовив свежий раствор, попытался восполнить в аквариуме недостаток первичного «океана», Гарольд, как он почему-то сразу же прозвал этот мешок, судорожно метнулся в угол и забился в истерике. От каких-либо добавок в среду пришлось пока отказаться. Вероятно, Гарольду время от времени требовался именно воздух. Прикрепляясь к стеклу, он высовывал из воды похожий на голову, уплотненный кожистый бугорок, и тогда «горло» под бугорком, как у лягушки, вздувалось и опадало.
Очень хотелось удостовериться – есть ли у него что-то вроде нервной системы, наличествует ли кровоток, мышечные волокна, пищеварительные отделы. В конце концов это было существо, науке до сих пор неизвестное. Открытий здесь следовало ожидать на каждом шагу. Однако Гарольд чрезвычайно болезненно реагировал на любую попытку исследования: от короткого шприца, которым предполагалось взять пробу лимфы, он дико шарахнулся, металлическую ложечку для соскобов кожи близко не подпускал, а контрастное освещение, чем «Цейсс» был особенно привлекателен, возбудило его и вызвало новый приступ истерики. Пленки на мешотчатом теле вздувались до пузырей и чуть ли не лопались. От любых подобных намерений тоже пришлось отказаться.








