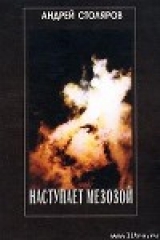
Текст книги "Наступает мезозой"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Лариса, разумеется, ни в какие космические каналы не верила. Какие каналы в той жизни, где каждый день трясешься в набитом автобусе? Достаточно глянуть на судорожные щеки Ребиндер, чтобы понять: энергии и всесущность есть утешение слабым и бегство от повседневности. Слушая подобные рассуждения, она обычно пожимала плечами. И все же одно дело не верить, сталкиваясь с лепетом на модную тему, и совсем другое, когда об этом говорит человек, руками ломающий камни. Тут верь – не верь, невольно закрадываются сомнения. Тем более, что подкреплялись они весьма весомым примером. Мурзик точно также не «крутился» в вечном беличьем колесе – именно жил, без усилий минуя трудности, которые бы утопили любого. Это тоже была необыкновенная свобода от обстоятельств. Лариса искренне восхищалась их общим умением стряхивать с себя все лишнее. Зачем делать то, без чего вполне можно было бы обойтись? К чему ежедневно тащить груз забот, которые просто бессмысленны? Неудивительно, что у них столько жизненности. Георг старше её, видимо, лет на десять, а после целого дня беготни, после толкучки на выставках, после музыки, разговоров, необходимости с кем-то общаться, после метро, троллейбуса, суеты в крохотном кафетерии, после ветра, дождя, асфальта, проспектов, мостиков через каналы, когда уже с ног валишься и кажется невозможным идти куда-то еще, – бодр и свеж, как будто только что вышел из душа. Ни одной жалобы на усталость, ни одной минуты угнетенного настроения, ни одного слова, свидетельствующего о подавленности. Серьезность, да, разумеется, подобающая мужчине, но отнюдь не изматывающая окружающих и себя самого депрессия. Искусство жить. Вечная неутомимая молодость. Сладкое, будто воздух весной, слово «свобода».
Была, правда, у этой свободы и оборотная сторона. Еще в первые дни знакомства, окрашенные смущением и неуверенностью, больше прислушиваясь и приглядываясь к окружающему, чем говоря сама, Лариса то ли от Мурзика, то ли от Земекиса, услышала странное выражение «слить».
– Не нравится мне этот человек, – морщась, объяснял то ли Мурзик Земекису, то ли наоборот. – Не нравится, понимаешь? По-моему, он нам не подходит. Что-то в нем чувствуется не то.
А другой, скажем, Земекис, ответствовал, пожимая плечами:
– Ну, если не нравится – значит, не будем. Надо тогда его слить, вот и все.
Упомянутый человек выпадал из круга общения.
Так было с Валечкой, например, которую Земекис прихватил в Старый Сегеж. Ларисе она при беглом знакомстве даже понравилась. Темноволосая строгая такая на вид девица, искусствовед из «Деметры», что на Загородном проспекте. И вместе с тем явно женщина, с очертаниями, которые украсят даже искусствоведа. Не сухофрукт какой-нибудь с университетскими корочками. Элегантность, выработанная, наверное, в своей галерее, легкий брючный костюм, сиреневая с оборками блузка. Дымчатые, суженные книзу, как луковицы, очки. Первое впечатление от неё было очень благоприятное. Даже кольнуло сердце: а вдруг на Георга эти академические чары тоже подействуют? Лариса, помнится, отошла в сторону и несколько нервно подкрасилась.
Однако, когда после двухчасовой довольно жаркой езды, машины, слегка запыленные, остановились в Сегеже возле собора, она сразу обратила внимание на выстывшее более чем обычно лицо Земекиса, на сведенные скулы, на бледно выпуклые глаза, утратившие, казалось, способность воспринимать окружающее. А у Мурзика с его щеточками усов вообще был вид чопорного кота, сунутого в клетку с дворнягой. Куда я попал? – вопрошала округлая щекастая физиономия.
– Плохо? – спросил у него Георг, улучив секунду.
А Мурзик сверкнул глазами и фыркнул действительно, как рассерженный кот:
– Сам увидишь…
За этим «увидишь», к сожалению, дело не стало. Уже по дороге к собору, с которого решено было начать осмотр, Валечка с приятной улыбкой поведала, кто был архитектором данного исторического сооружения, по чьему проекту и при каких обстоятельствах он был возведен и почему автор проекта и собственно архитектор – разные лица. Она разъяснила способ фиксации каменной кладки в прежние времена, просветила насчет тайных ходов, которыми любое такое здание связывалось с соседними, объяснила в чем состоит уникальность именно этого зодческого решения: нефы здесь шире, это придает звуку красочную полноту, а заодно, пока они обходили собор по яблоневым переулкам, прочла им целую лекцию о раннехристианских культовых сооружениях: катакомбность пещерных храмов начала тысячелетия сохранила, разумеется преображенными, некоторые свои черты даже после выхода христианства из тайных молелен.
– Пространство природы на них практически не повлияло. Вспомните готику, она будто высечена из целого куска скалы. В храмах Древней Руси подчеркнута прежде всего лепная теснота пятиглавия. Точно зодчий был ограничен именно пещерным объемом. Правда, с другой стороны это подчеркивает устремленность здания к небу. Что для культового мировосприятия имеет принципиальную важность.
Внутри собора она рассказывала о разных техниках написания фресок, о закреплении красок на штукатурке и о придании им особого «безмолвного звука», посмотрите сюда: как будто накатывается торжественная симфония, далее изложила отличия «чистой фрески» от фрески в стиле «модерн», что, например, довольно удачно делал Ходлер в Швейцарии, а затем, перейдя на шепот, который в пределах собора был все равно слышен отчетливо, заговорила о поразительной общности христианства и манихейства: «освобождение света», в чем Мани прозревал единственный духовный смысл, в сущности, представляет собой «спасение», к которому стремится ортодоксальное христианство. Не случайно, что манихейство породило павликиан, катаров и некоторые другие ереси.
При этом она не забывала креститься перед каждой иконой и горбатыми пальцами впихивать под платок темные локоны.
Не умолкала она ни на секунду. То ли от смущения, попав в компанию незнакомых людей, то ли пыталась таким образом произвести впечатление на Земекиса. У Ларисы уже минут через двадцать начал тупо, как при высокой температуре, ломить затылок. Это было не просто ужасно, этому не видно было конца. Георг слушал, взирая по сторонам с обманчивым равнодушием, Мурзик с Земекисом многозначительно переглядывались у неё за спиной, а Марьяна на середине пространного экскурса о разнице между «земляными пигментами» и красками «медного происхождения» незаметно отступила под своды того, что Валечка называла «нефом», сделала назад один шаг, другой, исчезла за колонной и больше не появлялась. Ларисе страстно хотелось поступить точно так же. Несколько раз она, упираясь взглядом в темные Валечкины зрачки, пыталась дать ей понять, что лекции и длинные монологи здесь неуместны, и, что самое интересное, Валечка отвечала ей таким же понимающим и вполне осмысленным взглядом – что-то жалкое, извиняющееся мелькало в её глазах, но, по-видимому, сила смущения или привычки оказывалась могущественнее: понимание в глазах пропадало, осмысленность вытеснялась профессиональным упорством, и запнувшаяся на мгновение Валечка продолжала читать одну лекцию за другой – с той же сладкой улыбкой экскурсовода, стремящегося понравиться аудитории.
Все-таки она была безнадежна.
И тут Лариса вновь поразилась искусству, с которым был найден выход из этой тягостной ситуации. Никто не сделал Валечке ни одного замечания, никто не стал кашлять или сбивать её недовольными возгласами. Лекция в соборе была выслушана с благодарностью. Георг беззвучно поаплодировал, Земекис поцеловал Валечке кончики пальцев. Однако, когда уже после церкви они зашли в местный ресторанчик позавтракать, тот же Георг затем, вероятно, чтобы дать хоть немного передохнуть остальным, превратился минут на пятнадцать в почтительного и чуткого собеседника. Он даже задавал Валечке какие-то дополнительные вопросы. Слушал, восхищенно кивал, вставлял вполне уместные замечания. А когда решил, что уже достаточно сделал для общества, незаметным движением глаз сбросил её на Мурзика. А когда выдохся Мурзик, пожертвовав ради этого превосходным пломбиром, эстафету служения перехватил отдохнувший Земекис.
Вероятно, к тому моменту судьба Валечки была уже окончательно определена, потому что Земекис на выходе из ресторанчика высказался в том смысле, что компания, разумеется, вещь хорошая, но бывают периоды, когда хочется побыть и наедине, правда, Валечка, нам ведь надо поговорить друг с другом? – и подхватив её под руку, увлек куда-то в сторону универмага. А когда часа через три, осмотрев все, что требовалось, они снова, как было условлено, встретились на главной площади городка, Земекис появился уже один и вид у него был чуть вызывающий и вместе с тем чуть смущенный.
– Слил, – ответил он на безмолвный вопрос Ларисы. – Дал ей денег, пусть возвращается электричкой. Или вот – автобус здесь междугородный ходит – прямо до центра…
– Тогда поехали, – сказала внезапно материализовавшаяся Марьяна. – Поехали-поехали, не тяните. Не дай бог, она сейчас прибежит.
Ларисе стало не по себе.
– Что же, мы её бросим?
– Конечно, – с непонятной, какой-то отстраняющей интонацией ответил Георг. – Или ты хочешь слушать её всю дорогу обратно? Хочешь? Не хочешь?… – Впервые со времени их знакомства он глянул на нее, будто издалека. Открыл дверцу машины и скучновато спросил: – Ну что, ты садишься?
Лариса мгновенно очутилась на своем месте. И все же проглоченные возражения першили у неё в горле. Неловкость, будто чужое платье, сковывала движения. Укладывалась под колеса тянущаяся до неба лента шоссе. Вырастали, точно из-под земли, и тут же проваливались назад дорожные указатели. Встречные машины обдавали их взрывами горячего воздуха. И она представляла себе, как темноволосая элегантная Валечка, в брючном своем костюмчике, в сиреневой блузке, надетой, наверное, специально для этого путешествия, растерянно стоит у собора, сжимая пальчиками всунутые Земекисом деньги, как она непрерывно моргает, постепенно догадываясь, что к чему, как она внешне спокойно идет к вокзалу и дожидается электрички, как усаживается у окна и сразу же отворачивается от соседей, и как все то время, пока колеса выстукивают по рельсам, она беззвучно, в уме, читает сама себе длинную, не очень интересную лекцию, шевелит губами, помаргивает, щелкает запором на сумочке и не может остановиться, потому что тогда она просто заплачет.
Вот так же когда-нибудь они «сольют» и меня.
Она искоса, но внимательно поглядывала на Георга. Тот подруливал выверенными редкими движениями ладоней. Вдруг – вскинул лицо и одарил улыбкой солнечную пустоту впереди.
– Раз, и готово, – весело сказал он.
– Ну да, выбросили человека, как тряпку…
Улыбка у Георга застыла. Он слегка прижал машину к обочине, пропуская прущий из-за поворота фургон. Просквозил через весь салон выхлоп отработанного горючего.
А затем Георг вновь вырулил на середину.
Скулы у него одеревенели.
– Главное – ничем себя не связывать, – сказал он.
Это прозвучало, как предупреждение. Георг словно давал ей понять, чтобы она не рассчитывала ни на какие серьезные и длительные отношения. Если только Лариса правильно истолковала суть сказанного. Она вовсе не была в этом уверена. Понять Георга, впрочем, как и остальных, довольно часто было непросто. Все держалось на полутонах, на намеках, на отсылках к событиям, о которых Лариса не имела ни малейшего представления. О действительном смысле отдельных реплик приходилось только догадываться: по интонации, например, по едва уловимой мимике, по взглядам, по сопроводительным жестам. А больше всего и всего надежнее – доверять первому впечатлению. Какое чувство возникло у неё в данный момент, так оно, скорее всего, и есть. И Земекис с Мурзиком, и Марьяна и даже Георг временами казались ей водомерками, скользящими по поверхности жизни. Водомерка бежит, и пленка воды у неё под ногами – как зеркало. Раз – и нет легкой стайки, которая только что танцевала перед глазами. Кстати, все водомерки – хищники, высасывающие хоботками соки из своих жертв… Бр-р-р… придумают тоже… – насекомых Лариса с детства не переносила, вместе с тем восхищаясь необыкновенным проворством, с которым они заполняют самые различные среды: землю, воду, воздух, бесплодные расщелины в скалах, выжженные пустыни, солончаки, болота, мангровые заросли, тесную и душную почву. Иногда ей было чуть-чуть жутковато среди миллионов этих странных существ. Иногда казалось – нелепым, причудами женского воображения. Но глаза у Георга, когда в них случайно падало солнце, начинали вдруг отливать стеклянной темнотой окуляров. Пробегали по дну их мелкие красноватые искорки; отражения не было, свет точно уходил куда-то в другую Вселенную. Впрочем, Лариса опять-таки ни в чем не была уверена. Тем более, что все остальное складывалось в высшей степени заманчиво и легко. Никогда ещё не было у неё такого лета, полного чудесных событий, такой быстрой свободы, такого – в плеске воды – бескрайнего солнечного пространства, когда в ту же минуту получаешь буквально все, чего хочешь, жизнь превращается в праздничный, сверкающий красками, великолепный аттракцион и любая проблема решается, будто по мановению волшебной палочки.
Не в чем выйти на пляж? – Лариса с ужасом обнаружила, что совершенно новый, купленный лишь в прошлом году немецкий купальник выглядит уже почему-то линялой тряпкой, – пожалуйста, Марьяна тут же раскидывает перед ней чуть ли не десяток разных моделей. Бери-бери, фигуры у нас похожи!… Беспокоят подростки из соседней квартиры? – взяли моду скапливаться на площадке у лифта: сосут пиво из жестяных баночек, дым коромыслом, плевки, нецензурщина, тупой пьяный гогот, – пожалуйста, Мурзик проводил её как-то до самых дверей: не беспокойся, не стоит, занимайся своими делами. На другой день площадка перед лифтом была даже подметена, а подростки с тех пор здоровались и уважительно расступались… Не совмещаются новые, очень сложные издательские программы? – извелись всей редакцией, у Серафимы раздражительно подергиваются оба века; снова – пожалуйста, явился по просьбе Георга Земекис, присмотрелся, соединил напрямую все три их компьютера, согнулся перед экраном, тускловато-янтарные глаза оживились. Быстро и как-то небрежно протанцевал пальцами по клавиатуре. Повернулся на крутящемся стульчике:
– Так в чем проблемы?…
Серафима, измотанная за эти дни, только ахнула. А Ребиндер нервно сказала, что такого специалиста она взяла бы на работу не глядя.
– Хотите, я вас оформлю прямо с завтрашнего числа?
Земекис только моргнул – повел из стороны в сторону сплюснутым черепом.
– Спасибо. Боюсь, что для вас это – слишком дорого.
– Четыреста в месяц!
– Долларов?
– Разумеется, долларов.
– Обычно мне столько платят за день работы…
Однако главное, разумеется, происходило у Георга в квартире. Сперва Лариса всерьез опасалась каких-нибудь удручающих неожиданностей. Кто его знает, такие у мужиков иногда бывают причуды! Еще до Толика, помнится, некоторое время общалась с одним – требовал, чтобы она обязательно стояла перед ним на коленях. Комплекс неполноценности, вероятно, разыгрывал из себя повелителя. Да и Толик как-то однажды признался, чего хотел бы больше всего: чтобы она, как крепостная девка, поцеловала ему руку. Пожалел, наверное, потом, что сказал. Лариса только глянула на него, – Толика прошибло румянцем. Как говорит Серафима, у каждого придурка свой таракан в башке. Что обнаружится в этот раз? Она готова была в случае чего бежать без оглядки. Однако Георг вопреки её опасениям никаких удручающих склонностей не проявлял, напротив, был нежен и терпелив, уступчив, что, впрочем, сочеталось в нем с некоторой мягкой настойчивостью, – но ведь настойчивость это вовсе не то, что грубая мужицкая прихоть – и как будто заранее знал, чего она захочет в следующее мгновение. Ларисе было с ним очень легко. Ни единой неловкости, ни одного жеста, которого потом неделю стыдишься, ни одного слова, сказанного с пренебрежением. Словно они когда-то уже любили друг друга и теперь только с радостью вспоминали ту, давнюю откровенность. У Ларисы горела кожа от чутких прикосновений. И лишь когда схлынула сумятица первого узнавания, когда новизна ослабла и уступила место привычной естественности, когда нетерпение сменилось уверенностью, что дальше все будет именно так, Георг позволил себе сделать одно важное замечание.
– Ты слишком зажата, – сказал он, глядя так близко, что влага в глазах подрагивала. – Ты как будто боишься, что я вдруг – оскалюсь и сделаю что-то ужасное. Это нам обоим очень мешает. Не бойся, ничего страшного не произойдет. Откройся полностью…
Мелькнула в глазах знакомая темнота окуляров.
Лариса сначала не совсем поняла, что он имеет в виду. Она вроде бы и без того была полностью беззащитной. Делай, что хочешь, пожалуйста, никаких возражений. Но буквально минут через десять, когда Георг сильно и осторожно её обнял, когда он чуть наклонил её и завел руки за спину, в ней как будто ослабло нечто, о чем она раньше не подозревала: какие-то жесткие ниточки, какие-то скрепы, удерживающие от безрассудства. Лариса сначала вся подалась, чтобы вырваться, и вдруг в самом деле раскрылась, точно бутон, едва не вскрикнув от сладкого потрясения.
А Георг ещё сильнее прижал её и коснулся губами уха. Словно быстро поцеловал.
– Вот, видишь, – тихо сказал он.
Ничего подобного она ранее не испытывала. Это походило на сны, которые изредка снятся слякотной петербургской зимой: что-то такое солнечное, неуловимое, будто из детства. Очнешься, а за окном – мокрый снег, шлепанье безнадежных капель по стеклам. И все равно – пусть мимолетное, но ясное ощущение счастья. Только здесь, в отличие от зимних галлюцинаций, она грезила наяву. Причем, сладкое потрясение с каждым разом давалось ей все легче и легче. Георгу больше не приходилось бережно, но настойчиво раскрывать её – один лепесток за другим. Напротив, бутон в душе начинал нетерпеливо дрожать уже при первом прикосновении, оживал, наполнялся радостью, горячими токами пробуждения. И вдруг с великолепной бесшумностью распахивался навстречу. Лариса от счастья почти теряла сознание. Это, по-видимому, и означало то, что называют «отдаться». Прежде она не улавливала смысл этого выражения. Не пугала её даже слабость, накатывающая после каждой такой встречи с Георгом: легкое головокружение, вялость, желание подремать два-три часика, прежде чем двигаться дальше. Подумаешь, слабость! Так ведь, наверное, и должна быть слабость. Вечер любви, разумеется, не проходит бесследно.
Ей совершенно не хотелось думать об этом. Заканчивался июль, посверкивала в городском пыльном воздухе бронза августа. Каменные переулки были опустошены светлым зноем. Слепило небо. Разве можно было о чем-нибудь размышлять в блеске солнечных отражений? Лариса даже и не пыталась; её сносило течением. Пробивался однажды сквозь яркую пустоту встревоженный голос Толика. Где она, что с ней, почему никак не удается увидеться? Видимо, бедный, не понимал, что Лариса его просто не слышит. Кухтик, в свою очередь, жаловался, что в лагере ему уже надоело. Ваську Чимаева родители увозят на юг, а Гринчата и Валерка Махотин теперь тоже на даче. Ведь никого не осталось; когда ты меня, наконец, заберешь? Чувствовалось, что все лето в Березове ему скучновато. Однако, если забрать из лагеря, куда тогда деть? Отпуск у неё в сентябре. Что ж ему ещё целый месяц сидеть в душной квартире? Ничего, поноет-поноет и перестанет. Мальчишки – такие. Лариса держалась с ним терпеливо, но строго. И ещё беспокоил её Тимоша, который то ли свихнулся, то ли уж совсем обнаглел. Ни в какую больше не шел к ней на руки. Ладонь протянешь – встопорщится, глаза – как у голодного демона, короткое предупреждающее шипенье: не тронь, цапну. И ведь цапнет, подлец такой, по всему видно. Не желал даже находиться с ней в одном помещении: Лариса в комнату – Тимоша прыгает с тахты и уходит на кухню. Лариса на кухню, – Тим-Тим плюхается со стула и скрывается в комнате. На то, чтобы спал рядом с ней, нечего и рассчитывать. Зазнавшийся Тимофей спал теперь на коврике перед дверью. Да бог с ним, с котами, по слухам, это время от времени происходит. На улицу бы его выпустить, так ведь принесет с помойки какую-нибудь часотку. Нет у неё сил на Тимошу, пусть сам беспокоится хитрой своей кошачьей башкой. Лариса в конце концов махнула рукой и забыла.
Зато орхидея, когда-то подаренная Георгом, с поразительной стойкостью сохраняла свежесть и очарование. Те же хрупкие, чуть сиреневые лепестки с пурпурными родинками, те же, словно сделанные из яичного порошка, замшевые тычинки. Как живая; Лариса только воду меняла в крохотном пузырьке. А ведь стоит уже больше месяца; что-то невероятное.
Бессмертие орхидеи казалось хорошим предзнаменованием. До Толика ли тут было и до капризов ли свихнувшегося Тимофея? Ларису, как в невесомости, кружило по календарным неделям. Буран медленных дней смывал любые мелочи и заботы. Время освобождалось и вместо крови звенело теперь по всему телу. Счастье имело вкус пыли, солнца и трепетного водяного сияния. Лариса то задыхалась, то наоборот даже не замечала, что дышит. И, если честно, то по-настоящему её беспокоило лишь – зачем она им? И почему именно с ней, разве нет вокруг других женщин? Она видела, как присматриваются к Георгу на улице или в ресторане или, скажем, на артистическом вернисаже, ещё в Сегеже почувствовала готовность Валечки мгновенно перепрыгнуть к нему от Земекиса, угадывала невысказанное согласие девок, как бы случайно усаживающихся поблизости в электричке. Кстати, именно подсиненных до жути, как и предсказывала Серафима. Тугие такие девки, веселые, явно без комплексов. Что Лариса могла бы им реально противопоставить? Комок птичьих костей, как выразилась однажды все та же ядовитая Серафима. Действительно, невысокого роста, щуплая вроде зяблика. Если она выматывалась, то просто не чувствовала у себя никакого тела. Казалось, дунь ветер, и – понесет, будто пушинку, неизвестно куда. Ужасно; неужели не мог найти себе что-нибудь поинтереснее?
Георг, правда, придерживался на этот счет другого мнения.
– В тебе есть жизненность, – сказал он как-то, когда Лариса поведала ему о своих опасениях. – Ты умеешь любить, а это качество – чрезвычайно редкое. Большинство современных женщин любить, к сожалению, не умеют. Они умеют забыться на какое-то время, получить удовольствие от партнера, а изредка даже испытывают, вероятно, настоящее наслаждение, умеют быть счастливы – тоже, кстати, не слишком долго, но любить не себя, а другого, до обморока, не способен почти никто. – Он, едва касаясь губами, поцеловал Ларису сначала в правый, поспешно прикрытый глаз, затем так же, почти не коснувшись, в левый. Губы у него были обжигающие, как изо льда. – Вообще-то ты совершенно напрасно об этом думаешь. Не думай, тебе гораздо важнее не думать, а чувствовать.
– Почему?
– Потому что ты – женщина, – ответил Георг.
Она все ждала, когда после некоторого естественного привыкания, после начальной жажды и, главное, после удовлетворенного самолюбия, что для мужчины, по-видимому, не менее важно, чем все остальное, у него проявится то, что проявляется так или иначе почти у каждого мужика. То есть, сбегай, принеси, поворачивайся, быстренько, иди в ванну, чуть-чуть помолчи, подожди, сколько раз тебе повторять одно и то же. И не то, чтобы трудно ей было бы сбегать, принести или там действительно помолчать, но ведь – приказным тоном, небрежно, не допуская даже мысли о возражении. Ты – его собственность, и он вправе распоряжаться тобой, как захочет. Вот что, между прочим, отвращало её при каждом прежнем знакомстве. Однако Георг и после того, как их встречи стали привычными, к её удивлению и даже восторгу нисколько не изменился: те же обязательные сухие цветы в медной вазочке, то же обязательное и точное выполнение всех её мелких просьб, та же обязательная уступчивость, если их мнения расходились. Речи не могло идти о каком-либо пренебрежении с его стороны. Невозможно было представить, чтобы он брякнул ей, не подумав, что-то невежливое, чтобы был невнимателен или обнаружил хотя бы слабым намеком её подчиненное положение (в том же, что её положение подчиненное, Лариса нисколько не сомневалась). Напротив, он стал теперь как будто ещё более предупредителен: чуть ли не сиял, если Лариса к нему с чем-нибудь обращалась, готов был слетать для неё сию же минуту, куда угодно, а когда она оказывалась, например, в плохом настроении – Ребиндер опять что-нибудь выкинула или Серафима совсем уж достала своими дикими закидонами – не позволял себе ни единого упрека в её адрес, хмурости как бы не замечал, старался отвлечь и с бесконечным терпением ждал, когда тучи рассеются.
Ничто, казалось, не предвещало надвигающуюся катастрофу. Какая может быть катастрофа, если умение избегать неприятностей возведено в ранг искусства? Не будет никаких неприятностей, ерунда, не надо выдумывать. И все же какая-то тень иногда проскакивала у неё в сознании. Вспоминались, то Валечка, брошенная в Старом Сегеже, то слюнявый Михай, баюкающий, как ребенка, сломанную Мурзиком руку, то даже парень и девушка, когда-то решительно вышедшие из кафе. И как бы Лариса потом не встряхивалась, будто кошка, стараясь отринуть тревогу, как бы не уверяла сама себя, что все чудесно и лучше у неё ещё никогда не было, как бы ни ослепляло её стремительное проворачивание лета и счастья, послевкусие не исчезало, разъедал сердце почти неуловимый легкий озноб, и на коже появлялись пупырышки, как от дуновения осени.
Тогда она ежилась и передергивала плечами.
И все чаще чудился ей стеклянный, как у насекомых, отлив в глазах Георга.
Она в такие мгновения старалась зажмуриться.
Признаки кризиса начали обнаруживаться ещё в июне. Уже при первом знакомстве Земекис показался Ларисе каким-то слегка заторможенным: спросишь его о чем-нибудь – отвечает не сразу, возьмет что-нибудь в руки – и словно бы не понимает, зачем, собственно, это ему понадобилось. Мог просидеть, например, секунд десять, взирая на чайную ложечку. Вздрогнет потом, посмотрит на неё с нескрываемым удивлением и уж только тогда начинает накладывать джем в розетку. Правда, в те дни это ещё не очень бросалось в глаза.
А после поездки в Сегеж будто ослабла внутри у него жизненная пружина. Янтарные глаза потускнели, движения стали медленные и плохо скоординированные, пальцы, подрагивая, как у старика, не могли даже взять со стола вилку. Он ещё больше усох, и прилипшая к черепу кожа обрисовывала анатомические подробности: артерии, вены, мускулы – как на гипсовом муляже. Смотреть на него было не слишком приятно. Тем более, что Земекис все чаще втыкался в неё невыразительным бессмысленным взглядом и непроизвольно облизывался при этом, как голодный варан. Раздвоенный сузившийся язычок обегал губы. Ларисе в такой ситуации хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, что прямо по сердцу переползают с места на место крохотные мурашки.
Причем не только она обратила внимания на эти болезненные изменения. Насколько Лариса могла судить, другие тоже были встревожены. Георг в те минуты, когда рептильное оцепенение только начинало себя проявлять, якобы ненамеренно, но весьма ощутимо подталкивал Земекиса сбоку, просил ему что-нибудь передать, втягивал в малопонятную дискуссию о компьютерах. Вообще теребил, не давая этому странному состоянию развиваться. Темпераментная Марьяна тоже явно пыталась помочь, ухаживала, как могла – то сахара в чай насыплет, то даст ломоть хлеба. Однако, выдержки ей все-таки не доставало, и однажды Лариса даже услышала, как она шипит, кривя губы:
– Ну, шевелись же ты, шевелись, тля заморенная…
И Земекис, подстегнутый интонацией, двигался некоторое время чуть-чуть живее. Мурзик, помнится, тогда тревожно глянул в их сторону. А через час Лариса, отдыхавшая на веранде, услышала сквозь полудрему следующий диалог:
– Может быть, тебе кого-нибудь привести? – спрашивал Мурзик, находившийся в глубине комнаты. – Чего ты, Виталик? У меня имеются вполне достойные кадры.
А Земекис оттуда же, из глубины, шелестел, видимо, пересохшим горлом:
– Случайные знакомства не помогают. Тебе – известно…
– Какие же они случайные? – искренне убеждал Мурзик. – Вовсе они не случайные. Для себя, можно сказать, готовил.
– Вот именно, что – для себя, – скрипнул Земекис.
– А как ты тогда намерен из этого выбираться?
Повисла пауза, а потом Земекис вздохнул, будто прошуршала бумага:
– Ну я не знаю… Есть, говорят, способы…
– На «подножных кормах»?
– Хотя бы…
– Рискованно, – тоже после длительной паузы сказал Мурзик.
– Думаешь «обрасту»?
– Уверен.
– А может быть, не «обрасту»?
– Я бы все-таки воздержался.
Слышно было, как передвинули в комнате стул. Лариса сжав ручки шезлонга, боялась пошевелиться. Мгновение давила непонятная тишина. И вдруг Земекис вяло, но иронически хмыкнул:
– Ничего, обойдется…
Она не слишком хорошо поняла, о чем они там препираются. Возникла на веранде Марьяна и, как бы невзначай, прикрыла дверь в комнаты. Смысл подслушанного разговора остался неясным. Однако через несколько дней беседа получила неожиданное продолжение.
Это произошло в ближайшие выходные. Уже на пляже, с утра Земекис был более вял, чем обычно: отказался играть в волейбол, с трудом стянул с себя джинсы и узкую какую-то давно не стиранную футболку, двинулся было к воде вместе со всеми, но – возвратился и плюхнулся на соломчатую подстилку. Дыхание у него было хриплое, как при высокой температуре. А когда часа, наверное, через три, приняв в расчет его состояние, они возвратились на дачу и Мурзик бодрым голосом объявил, что на обед у них сегодня будет нечто особенное: Никогда такого не ели. Пальчики оближете, вах! – Земекис, глядя в пространство, ответил, что есть ему что-то совершенно не хочется, вообще, немного знобит, наверное, простудился, вы – обедайте, а он подремлет часок-другой на солнце. Только, пожалуйста, не беспокойтесь, не обращайте внимания…
Ларису, помнится, поразило, каким быстрым и яростным взглядом сверкнула в этот момент Марьяна, впрочем сразу же опустив ресницы, словно боясь, что не сдержится и наговорит кучу резкостей. И как Мурзик споткнулся на полуслове и тут же взмахнул рукой, делая вид, что ничего особенного не услышал. И как Георг сразу же, будто воспитатель в детском саду, захлопал в ладони:
– Переодеваться! Переодеваться!…
Ей потом трудно было установить, зачем она через какое-то время, выскочила из дома. Наверное, чтобы повесить купальник на протянутые меж двух крепких сосен веревки. Однако она хорошо запомнила, как вдруг точно мохнатая гусеница поползла у неё по спине, как она, то есть Лариса, вздрогнула, пытаясь сообразить, откуда исходит это неприятное ощущение, и как на песчаной дорожке, тянущейся от калитки к веранде, она вдруг увидела того самого плюшевого жутковатого пса, который примерно месяц назад рычал на Земекиса.








