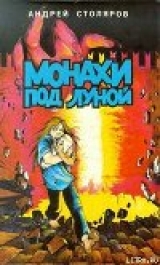
Текст книги "Монахи под луной"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
5. НОЧЬЮ НА ПЛОЩАДИ
Я хватался за воздух. Машина шла юзом. Задняя половина ее крутанулась и неожиданно затыртыркала, будто по сырой резине. Тесный фургончик накренился. Мигнул свет в кабине. Я вдруг оказался распластанным поверх слипшегося комка. Казалось, мы сейчас перевернемся. Разом вскрикнули. Вырос хоровод подошв. Но уже в следующую секунду раздался обратный спасительный удар и заскрежетало сцепление. Колеса опять очутились на грунте. Нас швырнуло в другую сторону. Было не пошевелиться. Я едва дышал. Грузный Батюта придавил меня всеми своими девяноста четырьмя килограммами, а сбоку острым локтем залезал под ребра неприятный грошовый субъект, состоящий, наверное, из одних костей. От него изрядно попахивало. Дребезжали запоры на прыгающих дверях. Медленно ворочалось, распадаясь, переплетение туловищ и конечностей. Лунные решетчатые тени выползали из замызганного окошечка. Вывернув до хруста шею, я успел заметить позади неживую раскатанную колею и серебряный горбыль чертополоха, убегающий куда-то вниз. Кажется, мы свернули на Таракановскую. Слава богу! Впрочем, это еще ничего не значило. Отсюда так же недалеко. Отовсюду недалеко. Я прикрыл глаза. По слухам, расстреливают у Карьеров. У Карьеров и у Забытой Пади. Там, где Рогатые Лопухи. Доставляют партиями. Человек по восемь-двенадцать. Звезды. Слезящийся голый месяц. Темные и сырые просторы полей. Бревнами висит над обрывом свет от автомобильных фар. «Синие гусары» из частей особого назначения переминаются, затягиваясь после водки «беломором». Лейтенант с татарскими скулами на обветренном плоском лице весело машет перчаткой: Выхады!.. Сатыройся!.. Равинее-равинее!.. Как стаишь!.. Пили!!.. – Плачущий надрывный стон раздается из Лопухов. Перекатывается до горизонта эхо. Утром приходит бульдозер и заравнивает вывороченный глинозем. Жутко хохочут филины – во имя торжества социализма. Нет! Не может быть!
Я прислушивался, но выстрелы пока не доносились. Отрезая все звуки, равномерно гудел мотор. Шелестели шины, и в беспамятстве лепетал Батюта, как страшилище, навалившийся на меня: Двести рублей, триста рублей… мелко порезать – и со сметаной… Четыреста рублей, пятьсот рублей – и с подсолнечным маслом… Семьсот рублей, восемьсот – не вмещается больше, сытый… – Он был почему-то в трусах цветочками и в домашних матерчатых тапках с помпончиками. Белый живот его выпирал из-под майки. Отвратительный белый живот. Словно барабан, – гладкий, усеянный рыжим пухом. Идельман, касаясь его, морщился, будто стручок. Все-таки изловили Идельмана. Не удалось отсидеться. И еще двое – незнакомых, испуганных – глухо молчали в оцепенении. А девица на коленях одного из них непрерывно подмигивала и жевала резинку. Чихала она на все. Юбка у нее была до пупа. И неясная женщина, притиснутая к самым дверям, время от времени жалобно восклицала: Гремячая Башня… Ради бога!.. Только не подвал!.. Ради бога!.. Только не подвал!.. – Она чрезвычайно густо потела и болезненно колыхалась мякотью. Ее засадили последней, – сержант наподдал коленом пониже спины. Тоже, наверное, из отщепенцев. Или просто – блажная. Не имеет значения. Я старался отодвинуться, но было некуда. Мы набились, как сельди в банку. Судя по всему, происходила коррекция. Устрашение и частичный перемонтаж. Отбраковка. Бытовая селекция. Промывание слишком умных мозгов. Наступает полночь. Желтые милицейские гробовозы, как жуки, расползаются по улицам. Быстро вращаются мигалки, и тревожный фиолетовый блеск, отражаясь от стекол, торопливо взбегает по этажам. Топот задубевших сапог. Четыре звонка в квартиру. Озверелость и громыхание кулаком по филенке. Страх, который испарениями витал над городом, приобретает теперь вещественные очертания: Гражданин Корецкий? – Да… – Игорь Михайлович? – Да… – Вы арестованы! – А в чем дело?.. – Одевайтесь, гражданин Корецкий! – Но позвольте, позвольте… – Одевайтесь, вам говорят! – Но я все-таки не понимаю… – Одевайтесь, к-курва болотная, а то без штанов заберем!.. – Ошарашенность. Сердцебиение. Свет господень по всей квартире. Пустотелая комбинация. Простыни. Бестолковая суета жены. Боль прозрения. Физиологические позывы. Беззащитность и саднящее удушье стыда. Перепуганная дочь в ночной рубашке, будто ангел, возникающая на пороге: Что такое случилось, папа?.. Я проснулась – чужие люди… – Унижение. Босые ноги. Озноб. Кое-как накинутый тесный костюм. Дрожь и пуговицы. Незавязанные шнурки на ботинках. Лестница под разбитой лампой, провонявшая помоями и кошачьей мочой. Абсолютная беспомощность. Слепота. Проплывающий через мрак огонек сигареты. Две фигуры в фуражках и кителях придвигаются от сереющего переплета рам: Этот? – Этот. – Ничего себе. Хар-рош барсучонок!.. – И внезапно: обжигающий хлесткий мгновенный удар по зубам: Мать-мать-твою-перемать!..
Это – коррекция. Если не слышно выстрелов и не идут к Карьерам грузовики с иммигрантами, то это – коррекция. За день накапливаются отклонения. Хронос не терпит вариаций. Необходимо полное совмещение со сценарием. Иначе – кромешный слом. Так полагает Апкиш. Я открыл глаза. ПМГ тормозила и поворачивала. Луч прожектора, наклоненный с вышки, расщеплялся о четырехугольник двора. Громыхнули, затворяясь, ворота. – Вылезай! – Клешневатые руки подхватывали нас и заставляли выпрямляться: Фамилия?.. В «вошебойку» его! – Фамилия?.. В «вошебойку» его! – Фамилия?.. «Дезинфекция и пропускник»!.. – Зомби работали чисто механически. Сортировка – и все. Мы – шпатлюем, объяснял когда-то Нуприенок. Они даже не шевелились. Девица передо мною, все еще жующая зеленые пузыри, подняла сзади юбку и ответила: А вот это ты видел, котяра? – Удовлетворенно хихикнула. – Хм-км-гм, ты тут, знаешь, не очень-то, – заиграв бровями, пробормотал сержант. Квакнула «лягушка» из затертой машины. Кто-то стонал, кто-то плакал, кто-то неизбежно раскаивался и канючил по-детски, чтобы не забирали. Кто-то сидел прямо на асфальте, угощая себя тумаками по голове: Идиот!.. Идиот!.. Говорили тебе: Не высовывайся!.. – Багровела под стеною колючая проволока, и жужжали керамические сверла в подвалах. Происходила коррекция. Взяли, очевидно, всех. Город был опустошен. Я увидел Гулливера, который стоял, как всегда, наособицу – отстраняясь и выпячивая презрительную губу. Тренировочные у него сползали, а вдоль бедер были прижаты кулаки в цыпках. Клочковатый старик махал на него щепотью: Свят… Свят… Свят… – Я, как в обмороке, обернулся. Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья, пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми зачерненными страницами, клетчатая рубаха на груди лопнула, штанины легко задрались, обнажив бледную немочь ног, он еще дышал – трепетала слизистая полоска глаза. Двое милиционеров ухватили его и, напрягаясь, потащили к воротам. – Циннобер… Циннобер… Цахес… – Блестели на земле осколки луны, и с деревянным шорохом выцарапывала штукатурку из стен потревоженная гигантская крапива. Третий этаж. Булыжник. Насмерть. Карась, незамечая окружающего и проговаривая бессмысленный текст, очень тихо сказал: Умрет, наверное, – а потом, оглянувшись, какположено, добавил. – Тебе бы лучше уйти отсюда. Не надо, чтобы тебя здесь видели. – Он, по-видимому, еще надеялся на что-то. Гулливер, конечно, уже исчез. Мне скомандовали: Марш! – Разомкнулся страхолюдный коридор, и посыпалась трескотня пишмашинок. Перекошенные двери устремлялись далеко вперед. За дверями кто-то орал: Молчать, сволочь!.. Отвечай! Язык проглотил?!.. Молчать! – Тосковал неисправный туалет, и засыхали на окнах фикусы. Жутковатые манекены ожидали своей очереди на скамейках. Женщина, что в фургончике потела и колыхалась, затянула опять, как больная: Ради бога… Ради бога!.. Гремячая Башня… – Ей советовали заткнуться. Видимо, это и были знаменитые Коридоры, о которых рассказывал Идельман. Они сложены в несколько ярусов и доходят до самой области. Учреждения сваливают сюда свои бумаги. Неизвестно, кто их построил. Говорят, что построил Младенец. Нет ни плана, ни даже примерной схемы. Люди здесь исчезают бесследно. Плотоядные демоны слоняются в переходах. Слышно шарканье абразива и вгрызание электропилы. Говорят, что отсюда можно выбраться за пределы Ковчега. Врут, конечно. Я рассчитывал, что исчезновение мне пока не грозит. Слом еще не наступил. Циркуль-Клазов в ярчайшем проеме, жестикулируя и мотаясь, оглушительно кричал на Надин, расстегнутую догола: Нет-нет-нет! Все не так, детка! – Подскочил, будто на пружинах, и взял за соски бледно-розовую выпирающую грудь – энергично тряхнув. – Ты как мертвая, детка. Ей-богу! Искренность, искренность – вот, что требуется. Не в театре. Ей-богу! Искренность – прежде всего! – Он переживал, совершенно не притворяясь. Рослая Надин чуть сгибалась и ежилась, не осмеливаясь возразить. Ей было больно. Я взирал на них как бы из небытия. Отключали действительно всех. Ошалевший Батюта неожиданно сказал басом: А позовите кого-нибудь из начальства… – Сроду он не говорил басом. И Циркуль тут же ущемил его за складку на животе: Допрыгался, сволочь? Топай, топай… – Это было плохо. Это было чрезвычайно плохо. Вероятно, коррекция выходила из-под контроля. У меня перехватило дыхание.
Повернулась на оси тысячесвечовая ослепительная лампа, заслоняя собою и продолговатый кабинет, и фанерную клопяную мебель, обитую дерматином, и четверых одинаково-смутных людей в приспущенных галстуках, и решетку от пола до потолка, забирающую окно, и унылые казенные стены, где на мышиной краске, наверное, еще с довоенных времен желтели под стеклом типографские развороты с Правительственными Указами. И кто-то капризно сказал, будто жвачку, растягивая интонации: Сделаем ему «мясорубку», пожалуй… Или «овечий компот»… Пусть, как ягненок – заблеет… – Но другой голос, резкий и деловой, немедленно возразил: Рано еще… – А третий, вкрадчиво-ласковый, убаюкивающий и опасный, как отрава, леденящий кровь, предложил, возникая у самого уха: Не надо «мясорубку». Право же, зачем? Он нам и так все расскажет. Он ведь умный человек. – И железные пальцы тронули меня за виски, сладострастно и сильно сдавливая. – Ты ведь умный человек? Ты ведь понимаешь, что надо собраться с духом и все рассказать?.. – Толстый и кривой ноготь, видимо, изуродованный в младенчестве, обросший диким мясом, выплыл неизвестно откуда и повис среди блистающей пустоты. Лохматились чудовищные заусеницы: Где ты находился в указанное время?!.. Какие у тебя отношения с гражданином Черкашиным?!.. Когда ты видел его в последний раз?!.. – Голоса лупили, как хлысты, в основание черепа. Казалось, что сейчас лопнет мозг. Я пытался щуриться, но вместо прохладных и темных век сквозили рваные хлопья крови. Лида, будто Иисус по водам, прошла между ними и встала рядом с желточным ногтем, поправляя аккуратное коричневое платье. Хрупкий бант белел в ее волосах. Она была точно школьница. Она сказала: Впечатлителен. Неуверен в себе. Характер аморфный, вялый. Склонен к компромиссам. В моменты интима – бесконечные колебания и подавленность. Ясная доминанта отсутствует. Не способен к мироосмыслению. Нравственные принципы интуитивные. Честен. Слаб. Возбудимо-мнителен. Неосознанный страх перед громадой общества. Социальная активность исключается. Видимо, достаточно превентивных мер. В крайнем случае – простое физическое воздействие. Без «терминала». Желателен постоянный пресс на сознание. Рекомендации: объект не верит в возможность каких-либо изменений и остро чувствует собственное бессилие. «Картинку» необходимо закрепить. Допустимы варианты. – Лида непринужденно улыбнулась и пожала плечами. – Элементы позитивизма. Способен на внезапный аффект. Максимальный и непредсказуемый поступок типа «А, провались все к черту»! Импульс интенсивный, но короткий во времени. Быстро переходит в растерянность. Дальнейшие прогнозы: сожаление о содеянном, робость и пассивное раскаяние. Рефлексия. Угрызения совести. Пожалуй, все… – Она говорила с откровенным удовольствием. И кокетливо морщилась при этом. Предавать, оказывается, можно и с удовольствием. Очень трогательно. – Сука! – сказал я. Нуприенок, появившийся из ацетиленового тумана, одобрительно похлопал ее по заду: Молодец, Ерголина. Ты определенно растешь. – Потянулся всем телом и отломил нижний лепесток заусеницы – принялся хрустко жевать, словно капустный лист. Кожаные ремни на его мундире поскрипывали. Было чрезвычайноплохо. Лида, вытянув руки по швам и торжественно окаменев, отрапортовала в пространство: Это что за Бармалей лезет там на Мавзолей? Брови черные, густые, речи длинные, пустые. Кто даст правильный ответ, тот получит десять лет! – После чего присела на заусеницу, и Нуприенок приветливо погладил ее по голове: Хорошая девочка… – Вдруг неторопливо повел щепотью – с переносицы на затылок, как бы расстегивая молнию. Голова у Лиды начала разваливаться на две половины, сминая глазницы, а из щели выперли серые живые дымящиеся извилины. Слабые искорки мерцали на них. Лида при этом глуповато почесывалась и сияла во весь рот. Левое колено непроизвольно подпрыгивало. Волосы свисали мочалками. – Что вы делаете?!.. – закричал я. Она пожаловалась: Не люблю щекотку. – Я не мог пошевелиться. Нуприенок разглаживал парную массу, нагибался и всматривался, быстро отщипывая изнутри крохотные зеленоватые кусочки: Вот так, так… А теперь – вот так… Будешь всегда послушная… Будешь ходить на цыпочках… – Искры угасали одна за другой. Он старательно облизывал пальцы. Морда у него побагровела от наслаждения. Ноготь вдруг чавкнул по мякоти роговым и, как помешанный, заорал: Рррудники мои-и-и серебряные-е-е!!!.. – Неизбежная коррекция продолжалась. – Заложите его в сейф, – приказал кто-то со стороны. Меня тут же подняли. Кажется, я был пристегнут к сиденью. Опрокинулась тысячесвечовая лампа, и крутанулся штурвал, какой бывает на хранилищах в банке. Завизжали металлические петли. Полированная теснота надавила со всех сторон. Внутри не было ни капли воздуха. Гулко клацнул замок. Я сползал, обессиленный, по горячей броне. Жить мне оставалось четыре мгновения. Сейф качнулся неразъемностью монолита и отчетливо завибрировал, опускаясь на нижний ярус. Колени мои упирались в противоположную стенку. Она почему-то лязгнула и отошла. Я мешком повалился наружу.
Фаина, белея открытым платьем, голыми руками и пирамидальной седой прической, сделанной специально для банкета, очень ловко подхватила меня:
– Расхождение в полтора часа. На бюро – скандал. Саламасов топал ногами. Начинается изъятие. Проскрипционные списки утверждены. Горком дал санкцию. Вынуто уже девяносто человек. Все – пройдут через подвалы. В Дровяном сегодня танцевали демоны, и на Огородах распускается чертополох. Ходят слухи о воцарении Младенца. Апкиш – совсем зеленый. Объявили боевую готовность в казармах… – И не спрашивая ни о чем, ни секунды не колеблясь, повлекла по невидимым ступенькам – сначала вниз, через хозяйственные тупички, уставленные забытой мебелью, а потом – вверх, к длинным пластмассовым загогулинам, которые освещали пустынный коридор, наполненный ковровой тишиною и глянцевым неспокойным блеском дверей. – Завтра ты уедешь, я тебя положу в «семерке», света, пожалуйста, не зажигай, я тебя разбужу в шесть утра…
Повернулся щелкнувший ключ, и я увидел негатив окна, отпечатавшийся серебром на шторах. В номере было темно и накурено. Проступала белизна подушек. Приглушенная музыка обтекала потолок. Колотили где-то в отдалении молотком по батарее, и хрипела на разные голоса засорившаяся канализация. Камарилья гуляла. Я схватил Фаину за теплые локти:
– Мы уйдем отсюда вместе. Поклянись!
Но Фаина резко освободилась:
– Главное, запомни: ничегонепроисходит. Что бы ни случилось: с тобой ничегонепроисходит. Саламасов пьет, как лошадь, – вот, что происходит. Набуровит стакан водки – хлоп! Набуровит второй стакан – хлоп! Через час уже скрежещет зубами, мучается. Страшно. Глаза – раздавленные. Думаешь, легко было извлечь тебя оттуда? Просишь, просишь – как в камень. Мычание. Кажется, он уже ничего не решает. Только пьет. И не хочет ничего решать. И не может решать. От него мертвечиной попахивает. Говорит, что придут скоро Трое в Белых Одеждах, они и решат: сожгут город, разрушат – закопают нас всех живьем. Говорит: это – сведения из ЦК. Не желаю в землю!.. – У Фаины размотались отбеленные локоны на висках. Она нетерпеливо топнула. – Ну что ты там, дядя? Заснул? – И не дожидаясь ответа, на одном дыхании проговорила утвержденный текст: Черт его знает, вылетело из головы, это – «тягач», приехал сегодня, вроде бы вполне приемлемый, зомби – конечно, чокнутый, скажешь ему, что это – временно, и поменьше всяких разговоров, хотя – наплевать! – Быстро чмокнула меня в нос, особенно не разбирая. – Ну, теперь мне пора, время, как бы они не спохватились…
Простучали каблучки, и опять повернулся ключ. Но это было еще не все. Потому что едва затворилась дверь, как прокуренный низкий голос из темноты поинтересовался:
– Сосед?
– Сосед, – ответил я.
– Вот какая история, сосед, – вяло сказали из темноты. – Жил-был Дурак Ушастый. Ну, он был не совсем дурак, а просто очень наивный человек. И этот Дурак Ушастый делал одно важное Дело. Это было очень серьезное и очень нужное Дело, и его надо было сделать как можно скорее. Вся страна ждала, когда будет сделано это Дело. И Дурак Ушастый очень старался. Он прокладывал дороги и он расчищал пустыри, он закладывал фундаменты и он тянул многокилометровые трубы, он взрывал котлованы и он бетонировал их. И Дело двигалось очень быстро. Даже быстрее, чем ожидали. И Дурака Ушастого постоянно хвалили за это, его ставили в пример и о нем писали в газетах. И вот однажды к этому Дураку Ушастому пришел один человек. А это был очень простой и очень незаметный Человек. И он работал в очень простой и очень незаметной организации. И вот этот простой Человек сказал Дураку Ушастому, что какие-то там жучки погибли из-за этого Дела. И какие-то червячки тоже погибли из-за этого Дела. И какая-то там лягушка с красивыми перепонками перестала метать икру. И, представьте, все – из-за этого самого Дела. И что так дальше нельзя. Потому что засохнут какие-то там травинки, и не будут летать бабочки на лужайках. И тогда всем будет плохо. В общем, чушь он сказал. Ерунду. И Дурак Ушастый даже слушать его не стал. Он делал серьезное Дело, и ему некогда было думать о жучках с перепонками. Но простой Человек был, оказывается, не совсем простой человек. Он был очень упорный и очень настойчивый человек. И он стал писать письма во все Инстанции. И он начал громко требовать и предупреждать. И Дураку Ушастому это, естественно, не понравилось. Потому что теперь ему пришлось отвечать на какие-то вопросы. И ему пришлось давать какие-то объяснения. И ему даже пришлось кое-что менять в своей работе, что затягивало окончание Дела. Главное, что он не видел в этом никакого смысла. Только чушь. Бабочки, жучки. И тогда он раздавил этого простого Человека. Он позвонил кудаследует, и были приняты меры. А потом он еще раз позвонил кудаследует, и опять были приняты меры. Собственно, ему и делать ничего не пришлось. Все получилось само собой. А Большой Начальник неизменно поддерживал и одобрял его. Потому что все это – ради Дела. И вот Дело, наконец, было сделано. Было сделано грандиозное великое Дело. И были речи на пленумах, и были огромные передовицы, и были сияющие золотые ордена. И Дурака Ушастого опять хвалили и даже назначили заместителем к Большому Начальнику. И Дурак Ушастый был этим чрезвычайно доволен, потому что теперь он мог работать еще лучше. Но однажды он вдруг вспомнил о простом Человеке, который когда-то приходил к нему. И вдруг оказалось, что этот простой Человек умер. Он был очень простой и очень незаметный Человек. И он был слабый Человек. И когда его раздавили, то он просто умер. Он был очень простой и очень незаметный Человек. И тогда Дурака Ушастого что-то царапнуло по сердцу…
Я стащил пиджак и повесил его на спинку стула. Все возвращается на круги свои. Первый удар курантов – полночь. А последний удар курантов – утро. Между ними – беспамятство. Пустолетье. Провалы. Шелестящие крылья Хроноса. Что происходит, когда ничего не происходит? – Ничего не происходит. Почему ничего не происходит? – Потому что – Безвременье. И какой же тогда выход? – А выхода просто нет. Просто нет никакого выхода. Я вздохнул и повалился на горячие подушки. Мне было чрезвычайно не по себе. Сосед рассказывал абсолютно без интонаций, на одной колеблющейся горловой ноте. Так рассказывают на поминках. Я был рад, что не вижу его в темноте. В самом деле – «тягач». Я уже слышал эту историю вчера. И позавчера я тоже ее слышал. Я знал, что сейчас он спросит, не заснул ли я?.. И сосед, какположено, спросил: Вы не спите? – Нет, – какположено, ответил я… Ничего не происходило. Надрывалась луна. Круговорот замкнулся. Что у нас позади? – Диктатура. Коррекция. Постепенное сползание к слому. Что у нас впереди? – Диктатура. Коррекция. Постепенное сползание к слому. Будет ли когда-нибудь иначе? – Нет, иначе никогда не будет. Почему не будет иначе? – Потому что это никому не нужно. – Я вас слушаю, слушаю! – безнадежно сказал я. Наступала полночь. Растрескивалась земля. Шелестела бумага. Демоны выползали из подземелий. Умирал под наркозом редактор. Пробуждались насекомые. Плакала в одиночестве Старуха. Гулливер вышагивал по дороге босыми исцарапанными ногами. Ничего не происходило. Я лежал в темноте, открыв глаза, и безропотно ждал, когда разгорится над нами красноперая Живая Звезда…








