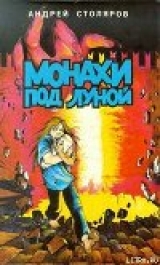
Текст книги "Монахи под луной"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
3. НОЧЬЮ НА ПЛОЩАДИ
Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья, пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми зачерченными по краю страницами, клетчатая рубаха на груди лопнула, штанины легко задрались, обнажив бледную немочь ног, он еще дышал – трепетала слизистая полоска глаза. Я нагнулся и зачем-то потрогал его лоб, тут же отдернув пальцы, пронзенные мокрым холодом.
– Циннобер, Циннобер, Цахес… – сказал редактор.
Это был приговор.
Карась, опустившийся на корточки с другой стороны, растерянно почмокал и сказал еле слышно:
– Умрет, наверное, – а потом, быстро оглянувшись, добавил. – Тебе бы лучше уйти отсюда. Не надо, чтобы тебя здесь видели.
Он был прав.
Уже зашептались у меня над головой, уже зашелестели возбужденными голосами: Слышу – звон, удар, я выбежал… Это же Черкашин… Боже мой, тот самый?.. Ну, конечно… Ах, вот оно что… Ну а вы как думали… Тогда понятно… Расступитесь, расступитесь, граждане!.. Да пропустите же!.. – Знакомый, энергичный сержант, разделяя толпу, уже проталкивался ко мне, доставая на ходу блокнот. Честно говоря, я не ожидал, что сержант появится так быстро. Честно говоря, не ожидал. Я отчетливо понимал, что теперь – моя очередь. Железный капкан захлопнулся, я погиб. Неужели меня обвинят в убийстве? Невероятно. Но они способны на все! Хронос! Хронос! Ковчег! У меня оборвалось сердце. Но в это время дверь рабочей подсобки, совершенно неразличимая в темноте, распахнулась, и Фаина, светлея протяжным воздушным платьем, голыми руками и пирамидальной седой прической, сделанной специально для банкета, быстро и негромко прошипела мне:
– Иди-иди сюда! Что ты здесь торчишь, как дерево на автостраде! – А видя, что я даже не шелохнулся, окостенев в отчаянии, резко, без лишних слов втащила меня в удушливый закуток под лестницей и прижала к стене, нестерпимо обдав духами. – Послушай! Не валяй дурака! Они только этого и хотят. Они пропустят тебя через «мясорубку» или сделают тебе «компот», – будешь заикаться, как недоразвитый…
У меня не оставалось выхода.
– Завтра мне надо подняться в шесть утра. Поклянись! – безнадежно сказал я.
– Ну, конечно, конечно! – И Фаина, больше не спрашивая, не уговаривая, повлекла меня по невидимым ступенькам – сначала вниз, через подвальные переходы, уставленные забытой мебелью, а потом вверх – к длинным пластмассовым загогулинам, которые освещали пустынный коридор, наполненный ковровой тишиною и глянцевым неспокойным блеском дверей. – Я положу тебя в «семерке», ради бога, не высовывайся оттуда, это всего на одну ночь, полнолуние, царство призраков, я, пожалуй, запру тебя снаружи, так надежнее, я уверена, что тебе там понравится…
Щелкнул выключатель в номере, и разлохмаченная тугая девица, как подброшенная, вскочила с низенького дивана, где валялись журналы: Добрый вечер… – Я нисколько не удивился. Девица была рослая, молодая, симпатичная, складчатая юбка на ней едва прикрывала бедра, а глубокий вырез, доходящий до пояса, оголял молочные полукруги высокой и твердой груди. В общем, – то, что требуется. Она довольно робко улыбнулась и спросила: Мне раздеться?.. – почему-то вдруг густо покраснев. Я и не подумал отвечать. Фаина куда-то исчезла. Рыхлое пузатое кресло, подминаясь, вместило меня. Номер был очень тесный, в полированном столике между нами отражалось печенье и янтарная винтовая бутылка вина. Кажется, уже початая. Вероятно, девица прикладывалась для бодрости. Где-то я ее видел. Она расстегнула одну широкую пуговицу, затем вторую, а потом, снова покраснев, нерешительно потащила платье через голову, оставаясь в ажурном лифчике и узеньких пляжных трусах, которые лепестком белизны выделялись на смуглом теле: Так, наверное, лучше, не правда ли? – Она изо всех сил старалась держаться непринужденно, однако горячая пунцовая краска заливала ее лицо, полыхали щеки и рубиновыми капельками разгорались отвисающие мочки на ушах. Видимо, она работала в первый раз. Здоровенная полуголая дура с мозгами курицы. Захотела веселых денег. Я ее видел на почте. У нее было идиотское имя – Надин. Будто у кошки. Я налил полстакана вина и толкнул его через стол: Закройся! – Девица хлопнула портвейн, как лимонад: Возьмите, возьмите меня… – изогнулась, приподнимая пальцами тяжелые груди… Я прекрасно понимал, что все это означает. Это означает полночь.
И действительно, в ту же минуту вторая девица, одетая столь же незатейливо, но – поджарая, плоская, с вытравленными льняными волосами – хрипло расхохоталась: Дура ты, дура, дура набитая! Вот смотри, как это делают нормальные люди, – и проворно обняла меня, жарко прильнув к щеке: я все умею… я очень хорошо умею… ты только не мешай мне… я все умею… – а поскольку данное сообщение не поразило меня до глубины души, то она откинулась на ручке кресла, – ровная, как доска, – и деловито, с пониманием, покивала сверху: Ладно. Я знаю, что тебе требуется. Сначала небольшая разминка для подогрева. Ладно. Давай выпорем Надьку. Она молодая, ей полезно. Стащим с нее штаны, разложим здесь, на диване, и отхлещем ремнем по гладкой заднице. Пусть орет… Не хочешь? Ну, тогда сыгранем в «бисквит»: Надька под тобою, а я сверху, чтоб было не скучно. Три-четыре оборота, – покувыркаемся… Или давай изнасилуем ее, по очереди, ты и я, это будет забавно… А то пошли в ванную, мы тебе устроим «турецкий барабан». Ты, наверное, никогда не пробовал «турецкий барабан». Отличная это штука – если забарабанить по-настоящему!.. – Девица буквально елозила по мне, чуть ли не процарапывая мне лицо отвердевшими острыми сосками. Щекотали сухие волосы. Я ее отстранял – жестко, но вежливо – мне еще надо было продержаться до утра. Мягкий свет от торшера разбрызгивал зеленоватые блики по стенам, слабо подрагивал потолок, камарилья гудела, и приглушенная близкая музыка, обволакивая, виток за витком, наматывала на меня утомительный и сладострастный щебечущий женский голос.
Между тем, это был уже совсем другой номер. Я и не заметил, когда мы переместились. Впрочем, неважно. Полночь. Шуршание. Время голодной охоты. Третья девица, совершенно голая, могучая, будто африканский слон, свободно расположила свои широкие телеса напротив меня и смолила, смолила ядовитый «беломор», цепко придерживая мундштук ярко-кровавыми заманикюренными ногтями. – Имей в виду, братец, тебе все равно придется участвовать, хочешь ты или не хочешь, – равнодушно сообщила она, давя меня взглядом. Я качнул головой: Навряд ли. – Однако, упрямый ты, братец… – Существуют законные основания, существует сюжет, – сухо возразил я. – А ты чтишь законы? – спросила девица. – Чту, – ответил я. – Тогда тем более, – сказала девица. – В моем сценарии такого эпизода нет, – объяснил я. И девица подняла мохнатые брови. – Откуда ты знаешь? – Я помню, – сказал я. Тут она сложила губы в толстую трубку и присвистнула, как гудок. Видно, разочаровавшись. – Ну знаешь ли, братец, я тебе не советую в таких случаях полагаться на память. – Почему это? – спросил я. – Будет очень плохо. – А все-таки? – Ну, я точно не знаю, – серьезно ответила девица, – может быть, сожрет Младенец, откусит голову, а может быть, Железная Дева выберет тебя в мужья. Или сграбастает Мухолов – своими крючьями. Что-то обязательно случится. Круговорот. Ты же не маленький: охранной грамоты у тебя нет, попадешь в подвалы, оттуда не выкарабкаться. – Девица подняла надутую белую кисть и жирно щелкнула пальцами. Две другие, танцевавшие до этого друг с другом, немедленно подскочили, с некоторым кряхтением подняли ее и осторожно перенесли на диван, опустив в удобной для любви позе. Слон-девица извергла дым приплюснутыми ноздрями: Давай-давай, братец, покажи, на что ты способен, может статься, что это – твой единственный шанс, последний, другого уже не будет. – Вероятно, она была права. Потемнел воздух, и заколебались призрачные сквозные соты гостиницы. Легкий треск растянулся в электрических проводах. Крутанулась часовая стрелка по циферблату. Я догадывался, что меня отсюда не выпустят. Хронос! Хронос! Ковчег! Фиолетовый чертик, лысый и одновременно мохнатый, размером с поросенка, проволокой держа хвост, выбежал на четвереньках из темного угла и чрезвычайно ловко цапнул печенье в вазочке, залихватски подмигнув мне: Не робей, Вася, пробьемся!.. – Он жевал, оттопыривая розовые защечные мешочки. Плоская девица, поджав ноги, с омерзением обернулась на него: Хулиганье! Распустились! Не дадут культурно отдохнуть после работы! – Кажется, я никому не мешаю, – с вежливым достоинством ответил чертик. Но девица демонстративно зажала пальцами нос: Пошел вон, скотина!.. – Тогда чертик как-то очень ненавязчиво приблизился к ней, присмотрелся, вращая рыжие, огненные зрачки, и неожиданно укусил за локоть – снизу, прилипнув на мгновение. – А-а-а!.. – будто недорезанная, завопила девица. А чертик отскочил и поклонился, как маэстро на сцене: Будь здорова, не кашляй! – Я очнулся. И Фаина, внезапно вынырнувшая из небытия, встала между ними, оглушительно хлопнув в ладони:
– Все! Все! Закончили!..
Свет погас, и в темноте опустевшего номера я увидел черный патриарший крест, отпечатавшийся изнутри на шторах. Луна сияла, как ненормальная.
Вариация истекла.
– А ты не боишься постареть? – с внезапным интересом спросил я.
У Фаины размотались отбеленные локоны на висках:
– Глупый, глупый, я ведь каждый день занимаюсь одним и тем же. И мне это нравится. Ну, – садись, подвинься сюда, не стесняйся, право – какой ты… – Она разгладила морщины на покрывале и вдруг неумолимо опрокинула меня назад – загудели тугие пружины – жадно поцеловала куда-то в шею, навалилась, чмокнула, я едва успел отвернуться. Щелкнула, вылетая, пуговица на платье, и душистый телесный жар хлынул мне прямо в лицо. Переплелись борющиеся руки. Съехало полотенце со спинки. Фаина коротко и сильно простонала. От нее припахивало легким вином. Глаза привыкали, и я хорошо видел над собою полное энергичное уверенное лицо с раздвинутыми губами, сквозь которые белела яркая наклейка зубов.
– Ничего сейчас не могу, – соврал я, против воли вдыхая у ключиц сладкую медовую кожу. – Ничего не получится, прости, я совсем не могу сейчас…
– Ну и дурак! – насмешливо ответила Фаина. – Я же чувствую, что ты можешь. Между прочим, это было бы самое безопасное для тебя. – Она прижималась тяжелыми нетерпеливыми бедрами. – Думаешь, Лидка твоя сегодня тоскует одна? Ну – рассмешил. Весь город знает, как она лихо качается. Хочешь, расскажу?.. Ездили в Листвяги, это полчаса отсюда, за городом, лесной берег, я тогда была в первый раз, хотя, разумеется, догадывалась, многие уже догадывались тогда. Жора пригласил нас в бассейн, он всех новеньких приглашает в бассейн, у него на даче небольшой бассейн и холл перед ним. Сам, конечно, развалился в кресле – сигареты тебе, турецкий халат, тапочки: Раздевайтесь! – и жесты небрежные, левый глаз прищуренный. Хозяин. Саламасов. Я, было, чуток засмущалась, все-таки в первый раз, а Лидка, стерва патлатая, как ни в чем не бывало, расстегнула блузку, джинсы – медленно так стащила, не торопясь, чтобы поглядел, – стоит, понимаешь, голая, усмехается, и еще провела ладонями внутри бедер, а потом – по груди, насмотрелась порнухи. Жорик аж весь затрясся, бедный, машет мне рукой: мол, чего тянешь? Я тоже разделась, никуда не денешься, а Лидка уже идет к нему: ягодицами – туда-сюда, туда-сюда, Жора так и прижал ее за ягодицы…
Она вдруг вскинула красивую седую голову и замерла, тревожно прислушиваясь.
– Что случилось? – спросил я.
– Тихо! – сказала Фаина.
– Дева или Младенец? – спросил я.
– Говорят тебе: тихо!
Неожиданно чихнули в трех шагах от меня – резко, как выстрел, и звук этот переливами грома ударил посередине пустынной тишины.
Я только теперь заметил, что номер был двухкомнатный.
– Кто там?
– Извиняюсь – я, – в сонной хрипотце сказали из темноты. – Но вы можете спокойно считать, что меня здесь нет. Я вам мешать не буду.
Мне было все равно, а Фаина, уже одергивая платье и торопливо застегиваясь, прошептала мне в самое ухо:
– Черт его знает, вылетело из головы, не беспокойся, это – «тягач», приехал сегодня, поселили; вроде бы вполне приемлемый, зомби – конечно; скажешь ему, что это временно, и поменьше всяких разговоров, хотя – наплевать!
– Она быстро и твердо поцеловала меня – в подбородок, особенно не разбирая.
– Ну, теперь мне пора, время, как бы они не спохватились…
Я рухнул обратно на диван и поправил подушку, обшитую слипшимися кистями. От подушки разило дезинфекцией. Доносилась с потолка бодрая танцевальная музыка. Я кошмарно устал, жизнь кончалась, замирало сердце в груди, кровь еле-еле текла по опавшим венам, но каким-то краешком сознания, какой-то темной и загадочной глубиной его я смутно помнил, что это еще не все, и действительно, едва дверь затворилась за Фаиной, как низкий натруженный голос из проема между комнатами скупо поинтересовался:
– Сосед?
– Сосед, – ответил я.
– Вот какая история, сосед, – вяло сказали из темноты. – Жил-был Дурак Ушастый. Ну, он был не совсем дурак, а просто очень наивный человек. И вот как-то раз этого Дурака Ушастого вызвали к одному начальнику, а это был очень Большой Начальник, и он прослышал, что Дурак Ушастый умеет работать, как здоровая лошадь на борозде. И вот Большой Начальник сказал этому Дураку Ушастому, что поручает ему одно важное Дело. Дескать, это очень серьезное Дело, и очень нужное Дело, и его надо сделать как можно скорее, потому что вся страна ждет, когда будет сделано это Дело. Так Большой Начальник сказал Дураку Ушастому. И Дурак Ушастый взялся за это Дело. Он очень любил работать, и он умел работать, и он работал, как здоровая лошадь на борозде – изо дня в день, из года в год. Он прокладывал дороги и он расчищал пустыри, он взрывал огромные котлованы и он упорно их бетонировал, он закладывал фундаменты и он возводил цеха, он протягивал к ним издалека многокилометровые трубы. А затем он протягивал многокилометровые трубы – от них. И он опять расчищал, и он опять бетонировал. Он совсем не жалел себя. Он не спал ночей. Потому что он любил свое Дело. И Дело двигалось очень быстро, гораздо быстрее, чем его планировали. И Дурака Ушастого постоянно хвалили за это, его награждали орденами и о нем писали в газетах. И Дураку Ушастому это ужасно нравилось. Он любил, чтобы его хвалили, и он хотел, чтобы его хвалили, и поэтому он старался еще больше. И вот однажды к Дураку Ушастому пришел один человек. А это был очень незаметный и очень простой Человек. И он работал в очень незаметной и очень простой организации. И вот этот незаметный простой человек говорит Дураку Ушастому…
Я стащил пиджак и повесил его на спинку стула. Наваливалась беспросветная ночь. Сосед рассказывал абсолютно без интонаций, на одной колеблющейся горловой ноте. Так рассказывают на поминках. Я был рад, что не вижу его в темноте. В самом деле – «тягач». Я вчера уже слышал эту историю. И позавчера, конечно, я тоже слышал ее. Вероятно, я слышал ее уже не один десяток раз. Это – не «гусиная память». Я знал, что сейчас он спросит – не заснул ли я? И сосед немедленно спросил: Вы не спите? – Нет, – ответил я. Мне нельзя было спать. Черный патриарший крест отпечатался изнутри на шторах. Распахнулся мозг. Я слышал, как скребутся хлесткие крапивные ветви за окном, как, причмокивая, ползут по стеблям вверх тихие неутомимые гусеницы, как шипит, догорая, на площади, живая Звезда, как скрежещут жужелицы ядовитыми челюстями, как сопят бессонные короеды, как трещат тяжелыми крыльями рогатые неповоротливые жуки, через силу поднимаясь из мелкотравья. Мне нельзя было спать. Пробуждался великий Хронос, и тупая безглазая нечисть, облепив сферу мрака, целой армией настороженно караулила меня. – Я слушаю, слушаю вас! – сказал я в отчаянии. Мне ни в коем случае нельзя было спать. Наступала полночь, хрипел механизм часов, умирал под наркозом редактор, плакала в одиночестве старуха, мощные горячие волны времени опускались на город, шевелился и расцветал бледный чертополох, скрипели деревянные мостовые, сияла над улицами жидкая ледяная луна, призраки выходили на охоту, и я знал, что уже ничто в мире не может сегодня измениться и хотя бы на половину секунды задержать тягучий, засасывающий меня круговорот.
4. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
Потемнело небо, и солнце будто присыпали золой. Дыбом встали пропыленные горбатые тротуары. В остролистых тенях крапивы, в духоте и в жалах из мутного стекла захрипело озверевшее комарье. На завод меня просто не пустили. Вахтер сказал: Не положено. – Звякнула педаль, и на полметра от пола выдвинулся никелированный стопор турникета. Я нагнулся к окошечку. В ближайшие пять минут выяснилось, что не положено проходить на территорию завода без соответствующих документов – которых у меня не было, не положено вызывать кого-либо из персонала завода к проходной – потому что не положено, не положено звонить начальству по местному телефону – начальство само позвонит, если надо, не положено отвлекать человека (вахтера), дни и ночи находящегося при исполнении служебных обязанностей, а также вообще не положено ничего вынюхивать здесь, потому что объект секретный: тута производят корпуса для наших ракет средней дальности, их делают из древесно-стружечных материалов и покрывают дегтярным лаком – это есть государственная тайна. Вахтер страшно волновался. Он даже отставил помятую жестяную кружку с чаем и, сдвигая на затылок фуражку, прикрепленную ремешком, наполовину высунулся из этого тесного окошечка. Щеки его побагровели: Отойди на пять метров!.. Отойди, кому говорят!.. Отойди, стрелять буду!.. – Было ясно, что его предупредили. Передо мной вырастала стена. Папка с документами жгла мне руки. Я вернулся на улицу, где с обеих сторон тянулся глухой, крашенный в зеленое, облупившийся, бесконечный забор с накрученной поверху колючей проволокой. За забором что-то завывало, что-то громоздко бухало, раздиралось какое-то нездоровое железо, что-то сотрясалось, что-то пучилось, что-то раскалывалось на мелкие кусочки, отчетливо слышалась пулеметная стрельба и доносились жуткие предсмертные вопли, словно агонизировал тиранозавр, а из низких и частых труб, едва возвышающихся над ограждением, уминая клубами эту несусветную какофонию, выползал рыжий, очень плотный, химический дым с неприятным аптечным запахом. Мне хотелось завыть, как бездомному псу, и упасть на землю. Передо мной действительно вырастала стена. Одна из досок в заборе отодвинулась, и унылая харя, моргнув на меня целым скопищем небритых морщин, спокойно изрекла: Никого здесь нету! – мужик в обгорелой тельняшке выбрался через щель и, бренча трехлитровым алюминиевым бидоном, придерживая за пояс ватные штаны, припустил наискосок к незаметному безымянному переулку.
Значит, и в стене бывают трещины. Я немедленно протиснулся в отодвинутые доски. Мне уже было все равно. По другую сторону забора четверо работяг, насквозь промасленные, черные, будто сделанные из металла, качаясь вперед и назад, словно заведенные, пилили ножовками суровое чугунное бревно, толщиною сантиметров в семьдесят, уложенное на козлы и окольцованное аккуратными сварочными швами. Я спросил, где найти Кусакова из третьего цеха? Работяги сначала закурили, а потом неприветливо объяснили мне, что никакого Кусакова они не знают. Еще им не хватало – знать Кусакова. Имели они этого Кусакова в гробу. Пусть он накроется тем-то и тем-то. Что же касается третьего цеха, то – вон видишь тую железную дуру, которая торчит, как лябый шпох, вот хромай до нее, все прямо, прямо – не ошибешься. Я похромал, перелезая через кладбища окочурившихся механизмов. Неприятной глубокой чернотой блестели ямы, наполненные мазутом. Рыжий дым бултыхался разодранными клубами. Рядом с дурой, в самом деле торчавшей, как лябый шпох, четверо точно таких же работяг, поснимав спецы, принимали с электрокара отпиленные метровые болванки и на «раз-два» бросали их в земляной чан, где кипело неаппетитное густое варево, – тупо смотрели вслед, а потом задумчиво и серьезно сплевывали туда же. Над ними простирался матерчатый лозунг: «Пять в четыре, в три, в два, в один. Ноль!» Никакого Кусакова они, конечно, не знали. Третий цех, разумеется, здесь никогда не находился. Здесь был второй участок первого цеха. Или первый участок второго. Мнения по этому вопросу разделились. Но раньше здесь был отдел снабжения. Он потом сгорел. Что ты путаешь, елы -палы? Не отдел снабжения, а отдел сбыта. И не сгорел, а построили. Ничего не путаю, елы-палы, – отдел снабжения. И не построили, а сгорел. Чумиченко налил себе стакан бензина вместо этого. Помнишь Чумиченко? Елы-палы, лысый такой и кривой? А во рту у него была папироса. Мы же вместе с ним тогда загремели. Во всяком случае, никакого третьего цеха на заводе нет. Это точно. А если и есть, то, наверное, около вон той кирпичной штуковины. Видишь? Которая дымит? Вот, хромай туда, все прямо, прямо – не ошибешься.
До кирпичной штуковины, представляющей собою параллелепипед с надписью – «администрация», но почему-то без дверей, без окон и цедящей мазутный дым из-под крыши, было метров пятьсот. Вываренные тусклые болванки штабелем возвышались с торца от нее, и все те же четверо неутомимых работяг, предварительно зачистив поверхность, красили их в немаркий зеленый цвет. Пятый же мужик, новый для меня, сидя на корточках и высовывая от старания язык, тщательно выводил по трафарету нечто оранжевое и загадочное: «ПБДСМ – ОРЖ – 184, 963, 75 (Щ)». И молоденькая учетчица, шмыгая малиновым распухшим носом, записывала результат в тетрадку. Вероятно, продукция тут сдавалась с первого предъявления. Вероятно – рабочая гарантия. О третьем цехе они сроду не слыхивали. По их словам, это вообще был не завод, а фабрика металлоконструкций – районного объединения «Сельхозтехника». А завод располагался на противоположном конце города. Надо ехать автобусом, остановка – «Секретный объект». Они убеждали меня в этом минут пятнадцать, достаточно горячо, и, видимо, убедили бы непременно, если бы я своими глазами не читал табличку при входе. В конце концов, согласились, что третий цех, скорее всего, находится позади старого заводоуправления, в узком тупичке. Правда, где находится само старое заводоуправление, никто из них толком не представлял. Это знал некто Сема, он туда ходил целых два раза, но, к сожалению, Сема еще в прошлый четверг отлучился на пять секунд – за книгой, и с тех пор его больше не видели. Так что лучше обратиться в ОКБ, у них есть планы и схемы, начиная с тринадцатого года. С ОКБ все гораздо проще: вон-вон там. Видишь мачту на растяжках? Которая шатается? Ну, – сейчас шандарахнет? Все прямо, прямо – не ошибешься.
Я видел мачту на растяжках. Которая – шандарахнет. До нее было километра полтора. Тропинка вилась между гигантских карьеров, засыпанных проржавевшим металлоломом и резиновой склизкой трухой, – справа от меня поднимались омыленные груды шлаков, а слева простиралась небольшая безжизненная равнина, сплошь изрытая бурлящими озерцами, над которыми завивался в косички белый кислотный пар. Было похоже, что на заводе произошла какая-то катастрофа. Причем недавно. Кое-что еще продолжало гореть. Я старался дышать как можно реже. В горле остро и сухо першило. Передо мною опять вырастала невидимая стена. Чрево завода было необъятно, и я вдруг до озноба, умывшего сердце, испугался, что иду по этому кругу уже десятый раз, а буду ходить еще и сотый, и тысячный – всю оставшуюся жизнь. Я даже поскользнулся, внезапно прозрев. Четкие мужские следы отпечатались на коричневой размытости глины. Человек проходил здесь недавно, может быть, час назад, направлялся он в ту же сторону, что и я, у него был мой размер обуви и он также, как и я, поскользнулся на мокрой осыпи, чуть не съехав в карьер. Неужели такое возможно? Это называется – «включиться в круговорот». Кто-то мне рассказывал на днях. Кто-то определенно рассказывал. Не помню. Я присел, холодея, и потрогал липкое вдавление каблука. Глина была сырая, палец защипало кислотой. У меня возникло сильнейшее желание повернуть обратно. Редкие блистающие облака стояли на горизонте.
Такое было возможно. За растяжками мачты, образовывавшими ветровой шатер, уже знакомая мне четверка работяг (в данном случае их было трое) паклей, тряпками и крупнозернистой матерчатой шкуркой ожесточенно сдирала свежую краску с привезенных болванок, окунала их в солярку, катала по рыхлой земле, лупила наотмашь молотками, царапала, пачкала, надковыривала и обкладывала со всех сторон газетами, поджигая, чтобы как следует закоптить. Честно говоря, я и ожидал чего-то подобного. Полыхал ярко-огненный лозунг: «Экономика должна быть экономной». Все они были из третьего цеха, но Кусакова, естественно, не знали. Впрочем, друг друга по фамилиям они не знали тоже. И вообще, они были чрезвычайно заняты, потому что прибежал давешний мужик с бидоном, и теперь они сугубо осторожно доливали в пиво какую-то бесцветную хрустальную жидкость, стараясь не потерять ни капли. – Клади рупь, начальник, и присоединяйся, – по-товарищески предложили мне. Я отказался. Тогда мужик в тельняшке, притаранивший бидон, немного отхлебнув, заявил, что вообще-то Кусаков лично ему очень хорошо известен: собственно, он и есть Кусаков. В доказательство мужик потряс бледной квитанцией из вытрезвителя, которая действительно была выписана на имя Кусакова Е.И. Что же, я свою фамилию не помню? Я свою фамилию помню отлично! Он спрятал квитанцию. И никакого второго Кусакова на заводе нет. Можешь проверить. А если и есть, то разве что в шестой бригаде. Там, вроде бы, ходит один – потертый. Фамилия у него, правда, другая, но очень похож. А шестая бригада – вона, где крутится. Видишь хреновину? Все прямо, прямо… А закурить у тебя не найдется? Не куришь? Странный человек: подходишь к мастеру и не куришь. Я пожал ему руку (все-таки это был Кусаков) и, едва переставляя подошвы, побрел к растопыренной хреновине, лениво вращающей на своей вершине деревянный пропеллер с обгрызенными концами, – в набегающей тени его громко шипел ацетилен и разбрызгивались желтизной продолговатые металлические искры. Происходила сварка. Судя по небывалой сноровке, здесь фурычила бригада шабашников. Говорить со мной они не пожелали и замахали руками куда-то в сторону пустыря. Я готов был сдаться. Но на пустыре, недалеко от щели в заборе, через которую я пролез, четверо первоначальных работяг, насквозь промасленные, черные, будто сделанные из железа, качаясь вперед и назад, словно заведенные, пилили суровое чугунное бревно – точно по сизым сварочным швам. Круг замкнулся. Оказалось, что третий цех находится именно здесь. Видимо. Наверное. Может быть. И Кусаков, настоящий Кусаков – разгибаясь, протирая затрепанной ветошью руки – нерешительно шагнул мне навстречу:
– Извините, я сейчас не могу разговаривать с вами…
У него был острый жалкий кадык на цыплячьей шее, вогнутое лицо и стеклянные, пустые, безо всякого дна глаза, – точно в иной мир. Где-то я уже видел такую галактическую пустоту. Трое его напарников переглянулись и один за другим торопливо исчезли в дыре за досками.
Кусаков зажмурился.
– Его пустили на мыло, – очень медленно сообщил он. – Получилось душистое розовое мыло. Вывели ночью, была травяная тишь, надрывались кузнечики, развели костер под чаном, налили щелочной раствор, кто-то запел колыбельную, кого-то поцеловали, их было девять человек, – плакала голубая ива, и звезда, просияв, отразилась в омуте. Говорят, что грачи после этого трое суток метались, как оглашенные, вы не слышали? – Он открыл глаза, посмотрев удивительно трезво и сердито. – Перестаньте сюда ходить. Не нужно. Я никогда не был знаком с Женей Корецким и никогда не бывал у него дома на улице Апрельских Тезисов, квартира одиннадцать. И жену его, Виолетту, я тоже не знаю…
Мелкие катышки желваков передвигались у него на скулах, трепетали, сужаясь, ресницы. Все было ясно. Я собирался сегодня отыскать Постникова, Идельмана, Тялло Венника и гражданку Бехтину Любовь Алексеевну. А также некоего Б. Бывший следователь Мешков тоже стоял у меня в плане. Но теперь можно было не утруждаться. Обо всех уже позаботились. Прочная и невидимая, непреодолимая для человека стена отгораживала меня от людей. Имя ей было: время. Я вдруг почувствовал свою совершеннейшую беспомощность. Вахтер в телогрейке, наполовину высунувшись из проходной, отчаянно и тревожно замахал мне фуражкой: Скорее! Скорее! К телефону!.. – Меня?! – изумленно переспросил я. – Вас! Вас! Немедленно!.. – Столько испуга звучало в его голосе, что я невольно побежал, – трубка лежала рядом с аппаратом, и когда я, задыхаясь, поднял ее, то уверенный тонкий голос Батюты, не здороваясь, даже не называясь, равнодушной будничной скороговоркой произнес: Следует явиться к двенадцати часам, назначено заседание бюро, центральное здание, комната двадцать шесть, второй этаж, просьба не опаздывать! – и сразу же, без перерыва, запищал суетливый отбой. Я не успел вымолвить ни единого слова – так и стоял с трубкой, пока вахтер, деликатно покряхтев, не вынул ее из оцепенелых пальцев: вот мол, как бывает – лично товарищ Батюта. Его уважение ко мне значительно возросло. Он даже обмахнул табуретку – чтобы я мог присесть. Я покачал головой. Комната была низкая, тесная, на стене висели «Правила внутреннего распорядка», а под ними коробились двухпудовой грязью кирзовые сапоги. Стукал будильник. Я не понимал, откуда они узнали, что я нахожусь на заводе? Я и сам не предполагал, что пойду туда. Это был точнейший смертельный выстрел. Накрытие. Значит, я на заводе уже не в первый раз. Хронос! Хронос! Ковчег! Я подумал, что если сейчас на улице меня ждет Циркуль-Клазов, то они и в самом деле вычисляют каждый мой шаг. Каждое дыхание. У меня заныло в груди. Стрелки на будильнике показывали десять пятнадцать.
– Что с вами луч-и-лось? – странно булькая, неразборчиво спросил вахтер. Я его не слышал. Он говорил на неизвестном мне языке. Я вышел на улицу, где царила куриная бархатная пыль: Циркуль-Клазов, клетчатый, отутюженный, прислонившийся в тени на другой стороне, отклеился от забора и непринужденно тронулся вслед за мной, по-гусиному задирая штиблеты. Он шагал, как привязанный, в крупных зубах у него дымилась сигарета, и белесые дымчатые слепые очки тонтон -макута, будто крохотные зеркала, отражали небо.
Все было ясно.
Все было ясно.
Ревел умирающий тиранозавр на заводе, и перетекал через колючую проволоку рыжий тягучий дым. Вспыхнули иглы чертополоха, врассыпную бросились перепуганные воробьи.








