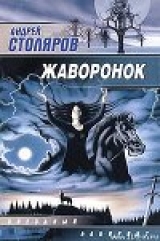
Текст книги "Жаворонок"
Автор книги: Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Андрей Столяров
ЖАВОРОНОК
1
История – великий целитель. Слабой дымкой окутывает она прошедшие годы, безболезненно и легко размывает очертания их и почти незаметно отодвигает в тот вечный сумрак, где уже ничего различить нельзя. Ночь забвения – единственная, что длится без перерывов. Невозможно ничего удержать, и, скорее всего, удерживать ничего не надо. Умение забывать помогает человечеству жить.
И все же в истории существуют моменты, будто созданные, чтобы привлечь наше внимание. Странно мерцая, приковывают они к себе взгляд и, как в гипнотическом сне, тревожат сквозь годы и даже тысячелетия. Напрягая зрение, всматриваемся мы в то, что когда-то происходило: выхватываем неожиданные детали, заново оцениваем исторических персонажей. Аромат черной древности возбуждает умы. Тайны событий, подлинные и мнимые, будоражат воображение. Что заставило орды гуннов двинуться, сметая народы, и перекроить карту Европы? Почему Ганнибал после победы при Каннах, находясь в зените могущества, не двинул войско на Рим, а бесцельно, целых четырнадцать лет бродил по Апеннинскому полуострову? И зачем Иуда Искариот предал Христа: тридцать три сребреника по тем временам не такие уж большие деньги?
Мы всегда будем думать над этими и другими вопросами. Каждое новое поколение извлекает из них свое. И нас не смущает то, что при анализе тех или иных моментов истории, мы руководствуемся не традициями и моралью эпохи, которая далека от нас, а категорическими императивами своего времени. Мы навязываем истории чуждый ей образ мыслей, мы рассматриваем дела и выносим суждения, основываясь на законах, родившихся вместе с нами. Это – диктатура будущего над прошлым, террор дня сегодняшнего по отношению к вечности. И хотя затворник с улицы Сент-Оноре утверждал в страстной речи, что террор – это всего лишь «быстрая справедливость», однако торжество такой справедливости он в конечном счете испытал на себе.
Прошлое также мстит восстанием неожиданных истин. Свет внезапного откровения сияет не только по дороге в Дамаск. Ослепленные им, как молнией, мы еще долго смаргиваем сиреневый туман в глазах, смутные надрывные пятна, оплывающую фактуру прежде ясного мира. Мы до боли таращимся, пытаясь восстановить его целостность, но когда картина предстает перед нами опять, она к нашему изумлению оказывается не такой, как раньше: благо оборачивается злодеянием, герой – преступником, а вчерашние незыблемые аксиомы – легким прахом, который хрустит под ногами. И тогда мы начинаем догадываться, что истина – грандиозна, и что правда – лишь та ее часть, которую способна вместить наша душа, и что сколько бы ни было правд, они все-таки далеки от истины, охватить которую целиком нам не удастся, видимо, никогда.
Нечто подобное происходит, по-видимому, и сейчас – с той, кого за неимением лучшего начали называть просто Дева. Фантастическая судьба ее, сверкнувшая, как метеор, отодвинувшись в прошлое, уже распадается на фрагменты. Ее разрезают на отдельные дни, часы и минуты, на отдельные жесты и фразы, на сказанное и несказанное. И, конечно, каждый из нарезающих убежден, что ему одному дано прозреть настоящую правду. И, конечно, каждый отстаивает ее в ряду других, забывая, что правда – это лишь весьма скромная часть истины. Публикаций о Жанне много, даже чрезмерно много; тема эта до сих пор актуальна и порождает страсть рыться в горячем материале, но температура живых углей, пока еще такова, что исследователи кричат и роняют обжигающие подробности. В результате большинство публикаций не имеет никакого отношения к реальной Жанне. Это либо истерические триллеры в духе известных «сестер» о пророчице, вознесенной на небо, и судящей оттуда нас, грешных, либо благостные «жития» близких к «сестрам» «иоаннитов», либо уж совсем скандальные «разоблачения», вроде тощей брошюрки некоего Курацкого «Я был мужем Жанны». Кто такой Иосиф Курацкий? Откуда он вообще взялся? Это – пена, которая закипает вокруг любого исторического катаклизма.
Основа всех спекуляций, конечно, – удручающая скудость материалов. Не сохранилось ни единой строки, начертанной рукой Жанны, ни одного письма, ни одного хоть сколько-нибудь достоверного документа. Пленки с записями того периода, были позже изъяты и, видимо, уничтожены. Мы располагаем лишь любительскими фотографиями, как правило, не очень высокого качества. Именно это, скорее всего, и дало основания Константину Магносу утверждать, что на фотографиях изображены три разные женщины; правда, одного типажа и профессионально загримированные. Автор прямо пишет, что никакой Жанны – Иоанны, Девы – не существовало, а была исключительно хорошо, видимо руками спецслужб, сработанная дезинформация, виртуальный мираж, вызванный к жизни политической необходимостью и исчезнувший так эффектно, как только цели дезинформации были достигнуты. Кстати говоря, здесь тоже брезжит какая-то особая правда.
Частности, как всегда, затмевают главное. Вполне приличная исследовательская работа В. К. Лаврова, целиком посвященная хронике того злосчастного дня, солнечного туманного утра, когда грянул трагический выстрел, фактически этим утром и завершается: растерянными «бойцами» великой «армии», низким звериным гудком местной фабрики, где сразу же узнали о происшедшем, подхватившими этот гудок пронзительными криками паровозов и огромной трепещущей в небе простыней черных птиц, сорванных какофонией звуков и плывущих в сторону Киева. Как известно, В. К. Лавров придерживается теории заговора. И однако, будучи весьма убедительным в том, что касается собственно политической подоплеки событий, опираясь на ряд свидетельств, истинно уникальных и добытых чуть ли не с риском для жизни, высказав несколько блестящих догадок о роли тех или иных людей, оставшихся за кулисами, он тем не менее не ответил на самый главный вопрос – почему? Почему все случилось именно так?
Вопрос этот до сих пор не имеет ответа. Обе наличествующие к настоящему времени монографии: Б. В. Аверин «Жанна, история» и Лариса Гарденина «Материалы к жизнеописанию Девы», несмотря на все их достоинства, страдают, к сожалению, теми же характерными недостатками. Созданные буквально по трепещущим вехам событий, по живым, посверкивающим еще каплям крови, они, тем не менее, эту кровь как будто не замечают. Оба автора, историк и литератор, вышли из университетской среды, и академическая отстраненность, по-моему, невозможная, когда свидетельствуешь о Жанне, искажает не только суть, но даже форму повествования. К тому же оба исследователя не свободны от интеллектуальных пристрастий. И потому в темпераментной «Истории» Жанны, выпущенной уже тремя тиражами и ставшей бестселлером, Б. В. Аверин трактует Деву исключительно как мессию, забывая о том человеческом, слабом, что в ней действительно было (этакое монофиситство, не слишком отличающееся от благостных повествований «иоаннитов»), а Лариса Гарденина, как и положено кандидату философских наук, будто в пику ему, избегает даже упоминаний о чем-либо таком сверхъестественном, находя в тех случаях, когда отсылки все-таки избежать нельзя, совпаденческие, чисто рациональные объяснения непонятному. Странно выглядит ее железная логика там, где исследование выходит за рамки умозрительного материализма. Автор видит фактуру, но не воспринимает смысл происшедшего. Ни Аверину, ни Гардениной так и не удалось совместить божественное и человеческое в одном образе. И достойный прискорбия результат их весьма объемных трудов воспоследовал, наверное, потому, что оба исследователя никогда непосредственно не встречались с Жанной, не слышали ее голоса, не чувствовали на себе взгляд ее ярких глаз. А без этого, по моему глубокому убеждению, любой материал о Деве бесплоден.
Я не был в Киеве в те решающие дни сентября, когда колонны манифестантов блокировали здание парламента на Крещатике. Я там не был, о чем до сих пор сожалею, и не участвовал в «великом стоянии». Зато я находился в Москве в те мокрые и солнечные одновременно дни октября, когда прибывшая из Киева специальная правительственная делегация подтвердила результаты голосования, впрочем давно уже всем известные по сообщениям прессы, и от имени граждан пока еще независимой Украины предложила знаменитый теперь «народный законопроект». Я видел, как обнимались, кричали и даже плакали люди на улицах. Как они брались за руки и шли по Тверской, по Воздвиженке, по просторному Цветному бульвару. Телевидение потом не раз прокручивало эти великолепные кадры. Все были братьями в тот необыкновенный день, все любили друг друга, и не было ни у кого ни ненависти, ни подозрений. Такое уже никогда в жизни не забывается.
И поэтому я не намерен, как принято ныне, восстанавливать некую «историческую справедливость». Я не буду никого осуждать и не жажду разоблачать какие-либо заговоры и интриги. Однако я хотел бы сказать ту правду, которую вижу именно я и которую вместе со мной, наверное, чувствуют очень и очень многие.
Может быть, я впадаю здесь в известное заблуждение. Может быть, свое личное видение этих дней я ставлю выше закономерностей объективно-исторического процесса. Но объективность истории меня сейчас не слишком волнует. Я расскажу свою правду, которая вовсе не претендует на истину. Только мне кажется почему-то, что без этой правды истина, скорее всего, будет неполной.
2
В истории любого свершения интереснее всего тот момент, когда человек, прежде живший, как все, вдруг распахивает глаза и осознает свое истинное предназначение. Робеспьер, явившийся к Жану Жаку Руссо и после беседы с ним осознавший, что мир должен быть устроен разумно и справедливо; Ференц Лист, услышавший выступление Паганини и, как выразился один из биографов, «сжегший на этом костре свое музыкальное прошлое»; Мартин Лютер, приколотивший на воротах виттенбергской Замковой церкви 95 тезисов против индульгенций. Прежде всего – это красиво. Вот – само озарение, а вот – неумолимое претворение его в жизни. Вот – зов судьбы, а вот – человек, внемлющий ему с юношеским нетерпением. Большинство подобных моментов возникают, скорее всего, задним числом, но у будущего, вероятно, есть свое право на прошлое.
И здесь нас ожидает жестокое разочарование. Ни один эпизод из ранней юности Жанны, ни один ее шаг, ни одно из считающихся достоверными тогдашних ее высказываний не свидетельствуют о «Гласе Господнем», некогда прозвучавшем над ней, озарившем ей душу и недвусмысленно предуведомившем об избранничестве. Ни один, пусть даже косвенный факт не подтверждает легенду, столь красочно изложенную иоаннитами: жаркий июльский полдень, травяные луга, растекшиеся от горизонта до горизонта, девушка, по смутному настроению вдруг отстающая от своих подруг, яростный стрекот кузнечиков, грозные бронзовые жуки, надвигающаяся от жаровни леса черная грозовая туча, ветер, погнавший по выбеленному проселку столб пыли, быстрая тишина, испуг, брызги лютиков, сердце, колотящееся от зноя, болезненная ломота в висках… И вдруг – от ближайшей рощи, покрытой уже тенью ненастья, отделяется и, как призрак, не трогая задохнувшихся трав, плывет через луг фигура в монашеском одеянии: развеваются складки, поднимается от груди пергаментная рука, зажигается нимб, прозрачный на фоне лохматого облака… Краешек неземного огня касается девушки. Радостно вскрикивает она, и сердце ее исполняется живительной благодати… Картина Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
Точно так же обстоит дело и с «версией голосов», отстаиваемой фанатичными «сестрами». Никакими документальными доказательствами наличие «голосов» у Жанны не подтверждается. Слуховые галлюцинации не зафиксированы ни врачами, к которым, конечно же, обратились бы испуганные родители, ни ее одноклассниками, заметившими бы непременно, что «девочка заговаривается». Дети гораздо более наблюдательны, чем обычно считают. Версия «Гласа Господня» вообще вызывает сомнения. Поведение Жанны – об этом твердят все, кто знал ее в данный период – не менялось вплоть до самого отъезда из города. Озарение, если оно и было, ничем не проявило себя. И хотя Бог (или ангел попущением Божьим), разумеется, может обратиться к кому угодно со словом своим – ибо сказано, что «неисповедимы пути Господни» – все же кажется, что для миссии, требующей от человека отдачи всех сил, можно было бы отыскать более приемлемую кандидатуру. Здесь, наверное, подошел бы фанатик, типа Савонаролы. А в призвании слабой девочки просматривается либо слепая прихоть судьбы, либо гордость того, кто не выбирает средств для достижения цели. Искра божественного способна одухотворить даже глину. Трубы судьбы звучат одинаково для всех смертных.
Впрочем, не будем больше задерживаться на богословской схоластике. Обратимся непосредственно к той, кому предстоит такое удивительное превращение. Мы пока не видим в этой девочке ничего особенного, у нее – косички, перевязанные обычными школьными ленточками, у нее – чрезмерно растянутый рот, как у лягушки из сказок, слишком выпуклые глаза, тоже, кстати, немного напоминающие лягушачьи; она, как все девочки на фотографиях, глядит исподлобья; брови у нее сведены, она, видимо, хочет казаться взрослей и серьезней. Ее нельзя назвать ни красавицей, в которой уже дышит судьба, ни уродиной, чья отверженность тоже может служить залогом необыкновенного будущего. Не видно жаворонка, чья песня вскоре прозвучит в небе. Взору непредвзятого наблюдателя просто не на чем задержаться. Тысячи таких фотографий ежегодно ложатся в альбомы, чтобы пожелтеть затем, выцвести, покрыться сеточкой ломких трещин, перейти из рук в руки и наконец исчезнуть вместе со своими оригиналами. Время уносит все, что попадает в его темный поток. Мы видим ее на обязательном групповом снимке класса: эти хмурые мальчики и девчонки, быстро рассеявшиеся по жизни; они будут потом говорить о той, с которой когда-то учились, тужиться в интервью, раскапывать существенные и несущественные подробности, рыться в прошлом, выворачивая неприглядные бытовые отходы, вспоминать то, что было, а чаще, – и то, чего не было, оживляя бесплотные тени красочными деталями. И неважно, что большинство деталей созданы их взбаламученным воображением. Кто же знает, в кого надо вглядываться с мучительным беспокойством сейчас, чтобы позже и взгляд этот, и эти подробности стали частью истории.
Мы видим Жанну вместе с ее родителями. Мать глядит в объектив, и взгляд ее спокоен и безмятежен. Работает она в бухгалтерии небольшой мебельной фабрики: школьным почерком переносит слова и цифры из одной ведомости в другую. Жизнь проходит под скрип пера и шелест громадных лип за окнами. Ни единого замечания в течение тридцати лет службы. Деньги, которые ей вскоре начнут присылать, она без раздумий отдаст местной больнице. Зачем они мне? – скажет она какому-то особо назойливому репортеру. Фантастическая история дочери ушла внутрь, пережита в тишине и упрятана от глаз посторонних. Никто не слышал от нее ни одной жалобы… Вот – отец, работающий инженером на той же мебельной фабрике. Никакого такого «инферно» не чувствуется в его сдержанной манере общения. Напрасно наседают на него журналисты, жаждущие сенсационных материалов, напрасно дежурит у дома бригада напористых телевизионщиков. Я не даю интервью, заявит он сразу же после Севастопольского триумфа. И точно отрежет ножом – действительно больше не сказав о Жанне ни слова. Рассуждения о демонизме или непорочном зачатии проходят мимо его сознания. Он не читает газет, не смотрит телевизор и не слушает радио. Словно живет в каком-нибудь девятнадцатом веке, а не в конце двадцатого. Через месяц после трагедии, имевшей место в широкой пойме Ивотки, он, как всегда, выходит рано утром из дома, но сворачивает почему-то не к фабрике, а на Подольскую улицу – спускается по ней примерно до середины, оборачивается и слабо машет рукой. Кому он машет и что он видит при этом, остается неясным. Ноги его подгибаются, и он мягко садится на землю. А когда приезжает «скорая», вызванная прохожими, обнаруживается, что он уже мертв.
Трагедия таким образом продолжается. Зверь, единожды пробудившийся, требует новых и новых жертв. Однако до этой финальной страницы пока еще далеко. Тиха еще пыль, окутывающая улицы города, и умиротворенны закаты, горящие в вечерних пустотах реки. Все еще пока впереди. Жанна, как и прочие, преодолевает трудности всеобщего среднего образования. Учится она не лучше, но и не хуже, чем большинство ее сверстников. В классных журналах, в основном, видны оценки «хорошо» и «отлично». Редкие тройки по математике не портят общей картины. Никакими особенными талантами девочка не выделяется. Вполне средняя сообразительность и вполне сносное умение осваивать нудноватый школьный материал. Учитель истории, правда, вспоминает о некотором интересе ее к Средним векам. Однако это свидетельство, быть может, лишь тень, отброшенная будущим в прошлое. К таким сообщениям следует относиться критически. И тем не менее, некоторые изменения в ее жизни все-таки происходят. Девочка подрастает и меняет косички на модную тогда прическу «миссюр». Нельзя сказать, что это ее очень уж украшает. Волнистый завив надо лбом скорее глуповатый, чем привлекательный. Волосы – прямые до плеч, появятся значительно позже. На одной из фотографий тех лет мелькают очки в скошенной по лисьи оправе. Школьный врач отмечает у нее некоторую близорукость. Однако очки исчезают со снимков уже через два-три месяца. По воспоминаниям, Жанна сразу же и бесповоротно сказала родителям «нет», и после тихой, но упорной борьбы очки были отставлены.
В этом бытовом эпизоде, пожалуй, впервые проявляется знаменитый характер Жанны. Ее резкое «да», означающее, не «быть может», как у других, а именно утверждение, и ее непреклонное «нет», то есть, именно «нет», а не приглашение к переговорам. Впрочем, мы, вероятно, тоже пытаемся подогнать прошлое к будущему. Если же от этого, уже известного нам будущего отвлечься, мы должны признать факт, тревожащий до сих пор всех исследователей: девочка даже не подозревает о том, что ей предназначено. Не восходит знаменующая мессию звезда над новым Вифлеемом, не являются из пустыни волхвы, чтобы преклонить колени у ясель, объяты провинциальной истомой ничем не потревоженные небеса, дремлет Кремль, если можно назвать дремотой лихорадку обогащения, под размеренное шлепанье волн о набережную спит Севастополь, сладкий дурман сирени плывет по солнечному Крещатику. Все спокойно. Ничто не предвещает близкого катаклизма.
И что, собственно, может произойти в этом городе, крохотным черным кружком затерянном в необозримой России? Не зря улица, где расположена фабрика, получила имя Крапивной. Строчка незатейливого подорожника пробивается сквозь асфальт даже на главном проспекте. Медленно, лопаясь пузырями, ползет через нее жижа, именуемая Поганкой. Скучно взирают на кучи мусора палаты купца Барыкина. Дома в городе, в основном, еще дореволюционной постройки. Несколько жутких коробок времен Жилищной программы обветшали и только усугубляют картину. Слесарный техникум, техникум пищевой промышленности, неизменный Дворец культуры с четырьмя обязательными колоннами перед входом. Бесконечные огороды картофеля на окраинах. Знойная тишина полей, засаженных кормовой свеклой. Даже коммунисты не сумели поколебать это земляное оцепенение. А уж перестройка и демократия докатились сюда лишь в виде странновато размытого эха, сдернувшего только табличку перед дубовыми дверями горкома, красный вылинявший транспарант, ранее украшавший вход на местный рынок, и овеществившегося в двух машинах иностранного производства: на одной ездит бывший секретарь горкома, ныне – демократически избранный мэр, а на другой – директор той же мебельной фабрики. Политические пертурбации, которые лихорадят Москву, не доходят до склона с зубом полуразрушенной церкви. Ни единой морщины не рождают они в толще зеленоватого времени. Не такое видели воды, текущие вдоль глинистых берегов. Пыль, струящаяся по улицам, затягивала и не такие следы. Не такие еще потрясения глохли в лопушиных оврагах. Утомительный звон комаров. Жирный блеск насекомых, переползающих с места на место…
Единственное событие прерывает размеренное чередование будней. Вряд ли стоит гадать, в чем именно это событие заключается. За полгода до окончания школы Жанна влюбляется в своего одноклассника. Ничего необычного во внезапно нахлынувшем чувстве, разумеется, нет. Старшие классы – проклятие даже для опытных педагогов. Время первых влюбленностей, предшествующих потрясениям жизни. Жанна, кстати, здесь вовсе не является исключением – ни по факту такого чувства, ни по силе переживания, которое ее охватывает. Напротив, все протекает достаточно заурядно. Свидетельствует об этом и характер ее увлечения – не один из тех мальчиков, которые представляют собой негласных лидеров класса: не спортсмен, любитель тяжелой атлетики, уже выступающий на районных соревнованиях, не известный всей школе Костя Рогаев, по кличке Эйнштейн, призер многих олимпиад, наконец не кто-нибудь даже из нарочито грубых подростков, возникающих почему-то именно в старших классах и старающихся привлечь внимание противоположного пола нахальством. Нет, впервые проснувшееся чувство ее обращается на скромного Сергуню Сливарова, Сливу, как полунасмешливо зовут его одноклассники. Никакими доводами рассудка объяснить этот выбор нельзя. Слива – плотный и апатичный мальчик с глазами, будто из поцарапанного стекла, вечно посапывающий, помаргивающий как бы в изумлении от увиденного, не отличник, но правда, и не самый последний в их классе. Он, по-видимому, вообще никакой, серединка на половинку, обычный сыроватый подросток. И кроме того, в отличие от встрепенувшейся Жанны, он еще не проснулся, чтоб воспринять зов взрослой жизни. Мальчики, как известно, пробуждаются в этом смысле несколько позже. И поэтому Слива с одной стороны явно польщен, что, как взрослый, теперь по-настоящему дружит с девушкой, это придает ему вес в глазах требовательных приятелей, но с другой стороны, он явно смущен этими неожиданными обстоятельствами. Скорее всего, с некоторым испугом наблюдает он, как Жанна меняется местом с его соседом по парте, как она предлагает ему то карандаш, то резинку, то ответ уже решенной задачи, как она подходит к нему на перемене, завязывая разговор, и как ждет его после школы, чтобы вместе, под взглядами одноклассников, двинуться к дому. К несчастью для Сливы, живут они практически рядом. И если быть объективным, то Слива от этих неожиданных отношений только мучается. Его это утомляет, он хочет, чтобы все было по-прежнему. Он побаивается девицы, вдруг заявившей на него какие-то особенные права. Не случайно, вернувшись из армии уже после смерти Жанны, атакованный журналистами, безжалостно потрошившими тогда всех подряд, он с трудом отвечает, что да, действительно, что-то такое было, но при этом не может, как ни старается, вспомнить ну никаких подробностей. Его это бурное проявление чувств попросту не задело. Он, наверное, лишь облегченно вздыхает, когда ураган, так внезапно низвергнувшийся на него, заканчивается. С тайной радостью возвращается он к прежнему своему образу жизни. И поэтому мы не знаем теперь, как все конкретно происходило: гуляли ли они по скрипучему снегу под еле теплящимися фонарями, о чем они разговаривали между собой (непохоже, чтоб Слива способен был поддержать какую-либо беседу), целовались ли, например, (даже этого он вспомнить не в состоянии) и как, собственно, завершается эта первая и последняя в жизни Жанны влюбленность.
Вероятно, именно так она и завершается. Ураган стихает, снова воцаряются тишь и сонное оцепенение. Уже в мае Жанна беспечно танцует на выпускном вечере. Она счастлива – скучные, как кажется, школьные годы остались в прошлом. Звенит последний звонок, начинается новая жизнь. Слива забыт; Жанна, по-видимому, о нем даже не вспоминает. Тягостного разрыва, характерного для первой любви, между ними, скорее всего, не случилось. Никто из тогдашних их общих приятелей не говорит о разрыве. Это самое веское, на наш взгляд, свидетельство незначительности случившегося. И поэтому явно не прав Б. В. Аверин, полагающий, что именно здесь лежат причины всех будущих катаклизмов, что отсюда следует выводить все странности и аномалии ее жизненного пути и что тусклый провинциальный роман стал истоком событий поистине шекспировского масштаба. Аверина, вероятно, подводит филологическое образование. Разумеется, и во Мценском уезде может существовать своя леди Макбет. Провинциальные страсти по накалу ничем не уступают столичным. И, конечно, трагедия неразделенной любви, иногда перерастает в пожар, способный потрясти континенты. Пример лесоруба из Висконсинской глуши, отвергнутого невестой и ставшего, во многом благодаря этому, президентом, не случайное чудо. И у Наполеона, по слухам, была трагическая любовь в юности. И Винсент Ван Гог получил отказ, прежде чем загореться страстью художника. Именно трагедия сердца способна разбудить человека. Но в том-то и дело, что никакой трагедии в нашем случае не было. Не было высокой неразделенной любви, не было отчаяния, подвигнувшего душу к перерождению. А была просто влюбленность, обычная в этом возрасте, легкий школьный роман, предшествующий взрослой жизни. И закончился он, как заканчиваются все такие романы: без следа, не оставив в душе почти никакого воспоминания.
Ничто не свидетельствует, что Жанна как-либо изменилась после этого кратковременного увлечения. И однако именно Сливе, прошу прощения, Сливарову Сергею Евсеевичу (так теперь именуют этого вполне почтенного человека), принадлежит, вероятно, самое ценное замечание из всех имеющихся. По его словам, где-то в марте, провожая его до дома (именно так; Слива считал, что это она его провожает, а не наоборот), Жанна вдруг останавливается у парадной, словно на что-то решившись, берет его за руку (смелость эта поразила Сливу в самое сердце) и срывающимся голосом говорит, что должна открыть ему некую тайну. Щеки у нее горят, голос от волнения прерывается, она заглядывает ему в глаза и просит, чтобы он дал слово никогда никому не говорить об этом. А когда заинтригованный Слива такое слово дает, сообщает ему, что она, то есть Жанна, не просто так существует на свете, что у нее есть великая цель, связанная с Россией, а может быть, и со всем миром, что она избрана, что зов может прозвучать в любую секунду, и что она не принадлежит себе, как все остальные люди.
Легко представить, какое впечатление это произвело на человека, ставшего впоследствии мастером лакокрасочного производства. И однако именно потому его словам можно верить. Придумать нечто подобное он просто не в состоянии. Слива, опять же прощу прощения, Сливаров Сергей Евсеевич, не то чтобы удивлен, он, по-видимому, даже не понимает, о чем это таком Жанна толкует, и настолько ничтожное значение он придает услышанному, что не делится им, вопреки обычаю, со своими приятелями. Он просто-напросто забывает об этом случае, выполняя тем самым, скорее всего невольно, просьбу Жанны. Сливу ее тайна не вдохновляет. Он лишь вяло спрашивает, думая, вероятно, о чем-то своем: Откуда ты знаешь? А Жанна, по его словам, обиженно пожимает плечами. Знаю, говорит она тоном разочарованного ребенка. Пристально смотрит на него некоторое время, а потом поворачивается и уходит.
Значит, к тому моменту – а это, напоминаю, март – Жанна уже твердо знает, что предназначение у нее существует. Это еще одно возражение против гипотезы Б. В. Аверина. «Глас Господень», если он вообще когда-то звучал, должен был прозвучать до марта этого года. И тем не менее, в свете такой уверенности Жанна ведет себя достаточно странно. Ни одного шага не делает она навстречу судьбе и не способствует ни единым словом, чтобы судьба эта каким-либо образом осуществилась.
Еще полтора года проводит она в этом крапивном городе: устраивается на работу в горисполком, перепечатывает на машинке какие-то дремучие документы, постигает бюрократические хитросплетения, смотрит на лопухи, взметывающиеся из-под фундамента зданий, иногда проводит время в компаниях приятелей или сослуживцев. А один из таких сослуживцев даже пытается за ней ухаживать. Этот энергичный молодой человек примерно тридцатилетнего возраста. Будущее его блестяще: в мэрии он уже заведует отделом городского снабжения. Ходят слухи, что это самая вероятная кандидатура на предстоящих выборах. Ему не хватает только семейного положения, чтобы выглядеть респектабельно в глазах избирателей. То есть, ухаживание имеет ясную рабочую перспективу. И сама Жанна, кажется, принимает его знаки внимания вполне благосклонно. Во всяком случае, их теперь часто видят вместе на разного рода представительских мероприятиях. Слива исчез: осенью того же года его призывают в армию. А в провинциальных понятиях – это все равно что улететь на другую планету. Заканчивается зима, ползут с черным шорохом нагретые ручьи из сугробов, бодро зеленеют пригорки, парит земля, расчесанная боронами от горизонта до горизонта, облака душной пыли гуляют из конца в конец города, жизнь течет, а Жанна все также перепечатывает бумаги в здании на улице Ленина. Разговор о великом предназначении остался в прошлом. Она словно обречена пройти тот же жизненный путь, что и ее родители. Круг за кругом, растворившись в реке человеческого существования. Ничего иного нельзя и предположить, если, конечно, оценивать этот год в чисто формальных признаках.
Однако именно здесь, в равнинной дремоте просторов, средь оврагов, лугов, кремнистых дорог, на берегах плоской серой реки, под огромным неприветливым небом, в рассоле которого вымокает солнце, в пелене закатов, дождей, дымного весеннего марева, зарождается то, что потом отзовется эхом по всем континентам, что заставит то в гневе, то в радости трепетать миллионы сердец и с необыкновенной отчетливостью войдет в сознание нескольких поколений. Небо везде одинаково, и если «Глас Божий» (используем для простоты этот термин) все же звучит, то слышен он и в сутолоке столиц, и в дреме провинциального города.
Мы не знаем, как именно прозвучал он для Жанны. Не знаем и, вероятно, не сможем узнать уже никогда. Но вслед за Анри Барбюсом, с прямотою творческого и мудрого человека выразившегося о Христе: «Кто-то прошел…», – мы тоже можем сказать: «Что-то было…» Было что-то, о чем мы и в самом деле уже никогда не узнаем. Потому что однажды, августовским жарким утром, светящим в глаза, эта девушка, школьница, еще недавно заплетавшая банты, не говоря никому ни слова, даже матери, даже отцу (им она сообщит о своем решении, позвонив с вокзала), садится в автобус у здания городского рынка, едет, покачиваясь, мимо бесконечных свекольных полей до областного центра, покупает билет в Москву, практически исчерпав свои денежные резервы, три часа до отхода поезда дремлет в зале ожидания на вокзале, – она не дремлет, на самом деле она дрожит от внутреннего возбуждения, – наконец садится в вагон и снова от непреодолимого возбуждения прикрывает веки.






