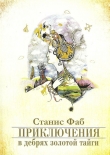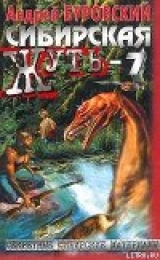
Текст книги "Сибирская жуть – 7"
Автор книги: Андрей Буровский
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 15
ФЕЛИКС КАМЕННЫЙ… ФЕЛИКС ЖЕЛЕЗНЫЙ…
– Попробуйте, Владимир Ильич, отличнейшая выпивка.
– Фу! И гадость же, гадость же, батенька!
– Почему же сразу «гадость»? Отличнейшее машинное масло…
Школьный анекдот 1960-х
Эта история – один из откликов на прежние выпуски нашей «Жути»… В одном из них мне доводилось писать про странные звуки, слышанные мной в красноярской школе №10. Впрочем, приведу фрагмент собственного текста, чтобы напомнить суть дела читателю:
«Трудно объяснить иногороднему, какую роль играла в жизни Красноярска школа №10. Ее директор, Яков Моисеевич Ша, говаривал порой, что все великие люди города оканчивали именно ее. Это, конечно, преувеличение, и даже сильное, но что школа играла роль совершенно исключительную – это факт. Образование, которое давала эта школа, было по уровню выше на порядок, чем в большинстве школ, и раза в два выше, чем в других центральных.
Но вот что печально – что право делать дело покупалось обычной советской ценой. Официальным шефом школы был крайком КПСС, а по всей школе висели какие-то отвратительные плакаты с призывами служить в Советской армии, вступать в комсомол, любить Советскую родину и так далее, и тому подобное.
А в двух шагах от школы стоял бронзовый бюстик Дзержинского.
С Яковом Моисеевичем я находился в самых замечательных отношениях и часто подменял его, когда Ша ездил в командировки – вел уроки истории в «его» классах. Не помню, почему возникла такая необходимость, но как-то я долго ждал его из Москвы – весь метельный февральский вечер. Из школы все давно ушли, и во всем здании остались я и техничка, жившая тут же, при школе. Это была одновременно техничка и сторож.
Эта техничка, надо сказать, давно была своего рода ведомственной гордостью Якова Моисеевича – это была совершенно непьющая техничка, и за это одно ей прощалось совершенно все. Например, эта техничка была не вполне вменяемой и иногда вела с посетителями всяческие странные разговоры – например, заводила длинную и совершенно невразумительную историю про какого-то мужика, который прислал ей из деревни свиной бок. Тетенька, впрочем, была совершенно не опасна – немного не все дома, и ничего больше.
В этот вечер она все бродила вокруг, все стирала несуществующую пыль, все вела со мной светские беседы, но вот о чем беседы – убей бог, совершенно не помню. Было еще не очень поздно, часов восемь вечера, но уже совсем темно и, кроме того, метельно, ветрено. Ветер выл как-то уж очень разборчиво – в смысле, очень уж легко можно было разобрать долгое метельное: «У-уубью-ююю…». И долгий вой, и рев без слов, но с оттенком такой злобы, такой ярости, что становилось просто жутко. А потом вдруг неприятный трескучий голос явственно произнес где-то в середине коридора: «Ну и чего тут приперся, пся крев?» Я был совсем один в «предбаннике» директорского кабинета – техничка вышла. Мне стало как-то неуютно, а тут еще в оконное стекло забарабанили пальцами, отбивая как бы лихой марш. Поворачиваюсь – как и следовало ожидать, никого. Да и кто бы стал стучать в окна второго этажа?
Стало неприятно, и я вышел в коридор. Опять пронзительный вой метели начал складываться в слова – в непристойную ругань по-русски и почему-то по-польски. Тут опять поднялась та техничка.
– Что, покою не дает? Не слушайте его, похабника!
– Кого не слушать?!
– Который воет! Подумаешь, это Зержинский! Слыхали бы, что он мне сулит, когда я тут одна мету! На что сманивает, поганец!
И страхолюдная тетенька кокетливо потупилась, зарделась и натужно захихикала в кулачок.
Скоро приехал Яков Моисеевич; больше никогда я не оставался в школе № 10 по вечерам и ночам и ничего подобного не слышал.
Что я могу сказать по этому поводу?! Может быть, конечно, мне и почудилось. Конечно же, техничка была с большим приветом, хотя и совершенно не пила. Но вот за то, что слышал слова во время вьюги и стук в окошко, вот за это я ручаюсь полностью.
Какие-то непонятные звуки в том же здании слышали еще два человека – пионервожатая и еще одна техничка – вполне нормальная, но пьющая. Но с ними у меня не было близких отношений, и что они слышали, я не знаю» [7].
По поводу этой истории у меня долгое время не было особой уверенности, относить ли все странности за счет каменного изваяния Дзержинского: ну слышал я какие-то слова, ну вроде бы кое-что слышали и другие… Но вменяемые люди из этих «других» не говорили ничего определенного, а на рассказы тетеньки с приветом полагаться трудно.
Но вот, оказывается, какая история связана с этим очень простеньким памятничком: четырехугольный каменный постамент чуть выше человеческого роста, примерно в два метра, и на нем – бронзовый бюстик в натуральную величину. Бюст как бюст, обычная физиономия Дзержинского; судя по фотографиям, даже более благообразная, чем была при жизни.
Казалось бы, явление это уж настолько заурядное, до скуки: подумаешь, памятник Дзержинскому. Если вокруг него и могли быть какие-то события, то или скучнейший советский официоз с вождением к памятнику пионеров с битьем в барабаны и клятвами «стучать, стучать и еще раз стучать, как завещал нам товарищ Дзержинский!».
Или что-нибудь такое же сюрреалистическое из эпохи «перестройки». Скажем, в 1989 году деятели красноярского «Мемориала» и «Клуба содействия перестройке» (организации поистине мистической, но совершенно в особом смысле, который в этой книге обсуждать смысла не имеет) решили на очередную годовщину Великого Октября возложить к памятнику Дзержинскому веночек из колючей проволоки. А навстречу им плечистые ребята, которые отрекомендовались «комсомольцами» (один, попроще, вякнул, что он «комсомолец из органов») и изо всех сил мешали возложить веночек. Так рьяно мешали, что сломали палец одному из деятелей «Клуба содействия перестройке».
Но вот однажды возле этого памятничка произошло нечто куда более любопытное, и началось это с того, что возле бюста Дзержинскому остановился один деятель Красноярского крайкома КПСС… Мелкий деятель, не из первых функционеров. Был он нетрезв, а стояла глухая ночь, и сей деятель аппарата КПСС допустил некий хулиганский поступок… То есть, говоря попросту, решил он помочиться на постамент этого бюстика. Не надо удивляться поступку крайкомовца – во всевозможных официальных советских организациях работало довольно много таких – не диссидентов, конечно, но людей далеко не идейных. Правда, врагами советской идеологии они тоже вовсе не были и если смеялись над официозом или творили мелкие совковые кощунства, то тайком, втихаря и стараясь не иметь лишних свидетелей.
Впрочем, я присутствовал как-то при сцене, когда пьяные крайкомовцы и горкомовцы поставили на стол с объедками портрет Брежнева и гнусаво пели его речи на мотив православных псалмов. Пели, мазали губы портрету водкой и салом, пока не попадали со смеху. А у меня все это вызывало ассоциации со Всешутейшим и всепьянейшим собором Петра I, гнусной пародией на православную иерархию и православное служение.
Вот и этот деятель собирался помочиться на памятник не из каких-то там скрытых диссидентских соображений, а попросту в порядке холуйского хулиганства: нагажу, мол, пока никто не видит! Тем более темно, и мела метель, и была сильная поземка, а в воздухе ветер все время поддерживал много мокрого снега. Дяденька начал писать на памятник… и потом рассказывал, что пробежал целый квартал и только тогда сообразил, что за ним никто и ничто не гонится, что вполне можно уже остановиться и просто застегнуть ширинку.
Потому что памятник, этот бронзовый бюстик вдруг повернулся к крайкомовцу и «как в мультфильме» – по его словам – оскалился на нарушителя своего спокойствия. Самым натуральным образом ощерился, обнажил клыки, и, отчаянно вскрикнув, человек кинулся бежать.
Подтвердить эту историю некому в том смысле, что никто не присутствовал при сцене, никто не видел, как оскалился памятник. Но я в эту историю верю, на что есть несколько причин.
Во-первых, первым рассказал мне ее не кто иной, как Александр Александрович Бушков. Да-да, тот самый, знаменитый «король русского боевика» и создатель нашей «Сибирской жути». Так сказать, отец-основатель серии. Сам Александр Александрович, узнав о моем желании описать эту историю, просил сообщить: верит он в нее не полностью… Я охотно удовлетворяю эту просьбу и передаю читателю: у А.А. Бушкова не стопроцентная вера этому рассказчику.
Но со своей стороны добавлю – за годы нашего общения не раз случалось, что А.А. Бушков сообщал мне самые невероятные вещи, и мне верилось в них слабо… А потом все это подтверждалось. У этого человека есть редкая особенность, которая должна быть присуща, казалось бы, скорее следователю, чем писателю: он умеет отделять истину от вранья. И так просто никаких историй не передает.
Во-вторых, с памятниками некоторых лиц связаны весьма любопытные истории. Я бы даже сказал, что у некоторых памятников очень плохая репутация. В германоязычном мире памятникам вообще приписывается способность довольно лихо разгуливать, особенно в безлунные ночи… В Средние века немецкие воины, приходящие в Италию вместе со своими императорами, весьма последовательно старались не оставаться на ночь поблизости от античных статуй. Итальянцев же, которые этих статуй не боялись, они считали или невероятно храбрыми людьми, или колдунами, которые просто умеют управлять этими статуями.
В это можно верить или не верить, но в Германии рассказывают настолько жуткие вещи о некоторых памятниках, что мне как-то и не хочется их передавать. Русскому читателю наверняка известна история про железную руку Эриха фон Берлихингена: мол, сковал такую руку себе рыцарь, и служила она ему, как живая… А как помер, стала эта рука жить сама по себе, искать по силам мясное пропитание. Впрочем, как хотите, а пересказывать я эту легенду не буду. Хотите ее знать – ищите и читайте сами, на немецком все это очень подробно описывается. Что до меня – вот уже налился тяжестью затылок, словно песку насыпали под веки… Не с моей гипертонией описывать эти истории.
И не в «сумрачном германском гении» тут дело. Уверяю вас! Потому что стоило в России появиться памятникам историческим персонам, и тут же с некоторыми из них народ связал такие же точно истории – например, с тем же Медным всадником. А.С. Пушкин, когда писал свою знаменитую поэму, работал строго по мотивам петербургского фольклора… Да и по материалам полицейских документов, между прочим! Потому что есть в Петербурге документы (я видел их собственными глазами!), после которых и рука Эриха фон Берлихингена, бегущая по стене замка, – это не самое ужасное. И думаю, Александр Сергеевич эти документы тоже видел…
В-третьих, событие с пьяненьким красноярцем имело место быть не когда-нибудь, а 11 октября. Что это за день? А это так называемый Ден дзядов – День дедов, то есть день поминовения предков. Своего рода хэллоуин, День всех святых – только не в протестантской, а в католической традиции. Как нетрудно понять, в эти сутки по земле много кто может шататься…
Кого-то может удивить – 11 октября вроде бы не зимнее еще время, а уже метель… На это я только напомню, что действие разворачивается в южной, но Сибири, а не в северной, но Италии. И даже не на Украине, где 11 октября расхаживают еще в легких платьишках и в рубашках. У нас – не расхаживают.
В-четвертых, причиной верить рассказанному выступает сама метель. И в России, и в Скандинавии, и в Германии… словом, во всей Северной Европе известно, что именно в метельные, вьюжные ночи происходят события странные, имеют место быть встречи, от которых участники встреч, может быть, еще и охотно отказались бы. Подтверждений – весь скандинавский фольклор и половина северного русского! Впрочем, и финский, и эстонский, и фольклор всех северных народов и Азии, и Америки – о том же.
По мнению скандинавов, и Снежная королева (вовсе не придуманная Андерсеном, а тоже взятая из фольклора!), и гигантский белый олень, запряженный в сани, и тролли, и сам Король Севера (существо уж вовсе кошмарное) бродят по земле не в любой из декабрьских или февральских деньков, а в метельные дни, и особенно в метельные безлунные ночи. И в такие же ночи, как думают в Холмогорах и Каргополье, носятся по земле сани, запряженные душами грешников, а в санях мчатся над землей бесы.
Индейцы Северной Америки в такие же метельные сутки опасаются безглазых, выпотрошенных оленей, которые несутся сквозь пургу, а на спинах оленей сидят и управляют ими рыси с горящими красным огнем глазами. Впрочем, в такие же ночи встретиться можно и со скелетами, которые подходят к чумам, в которых есть маленькие дети, и просят их себе, потому что им нечего есть, или выклянчивают кишок живых людей. Выходить из чумов в метель индейцы не рекомендуют. А те, кто очищает чужие ловушки или не дает еды старикам, больным и вдовам с маленькими детьми, рискуют увидеть летящего в буре Маниту со своей свитой – огромными полярными волками. И эти волки разорвут нехорошего человека на части.
В общем, метель – сложное время, сплошная провокация для нечисти – по мнению всех народов, населяющих северное полушарие. И то, что действие разворачивалось в метель, делает его куда более вероятным.
В-пятых, на доверчивый лад настраивает меня сама личность Железного Феликса. То есть всякий вообще большевичок для меня автоматически если и не бес, то уж точно пособник бесов, и ничего с этим не поделаешь. Об этом великолепно написано у Солоухина, к которому и отсылаю читателя [8].
А Феликс… Встречались в польской, в чешской литературе глухие упоминания, что в годы молодые очень интересовался Феликс Эдмундович бабульками, жившими тогда (а очень может статься, и сейчас живущими) в Литве… а говоря конкретнее, бабками-ведуньями из глухих уголков Жемайтии. Об этих бабках шла (и идет) слава как чуть ли не о самых сильных колдуньях всего евразийского материка… Не буду спорить, кто из колдунов кого сильнее и главнее, но, во всяком случае, есть у меня довольно зловещие рассказы тех, кто наблюдал своими глазами, как невинный уж превращался в существо, куда опаснее анаконды и очковой кобры, вместе взятых, а сознание человека входило в волка, и зверь начинал вести себя так, как если бы он обладал волей и умом (а человек в это же время или сидел неподвижно, в полном ступоре, или того лучше – начинал истово нюхать, втягивать в себя воздух, а взгляд у него делался такой, что даже люди неробкого десятка старались очутиться подальше).
Способность человека вселять свою душу (или хотя бы ее часть) в животное – в медведя, волка – может стать основой для множества народных легенд… В том числе и о мальчике-медведе, способном жить в двух мирах одновременно, о чем и писал П. Мериме в своем «Локисе» [9].
Вот у этих старушек и пытался учиться рьяный революционер, сподвижник Ленина Феликс Дзержинский. Опять же – всевозможные поиски мистических сущностей были очень в духе большевиков. Мистиками они были не меньшими, чем нацисты, – и Шамбалу искали, и махаришами увлекались… Но все же вот в такой степени заигрывались далеко не все и в ученики деревенским ведуньям все-таки не лезли.
Я, конечно, не знаю, чему научился Феликс Дзержинский у литовских колдуний, но согласитесь – это персонаж, просто в исключительной степени подходящий для того, чтобы именно с его памятником происходили удивительные вещи.
А в заключение я передам рассказ одного шведского ученого. Познакомились мы с ним в Новгороде на одной конференции, а потом активно участвовали в банкете, в ресторане «Детинец». Называть я его не буду… Пусть он будет в том рассказе просто Бьерн. Общались мы с ним на двух языках: шведском и русском, но по-шведски только ругался Бьерн да оба мы кричали «Скооль!», поднимая очередную стопку.
Где-то около полуночи мы с Бьерном вышли во двор новгородского кремля – ресторан «Детинец» находится аккурат в толще крепостных стен, и оказались около монумента тысячелетия Руси. Поставили его в 1862 году, к тысяче лет со дня вокняжения Олега и Игоря в Киеве, объединения Киевской и Новгородской Руси в единое государство. По всему монументу сплошь изображены деятели русской истории, включая литовских князей, великих ученых и сановников Екатерины. Луна то выкатывалась из-за туч, то опять в них ныряла, и все эти фигурки словно бежали куда-то.
– Не боишься? – вдруг спросил меня Бьерн.
Я залился веселым смехом – как здорово он пошутил, этот умный швед! Происхождение моего веселья было только отчасти алкогольное; мне казалось, что и со страхом перед темнотой, и со способностью наделять жизнью чугунные изваяния мы с Бьерном покончили лет 35 или 40 назад…
И тогда он рассказал мне такую историю…
Было это в конце ноября 1974 года, когда Бьерн был совсем мальчишкой и только осваивал трубку. Жил и учился он в Стокгольме и, как я понял, не был таким уж прилежным студентом. В частности, и в этот день Бьерн пил пиво вместо того, чтобы заниматься чем-то более разумным. Пуржило, короткий серенький день двигался к закату, редкие машины вовсю двигали дворниками и зажгли фары. Парню хотелось гулять, он вышел к Балтике, за порт, присел на камнях, уходящих в море длинной косой.
Отхлебывая пиво, Бьерн раскурил трубку. Вскоре послышались тяжелые шаги, и кто-то опустился на соседний камень. Не поворачиваясь, Бьерн сунул подошедшему бутылку; тот сделал добрый глоток, простонародно крякнул и вернул бутылку. Бьерн обтер чубук трубки, тоже протянул ее назад. Сосед по камням затянулся, так же молча вернул трубку. Только после этого Бъерн обернулся, чтобы хоть как-то приветствовать своего спутника… И тут же, по его собственным словам, в панике кинулся бежать.
– Очень холодно было, а у меня отсюда (показал Бьерн на затылок) до самой задницы горячий пот стекал.
Дело в том, что на камнях сидел, удобно расположившись, известный в Стокгольме памятник Густаву III работы знаменитого шведского скульптора Юхана Сергеля.
Памятник был закончен в 1806 году, а сам Густав III погиб в 1792 году, когда сорокашестилетнего короля застрелил некий дворянский мститель… Потому что Густав III сыграл с дворянством хитрую и (по мнению дворян) бесчестную шутку. Весь XVIII век Швеция была страной дворянской вольницы, почти как Речь Посполита. Дворянство отлынивало от службы, валяло дурака и всячески мешало хоть как-то укрепить государственную власть.
Густав III же изо всех сил старался показать, что к делам государственным большого интереса не питает, а хочет только охотиться да устраивать потещ-ные сражения со своими не менее потешными войсками. А когда потешные войска оказались самыми настоящими хорошо вооруженными войсками, да к тому же преданной королю личной гвардией, было поздно. Король взял власть рукой в железной рукавице, дворянской вольнице наступил конец; и хоть дворянский мститель Ансельм застрелил короля, Швеция запомнила этого решительного и мудрого монарха.
Впрочем, мы с Бьерном о Густаве III не беседовали. Бьерн только спросил, знаю ли, кто это такой, меланхолически кивнул и пыхнул трубкой.
– Та самая?
– Уже другая.
Честно говоря, даже жалко, что другая, – я было уже приноровился попросить курнуть трубку, побывавшую во рту у Густава III.
Эту историю я передаю по принципу – за что купил, за то и продаю, без малейшей попытки заставить читателя мне верить. Только, само собой, рассказ Бьерна мне вспомнился тут же, как только дослушал историю про то, как некий крайкомовец писал на памятник Железному Феликсу. Ассоциации напрашиваются.
Глава 16
ЧЕРНЫЙ ГРИБНИК
Я совершенно не настаиваю на рогах и копытах. Если вам очень интересно, как выглядит дьявол, вы рано или поздно это узнаете. Вот понравится ли вам – я не уверен.
К.И. Льюис
Эти две главы – тоже отзыв сразу на два уже опубликованных материала: про разного рода профессиональный фольклор, так сказать «черных» и «белых» специалистов (черный археолог, черный геолог, белая энтомологиня и так далее). А второй материал, который вызвал у читателей желание его дополнить, – это истории нависающей над Красноярском Николаевской горы.
Потому что кое-кто позвонил мне буквально через две недели после выхода первого же издания моей «Сибирской жути»:
– Ты что, не знаешь, кто тут ходит по Николаевской горе?!
– Не-ет… А кто?
– Черный грибник. Между прочим, имей в виду, его видела уже куча народу. Ты тут про всяких чудиков пишешь, которые за сто верст от Красноярска живут, а тут вон – под самым боком…
Пришлось мне навести справки про это народное поверье… Но, вообще-то, для поверья очень уж много людей видело этого грибника. Описывают его почти одинаково, есть несколько схожих портретов.
Один портрет – сморщенное лицо, мужик хорошо за шестьдесят, длинный шишковатый нос, глубокие ложбинки на лбу латинской буквой V, и опять же кончаются у носа. Большинству тех, кто встречался с черным грибником, он решительно не нравится, звучат определения типа «неприятный какой-то», «несимпатичный мужик», хотя ничего плохого он не делает и никаких враждебных действий не совершает.
По другим описаниям, это человек немного моложе, лет сорока пяти – пятидесяти, и все-таки более благообразный. У этого черного грибника глубокие морщины на лбу, очень темная кожа, и его внешность не вызывает неприятных ощущений.
Впрочем, обоих черных грибников (или обе версии одного существа, способного менять обличье) роднят некоторые черты: очень смуглая кожа, маленькие черные глазки-бусинки, которые иногда сверкают темно-красным. «Как совсем спелая брусника» – уточнила одна дачница. Характерно, что его ушей никто не видел, – и воротник поднят, и волосы низко спадают, закрывая голову с боков. Исключение из этого правила есть, но я расскажу о нем позже.
Одет черный грибник стандартно, в какую-то закрытую куртку, или черный бушлат с капюшоном, или энцефалитку – плотную, облегающую куртку, которая сшита так, чтобы ни одно самое маленькое существо не могло бы в нее проскользнуть. Энцефалитки и шьют для полевиков, как одежду, защищающую от клещей.
На голове у черного грибника нет ничего (волосы черные, блестящие) или кожаная кепка, тоже черного цвета. В одном-единственном случае черный грибник был в черной шляпе, очень старой. В руках у него чаще всего большая плетеная корзинка, а в ней собранные грибы. Жаль, никто никогда не видел его ног – возможно, это многое бы прояснило.
Словом, ничего особенного нет в его внешности и одежде – подумаешь, пожилой дачник вышел под вечер прогуляться с корзинкой и заодно набрать грибов. Так выглядят очень многие.
Нет ничего особенного и в его внезапном появлении. Человек, который провел много времени в лесу, научившийся ходить бесшумно и освоивший нехитрое правило жизни в дебрях – «никогда и никому не попадайся на глаза лишний раз», вполне может появляться и исчезать неожиданно… особенно для менее опытных людей. Опытный полевик может не только подходить к ничего не подозревающим людям, но и просто сидеть себе посреди леса, заниматься своими делами… И никто не сможет «вычислить» такого затаившегося человека, если он сам не сделает ошибку.
Помню, в 1982 году мы с моим другом занимались прозаическим хозяйственным делом – собирали жимолость. Собирали себе и собирали, никого не трогали. Находились мы друг от друга на расстоянии примерно пятнадцати метров и потому не разговаривали: совсем тихо не получится, а привычка не открывать себя в лесу давно стала второй натурой. Мало ли кто услышит наши разговоры… Пусть даже не кто-то опасный, но просто – а зачем он здесь?
И вот пока Андрей сидел на корточках, «доил» подходящее дерево, а я облюбовал превосходный пенек, прямо между нами прошла шумная и не очень трезвая компания. Эти люди тоже хотели собрать жимолости, но на этой полянке им ягоды не понравились, и они пошли дальше.
Но, во-первых, эти люди потом поклялись бы, что лес пуст… А он вовсе не был пуст; в лесу были мы с Андреем, а на дороге, от силы в километре, стояла машина Андрея. Компания оставила свой газик буквально в полукилометре от нашей машины, а мимо нас прошла, не заметив… Виноваты ли мы?
А во-вторых… в какое-то мгновение один из них стоял с одной стороны куста, а я сидел с другой. Никакого желания специально прятаться у нас не было, но ситуация повернулась так, что стало интересно – а заметят нас или нет? Вот мы, не сговариваясь, и сидели тихо-тихо, как две здоровенные мыши. И было бы крайне интересно, если бы парень, куривший и что-то оравший другим на весь лес, сделал бы еще один шаг и вдруг столкнулся бы со мной…
Представляете, шагает он, размахивает сигаретой и орет одновременно, а потом опускает взгляд, и… Тогда я еще не носил бороды, но сильно загорел за лето и ходил в черном бушлате. Ну, и нельзя сказать, чтобы красавец. Вот и представьте: вдруг бедолага обнаружил бы, что в метре от него сидит эдакое на пенечке… А только что никого в лесу не было!!!
Уверен, этому человеку долго пришлось бы рассказывать, что произошло, и за результат трудно поручиться. Да и поймать его было бы невероятно трудно: представляете, бес не просто возник из ничего, он еще и гонится за ним! Если же не ловить бедолагу и ничего ему не объяснять, он же до конца своих дней будет уверен – перед ним прямо из воздуха сконцентрировался некто черный, очень смуглый и с рожей совершенно невозможной.
Вот и когда мне стали рассказывать про черного грибника, возникло у меня одно подозрение, что вовсе никакой это не черный грибник, а просто умный и опытный по лесной части дед, который то ли случайно пугает людей, которые невольно судят о возможностях человека по себе; то ли он сознательно пугает некорректных грибников и ягодников – чтоб меньше гадили в лесу.
Но мало этих неожиданных появлений, мало невнятного бормотания, порой похожего на урчание и рычание какого-нибудь животного… Черный грибник еще и вступает в беседы с людьми! И заявляет очень определенно: «Это мои грибы!» Или: «На этом склоне не собирайте! Тут я буду собирать!» Сначала эти рассказы у меня вызывали только уверенность: хитрый дед пытается таким образом прогнать конкурентов.
Ведь склоны Николаевской сопки – один из самых красивых и интересных районов в окрестностях Красноярска. Вокруг – густонаселенные районы городской застройки, в том числе интеллектуальный центр Красноярска – университет и Академгородок. Десятки тысяч людей живут в ближайших окрестностях сопки. Даже в будние дни грибники ходят, только что не толкая друг друга, а в воскресенья некоторые участки сопки заставляют меня вспомнить пляж возле Петропавловской крепости и Невский проспект в воскресенье вечером.
Самое странное, что хоть какая-то добыча всем этим людям достается! Конечно, это совсем не те места, где можно собирать грибы в промышленных масштабах. Дело в том, что есть места, где о грибах местное население не говорит «искать». Это в Европейской России грибы непременно «ищут», в Сибири их искать вовсе не нужно. Грибы «набирают» или «рвут». Так и говорят – «пойдем нарвем грибов». Читатель вправе верить мне или не верить, но есть места, где ведро грибов набирают за двадцать минут. Это не развлечение и не спорт, а скучный труд, начисто лишенный всякой романтики, всякого сходства с барской забавой. Становишься на четвереньки и так и идешь по склону сопки, тупо кидаешь грибы в корзинку. Обычно в поле зрения находится сразу много грибов, но если остался только один – не огорчайтесь! Потому что стоит сорвать этот один гриб и продвинуться вперед на несколько сантиметров – и тут же обнаруживаешь еще несколько… Если встать в полный рост (скажем, чтобы сходить высыпать набранные ведра), то плантация предстает очень живописной – видны только людские зады. В таких уж позах стоят грибники, что над папоротниками торчит в основном именно эта часть тела.
Конечно, ничего подобного нет на Николаевской сопке. Но сибирская природа так богата, что даже в этом пригородном, исхоженном тысячами ног месте можно что-то найти. Несут не помногу, но несут – кто целлофановый мешочек, кто корзиночку, кто пластмассовое детское ведерко… но несут все или многие. Грибной сезон в Сибири короток – всего два месяца; это вам не средняя полоса и не Прибалтика! Но в этот сезон во многих семьях готовят грибные поджарки и соусы.
Так все-таки: может, косящий под призрака дед отпугивает конкурентов?!
Нет, не сходится… Ведь многие не реагируют никак на слова черного грибника и продолжают собирать как раз там, где он объявил грибы своей собственностью… Но только вот с теми, кто грибника не слушается, обязательно получается что-то плохое. То вся семья дружно травится этими грибами, то оказываются они поражены какой-то отвратительной плесенью, то грибы несусветно воняют, то приключается еще какая-нибудь гадость. А пока непослушные собирают грибы, которые им брать не велено, и раздается странное бормотание, больше похожее на ворчание и урчание крупного, сильного зверя.
Людям свойственно видеть врагов во всех, кто мешает им что-то сделать. Даже вредное и опасное. Если люди ухитряются считать личными врагами врачей, которые запрещают им обжираться и хлестать водку, или инспекторов ГИБДД, которые запрещают им на предельной скорости шпарить по мокрой дороге, то уж черного грибника считать законченным гадом сам бог велел. Мешает, видите ли, собирать грибы!
Я же склонен полагать, что это мудрое существо проявляет заботу о людях. Причем, судя по тому, как платят эти люди за заботу, он старается зря, и, как сказано в Писании, «мечет бисер пред свиньями».
Ведь давно уже прошли времена, когда Сибирь была экологически очень чистой страной. Пространства ее огромны, возможности ее природы колоссальны, нет слов! Но слишком уж долго эксплуатировались эти богатства бесхозно и бездумно, без мыслей о завтрашнем дне. Да еще и военно-промышленный комплекс совершенно не думал ни о чем, кроме как своих специфических задачах. Помню жуткую историю, разразившуюся в давнем уже 1989 году: выяснилось, что жители ряда сибирских деревень давно отравлены токсичными отходами ракетного топлива. Пускали господа военные ракеты, испытывали все более совершенные варианты, чтобы убить сразу людей побольше; и притом пускали-то таким образом, что пролетали ракеты над населенными пунктами. Продукты сгорания ракетного топлива токсичны, то есть говоря попросту – ядовиты. Онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы косили людей в деревнях, поблизости от которых пролетали эти ракеты. Позже, во время войны в Персидском заливе (январь 1990 года), Саддам Хусейн пытался использовать эти ракеты, но летели-то они решительно куда угодно, только не туда, куда их пускали. А для своих все же были эти ракеты опасны, и очень может быть, что черный грибник предупреждает людей и о последствиях экспериментов ВПК. Есть мрачный слух, что и построили здание университета над могильником ядовитых отходов. Так что повторюсь: грибник – вовсе не враг людям, может быть, он их спаситель.