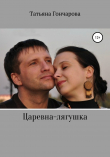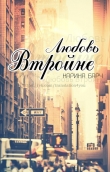Текст книги "Когда расцветут гладиолусы"
Автор книги: Андрей Малицкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
17-й лунный день
– Вы знаете, что общего между снегом и солнцем? – спросила Милена у незнакомого мужчины, трогая тонкими пальцами остывшее стекло.
За ним был синий лес, словно коктейль Blue Velvet, синее сапфировое небо и синий скрипучий фонарь. Мужчина казался равнодушным и немного бледным. Немного пожилым и уставшим. На безымянном пальце – свежая царапина. Простуженный нос. Свитер с растянутым горлом и петлями – одна выше другой. Глаза с желтоватыми белками. Или, возможно, его лицо так оттенял синюшный закат?
Он ответил… Нехотя, словно не ей:
– Нет ничего общего. Солнце – единственная звезда, основной источник энергии. Вокруг него скачут карликовые земли, большие миры и космическая пыль. Снег – это осадки, мелкие осколки льда. Вы, девушка, ничего не путаете?
Милена заправила волосы за уши, а потом, не поворачиваясь от стеклянной кальки, за которой пласт снега уже напоминал иранский ковер, объяснила:
– У них один общий дом – небо. В нем живут планеты-гиганты, двойные звезды, квазары и снежинки в затвердевших облаках. И то и другое высоко. И то и другое может быть низко. Очень низко, под самой полимерной подошвой башмаков. Вы же подставляете солнцу лицо, когда загораете, и топчетесь по солнечным зайчикам, когда делаете уборку в квартире? И выходите с непокрытой головой под легкую метель? А все формирует небо. Но ни на снег, ни на солнце я долго не могу смотреть. Болят глаза.
Мужчина поднял веки. Он не уловил сути сказанного. Просто заслушался музыкой слов.
– Девушка, вы так одухотворенно говорите, что мне даже захотелось вспомнить Есенина.
И прочел, глядя в теплую щель приоткрытой двери:
Ах, метель такая, просто чёрт возьми!
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутёвым сердцем я прибит к тебе.
Прочел и еще больше осунулся.
Они наблюдали мерцающую зиму с цокольного этажа санатория «Сольва» и ждали своей консультации по минеральным водам. Женщине было почти пятьдесят. Ему – шестьдесят два. На ней красный горнолыжный костюм и легкая куртка. Чистое лицо и огромные светящиеся глаза. В его глазах не было ничего: ни света, ни красок, ни тьмы. Она посмотрела в уголок его сердца и увидела там утрату. Утрату очень близкого человека.
– Первый раз здесь?
Милена резко отошла от окна, и запахло виноградными духами. Глеба обдало ароматом Изабеллы – самой любимой ягоды из детства, на которой всегда был инеевый эффект. Он даже не предполагал, что когда-то сможет есть ее в любое время года, не дожидаясь сентября. Только уже без той радости и ощущения чуда. И того вязкого пасленового вкуса.
– Да. А вы?
– А я здесь состарился.
– Тогда вы знаете все о Медвежьем урочище?
– Как сказать… Устаревший бугельный подъемник. Постоянно работают снежные пушки, не всегда успевающие превращать капли воды в снег. Плавный, пологий спуск, укатанный ретрактами, и на нем практически невозможно травмироваться.
– А что там есть веселого?
– Разве что ромовый пунш.
– Тогда я приглашаю вас сегодня вечером на ночную освещенную трассу пить пунш.
Она была женщиной, рожденной в семнадцатый лунный день. В день самых сильных женских энергий. И путешествуя, с помощью реинкарнации определила, что в прошлой жизни была гейшей, поэтому в нынешнюю перенесла много своих давних привычек. Ходила в сандалиях, украшенных бисером, не носила бюстгальтеров и с ног до головы обтирала себя коктейлями масел. А еще делала маски из зелени петрушки для зоны декольте. Баловала свое тело болгарской розой, купалась голышом в заброшенных гаванях, разрисовывала шкатулки, освоив технику декупажа, и делала кукол-мотанок в специально отведенные для этого лунные дни. А еще она умела наслаждаться всеми проявлениями жизни. Восхищалась эвкалиптовым морем, теплым пенным молоком, банановой веткой и птицами, взлетающими против ветра.
Милена жила в Крыму в деревне Красной, в которой до сих пор сохранился помещичий дом графа Чеботарева, построенный в стиле крымского рококо. Из-под зеленых куполов просвечивалась его трухлявая крыша, обильно усыпанная мхом, особенно в северной части, и стены с каждым годом все больше врастали в землю, как ноготь во внутренний край ногтевого ложа. Недалеко простиралось Сакское озеро с целебными грязями и Сасык-Сиваш – самое большое пересоленное, что в переводе с татарского означало «гнилое болото». Мила еще в детстве, выслеживая розовых фламинго, нашла там бусину из скифского ожерелья и с тех пор с ней не расставалась. Только меняла время от времени протирающиеся кожаные шнурки.
У нее был маленький уютный дом, доставшийся по наследству от бабушки, со швейной машинкой под смешным деревянным колпаком, со старинной керамикой и ставнями. И это был целый ритуал – вовремя открывать и закрывать ставни.
– Только приближается северо-восточный ветер – сразу закрывай ставни. Сохранишь в доме тепло и не дашь сильному воздуху сорвать их с петель. А еще не держи их открытыми в дождь – град может побить стекла. В самый солнцепек они служат для сохранения прохлады и защищают сочность тканевых штор.
В подобные минуты нравоучений Милена всегда цитировала Гумилева:
Сонно дрогнул камыш,
Пролетела летучая мышь,
Рыба плеснулась в омуте…
…И направились к дому те,
У кого есть дом
С голубыми ставнями,
С креслами давними
И круглым чайным столом.
Поначалу она послушно запирала ставни на защелку, но в темноте ее распирала тоска. Туда не могло просочиться жидкое, словно желтый вермут, солнце, и не мог пробежаться грубыми башмаками местный ветер-фен, высушивающий за несколько дней землю до твердости рождественского пряника. Не попадал туман и снег, рожденный на Северном полюсе. И ставни постоянно были настежь… И душа была настежь, и сердце не запиралось никогда.
Она всегда радовалась жизни. Даже когда осталась одна. Даже когда неделями во дворе серело от дождей. Она была счастлива просто жить и смотреть, как меняются ее дети, вырастая из историй знаменитого сказочника Дании. Как учатся любить тех, кого, кажется, любить невозможно, и прощать тех, кого немыслимо простить. И никогда особо не было денег, но она считала, что главное – это не дорогие наряды, а красивая обувь и длинные ухоженные волосы. Поэтому носила модные босоножки, а волосы красила иранской хной с добавлением желтка, меда и коньяка. В результате они стали тяжелыми, и их вес не могла выдержать ни одна заколка. Глеб потом не раз заставал ее бегающей во время сушки под порывами ветра, и часто сравнивал ее волосы с гривой дикой лошади, живущей в Лесах Духов.
Милена была медиком по образованию, но и в медицине проявляла творчество. Привычный белый халат украшала бирюзой, добытой в шахтах Ирана, смазывала руки оливковым маслом с добавлением мирры и начинала процедуру. Но не просто массаж, где на шею, предплечья, спину и бедра отводится десять минут, а массаж по стихиям. Она сканировала каждого пациента и говорила, что общее растирание здесь не поможет, так как в теле не хватает огня. И тогда включались саамские бубны, зажигались красные свечи, и стопы укутывались в красный шелковый платок.
Со временем разработала водный комплекс упражнений и по шесть часов не вылезала из бассейна. Она больше плавала, чем ходила, и шутила, что однажды ее ноги превратятся в серебряный чешуйчатый хвост. Затем перейдет на питание паром и начнет плести венки из осоки и древесных ветвей.
Милена жила на полную. Не страдала, что нет любви. Не гналась за отношениями ради отношений. Любила, прежде всего себя, свой дом, свой виноградник, низкий забор и вид из окна. А еще круглый год пользовалась Armani Acqua di Gio, в котором на равных с белым гиацинтом выступал мускатный виноград.
Глеб, напротив, был земным. Невысокого роста, подтянутый, серьезный. По утрам он делал зарядку, любил квашеную капусту, черный ржаной хлеб и картошку в мундире. И Милена ему казалась чокнутой в каждом своем слове, жесте и движении. Во время вечерней прогулки пила клубничный безалкогольный пунш, от которого шел розовый пар, и заедала его снегом.
– Что ты делаешь? Снег же искусственный.
– Нет. Он настоящий. Я чувствую.
А потом опускала руку в карман, который оттягивали зимние яблоки для лошадей, несколько зеленых бусин и маленький пучок чабреца, связанный белой ниткой.
Она его умиляла… Настораживала… Удивляла и притягивала. Голос ее сердца звучал громче разума. Казалось, у них ничего не получится. Взрослые, немолодые люди, прожившие разные жизни. Но они продолжали общаться, медленно прохаживаясь вдоль укатанного снега и рассматривая крупные чешуйчатые шишки.
– Глинтвейн?
– Разве сегодня семнадцатый лунный день?
– Ты о чем? Сегодня шестое декабря.
– Я о днях луны. Я пью подогретое вино только в день Шакти.
Глеб впервые слышал о том, что у Луны свой отсчет. Что существует календарь Майя, где в году восемнадцать месяцев по двадцать дней. И еще раз утвердился в своих сомнениях. Слишком экстравагантной была Милена. Странной и чудной. Он привык к другим женщинам. Земным и практичным. Хозяйственным и основательным. С сухими, неувлажненными руками, заусеницами и мелкими порезами от ножей и терок. К тем, кто каждый вечер моет вручную полы на кухне и ловко орудует ключом для консервации. А эта была легкая, как перышко. С большим ртом и темными глазами. Ее кожа без косметики отсвечивала розовым, и пахло от нее по-особому: головокружительной свободой, сильными ливнями, высокой по пояс травой и полынью. А еще она много хохотала. Он не понимал причины смеха и переспрашивал:
– Разве я сказал что-то смешное?
– Нет. Просто мне очень хорошо.
И все-таки нет… Слишком поздно. У него уже было две жены, и жизнь вошла в третий возраст. Не время для игр и флирта. Нужно подумать о достойной старости.
Он вернулся в свою пустую квартиру, откуда еще не выветрился запах лекарств, и долго сидел в кресле, не снимая тяжелых ботинок. В коридоре спорили соседи, слишком часто дышал запыхавшийся лифт, пахло смолой елок, а он все размышлял. А потом схватил телефонную трубку…
Поначалу они созванивались редко и общались, как приятели. Глеб слышал в трубке смех ее внука и шепот потемневшего от зимних потрясений моря. Он напитывался от нее, оттаивал, но не решался двигаться дальше. Ему постоянно казалось, что нужно жить не так. Не так беспечно, что ли. Более тяжело и озабоченно. Желательно трудно. И чтобы как подтверждение этому – обязательная носогубная складка. А эта женщина порхала, как бабочка, и имела другую жизненную философию, к которой он не мог привыкнуть и, казалось, не привыкнет никогда.
Его покойная жена была главным режиссером театра. Она практически жила на работе и часто не спала по несколько суток. И ей было совсем не до магии виноградных листьев.
Его мама много и тяжело работала в поле. Она полола кормовую свеклу и сахарную кукурузу, и поэтому к старости у нее перестала разгибаться спина. Глеб помнил, как она приносила из сарая теплые куриные яйца, а он прыгал, пытаясь их достать. Мама тогда поднимала вверх корзинку и, плача, прятала, собирая положенные сто штук для налога. Его сестры, измученные и рано поседевшие, обсуждали за столом сахарный диабет и левосторонний паралич, зажимая при этом рты носовыми платками. А эта – неугомонная, воздушная, постоянно танцующая. И он бесконечно задавал себе вопросы. Может, Мила пустая внутри? Да вроде нет, в ней – кладезь древних знаний. Может, она лишена способности сопереживать? Тоже не подходит. Глубине ее сочувствия могли бы позавидовать многие женщины. Как же она осталась такой уникальной? Как не слилась с общей серой массой в некий бесцветный коктейль? Как ее не сбили с ног жесткие советские законы? Глеб сушил над этим голову миллион раз, пока не услышал ее размышления в пластике телефонной трубки:
– Нужно жить, не цепляясь за прошлое, отпустив его без сожаления. Отпустив то, что придумано не тобой и не находит отклика в твоем сердце. Не стоит думать над правильным и неправильным, потому что таких понятий во Вселенной просто не существует. Каждый человек уникален.
Наступил февраль – месяц Фебрууса, и черные вороны начали строить гнезда. В последнее воскресенье перед Великим постом Глеб позвонил и попросил прощения. Милена услышала, что он просит не у нее, а у тех, кого уже нет на Земле, выбрав ее проводником. Признав в ней женщину, которая может свободно перемещаться в мирах. Она ответила, что там уже давно все простили. Он заплакал…
Она как раз жарила блины на рисовой муке, и Глеб услышал, как разливается тесто по раскаленной сковороде.
– Масленица?
– Масленица…
Март оказался никудышным и ничем не отличался от зимы. Он поздравил ее с Национальным днем цветных женщин, и Милена долго смеялась:
– Я не цветная.
– Ты даже не представляешь насколько ты цветная. Ты просто разноцветная!
В ее саду осторожно голубела сцилла. Холодное море уже позволяло принимать солнечные ванны. Расцвел персик и миндаль, и она прислала ему засушенную миндальную ветку.
У Глеба было много командировок, но всякий раз перед взлетом, находясь в аэропортах, он звонил:
– Привет, гейша. Мысленно склоняюсь над твоей тонкой кистью.
Милена слышала в трубке объявления о взлетах и посадках, о том, что закончилась регистрация на борт, следующий в Мюнхен, и смотрела, как сходит влага с виноградных полей. Ряды были ровными, словно прочесанными гребнем для волос.
– Чем ты занимаешься, красавица?
– Делаю цветочный настой. Так, ничего лишнего – щепотка яблоневых цветов, щепотка сушеных лепестков розы, немного жасмина и тимьяна. Потом все запарю и выпью перед сном.
Глеб сперва не понимал. Иногда раздражался. О каких цветах она говорит? Вот чай… Черный, зеленый. Иногда с молоком. Иногда вприкуску с кубиком сахара… А потом привык. И ждал от нее новых рецептов и новых рассказов. Она была для него, как Шахерезада – женщина, знающая сотни историй и сказок. Живущая по Луне. Рожденная в семнадцатый лунный день.
И он искал новые поводы для звонка.
– Мила, какой сегодня лунный день? Я могу запустить новый проект?
Иногда она разрешала, иногда просила подождать день или два. Говорила, когда нужно стричься, а когда идти с партнерами в баню. Часто в день Облака просто молчала и воздерживалась от советов.
– Спроси у своего сердца.
В День Раковины не брала трубку.
Он подолгу с ней разговаривал перед сном, разглядывая суетливые окна. Рассказывал о своем вечере и делился планами на ближайшее утро. Он засыпал с трубкой в руке и зачастую с ней же и просыпался. Но в гости не звал и сам не ехал.
А она ждала. Терпеливо. Молча. Без упреков. Наблюдая, как цветут белым виноградники, и чуть дальше поднимают головы маки. Как в кувшине киснет молоко, и прыгают круглые испанские воробьи с черным горлом.
Так прошла зима, весна, и наступило лето. В Киеве было жарко. В Крыму давали тень сосны, растущие на скалах. В Киеве закипал асфальт. В Крыму было холодным дно моря. Глеб приехал на выходные и остановился в отеле. После обеда они встретились на набережной и долго стояли молча.
– Тебе не больно ходить?
Милена посмотрела на свои голые ступни, рассмеялась и с разгона прыгнула в воду. На ней был классический цельный купальник с ассиметричным вырезом. Белый спандекс с золотом подчеркивал тонкую талию.
– Как тебе удалось сохранить такую форму?
– Я проплываю до десяти километров в день.
– И это все?
– Нет, еще я не готовлю…
Она совсем не умела готовить. Так, легкие блюда, типа овощных и фруктовых салатов, а еще фреши из тыквы и сельдерея. Только долму – голубцы на виноградных листьях – она готовила очень вкусно и с удовольствием. И это был целый ритуал. Нужно было встать до восхода, чтобы солнце застало в пути. На рынке успеть купить самую свежую баранину, с которой еще скапывает теплая кровь. Нариман, маленький крымский татарчонок без двух передних зубов, всегда оставлял для нее лучший кусок мяса.
– Красавица, роскошная женщина, будешь готовить плов?
Милена отшучивалась, накручивала на палец локоны и шевелила пальцами в легких сандалиях.
– Бери этот кусок. Не пожалеешь. Он еще теплый. Барашек даже не успел испугаться.
Для начинки она брала короткозерновой рис арборио, несколько луковиц, баранину и зелень: базилик, мяту, укроп и кинзу. А еще немного измельченной зиры с легким ореховым вкусом. Для соуса – только натуральный йогурт и несколько зубчиков чеснока.
Вскоре Глеб прилетел еще раз… Потом еще… Милена не задавала вопросов и никак его не ускоряла. Встречала в аэропорту с прохладной бузой – традиционным татарским напитком. Он пил рисовую шипучую жидкость, а она говорила неизменную фразу:
– Добро пожаловать в Крым!
Они гуляли по набережной и смотрели на мускатный закат. Выгоревшее за лето море понемногу теряло свою бирюзу. Бродили по гальке, перебранной сто раз, и отдыхали на прохладных скамейках. Глеб обожал бархатный сезон.
– А знаешь почему он называется бархатным?
Глеб ответил общепринятыми фразами:
– Наверное, потому, что созрели инжирные персики с дынями, нет такой изнуряющей жары, и море достаточно хорошо прогрелось.
– А вот и нет! – Милена засмеялась, и у нее затряслись плечи. – Еще перед Первой мировой войной в период позднего лета сюда съезжалась интеллигенция в составе художников и поэтов. То есть люди свободных профессий, предпочитающие для вечера бархатную одежду. И набережная заполнялась щеголями, одетыми в бархатные, слегка помятые жилеты и такие же укороченные брюки. Они пили легкое вино днем и портвейн вечером.
Он смотрел на ее сияющее лицо.
– У тебя редкое имя.
– Да нет, оно коренное, старославянское. Еще иногда меня называют Милана, реже – Милада…
Мимо проплыли неугомонные туристы на каяках, продолжая свой водный поход. Всполошились пешие чайки. Матовые сосны, зажатые в скалах, постанывали, и зацвел вторично безвременник осенний.
– Завтра доспевает виноград. Приходи с самого утра.
Виноградники, полные розовых, белых, бледно-зеленых, синих и практически черных восковых ягод, тяжело дышали. Ближе к земле росла курчавая петрушка. Уже отошел Жемчуг Саба и крупный Кардинал, величиной со среднюю сливу. Над кустами висело облако антраниловой кислоты, той самой, что участвует в создании клубничного и жасминового аромата. А еще бергамота и иланг-иланга. Луна уже начала свой семнадцатый часовой отсчет. Ее свет делал ягоду прозрачной, и можно было отследить, сколько болтается в ней желейного сока.
Милена водила его между кустами, показывая сорта…
– А это сорт Черная магия. Он ранний, созревает в середине августа. Ягоды хрустящие, плотные, насыщенного черничного цвета, и я по одной добавляю в вино – для волшебства. Он может выдержать до двадцати четырех градусов мороза, и ему не страшны никакие вредители: ни серая гниль, ни оидиум.
Глебу казалось, что он смотрит какой-то романтический фильм. Он тогда еще не знал, что это тоже жизнь, только немного другая. Она бегала и трогала листья. Они шуршали, словно пальмовые веера.
– Это поднимает настроение.
На ограде была нарисована виноградная гроздь. Он заинтересованно посмотрел.
– Так делали в древнем Риме, чтобы сад лучше плодоносил.
– А что еще делали в древнем Риме?
– Носили девять дней девять виноградных листьев.
– И что будет?
– А будет сюрприз.
Милена подняла чуть выше юбку, оголив загорелое упругое бедро. К нему была привязана сморщенная зелень, напоминающая мятую тафту.
– Сегодня как раз эти девять дней истекают. И приехал ты…
Они вместе собирали виноград, дождавшись ухода росы. Внутри ягод уже стали коричневыми косточки, подчеркивая зрелость. Она учила его правильно срезать гроздья секатором, не прикасаясь к плодам, чтобы не повредить восковой налет. Часть решили хранить в парафине, а часть использовать на вино.
– Снимай обувь.
Милена принесла таз с водой, которая стояла на улице с вечера и зарядилась лунным светом. Она была теплой.
– Мы будем давить вино ногами?
– Уважающие себя виноделы давят виноград только ногами. Так мы не сможем повредить косточки, дающие горечь, и винный букет будет намного лучше.
Она опустилась на колени у его ног. Стала мыть стопы, затрагивая все активные точки. А когда ноги были сполоснуты и насухо вытерты, Глебу показалось, что он чувствует ими движение многолетних трав и мягкость кашемировых солнечных лучей.
Они стали в деревянные бочки. Послышался треск лопнувших ягод. Красный сок забрызгал щиколотки.
– Чувствуешь?
– Что?
– Как уходит волнение, и как ты становишься единым целым с вином?
– Кажется, да.
У Глеба было ощущение, что он бежит по мокрому песку.
– Процесс брожения ускоряется от человеческого тепла. Машина это не сможет повторить.
Пахло ранней осенью. Милена двигалась так, словно танцевала ритуальный танец. Он наблюдал за движением ее бедер и готов был пить виноградный сок прямо из-под ее ног.
– Раньше люди выстраивались по шесть-восемь человек, клали руки на плечи друг другу и ходили взад-вперед под музыку флейты…
Глеб, разнеженный голосом Милены и запахами земляники, ананаса и черной смородины, идущих от спелых гроздьев, спросил:
– А как здесь выглядит октябрь?
Милена засмеялась. Эхом подхватили холмы.
– Краснеют листья и становятся, как кораллы. Зацветают крокусы. Сасык-Сиваш превращается в ярко-розовый, и в нем начинают добывать соль.
Глеб посмотрел на сухую землю с острыми углами.
– Мила, а почему ты не носишь обувь?
Она чуть задумалась и ответила, что ей нужно чувствовать землю. Залежи яшмы, родонита и гороховой руды.
К ней подбежали веселые соседские собаки с пыльной шерстью и сильными лапами.
– Бегите к себе. Слышите? Поиграем позже.
Собаки вильнули хвостами и побежали за сарай.
– А знаешь, что для одной бутылки вина требуется ровно шестьсот ягод?
– Не может быть!
– Точно тебе говорю.
И потом, когда он прикоснулся к ее губам, напитанным за многие годы соком, когда ее обворожительная грудь стала неприкрытой, когда он понял, что нет мягче ложа, чем теплая крымская земля, и что он желает эту женщину, как ни одну другую – она успела ему шепнуть:
– В легендах все перепутали. Не яблоко было плодом искушения, а виноградная лоза…
После этого виноградного уикенда Глеб позвал Милу к себе. Жить.
Киев, по традиции, его отрезвил. В него никак не вписывалась ее крымская магия. Глебу опять стало казаться, что она здесь не уживется и что ее место там – среди самого большого тюльпанного поля, в котором выделяется Верона с тридцатью шестью лепестками. Среди лаванды, уменьшающей гравитацию, и перекати-поля. А в большом городе свой порядок: слишком быстрый транспорт с безжалостным прессом колес, озабоченные лица женщин в пиджаках и строгих офисных блузках. Что здесь не может прыгать солнце, как мяч, и нельзя лежать на траве, щупая ее лопатками. И вино здесь лишено игривости. Оно разливается в правильные бокалы и пьется во время делового ужина согласно этикету: красное – к мясу, белое – к рыбе, сладкое – к десерту.
Переезд дался очень сложно. Глеб сидел спиной к двери кладовки, не в силах смотреть, как она расставляет свои туфли. Он физически не мог этого выдержать. Его убивал шелест упаковочной бумаги, ее болтовня и огромные глаза, как у любопытной стрекозы. Вдруг стало очень страшно, и вернулись прежние сомнения, что он не готов. Что все случилось слишком рано. Что поздно для любви. Милена почувствовала его напряжение, но продолжала развешивать эластичные трикотажные платья. А потом затаилась. Стала невидимой. Молчала несколько дней, сонастраиваясь с ним, его ритмом и его домом. Все размышляла, как безболезненно и незаметно просочиться в стены, не переставив даже фоторамку из каленого стекла и не зацепив полку с книгами, пластинками и в беспорядке сложенными бумагами. Не поменяв местами кофейный сервиз с чайным. Не перепутав запах и цвет постельного белья.
Всюду были портреты его бывшей жены. В шкафу теплыми рядами висели шубы из коротко стриженой норки, вечерние платья для театра, и стояли сапоги без каблуков на каждый день. Вместительные сумки-постер на балетные темы и бежевые от Chanel. Рубиновые ремни и пара серебряных браслетов. И тогда Милена поняла, что нужно знакомиться. Знакомиться с человеком, который продолжает здесь жить и диктовать погоду, избавляясь от ревности к женщине без тела. Поэтому, когда Глеба не было дома, Мила присела перед ее изображением:
– Ну, здравствуй.
Они смотрели друг на друга без злости и разъедающей зависти. Не соперницы. Скорее соратницы.
– Поговорим?
Женщина с портрета улыбнулась и подалась чуть вперед:
– Давно пора.
– Я его люблю так, как любила ты. Так, как любили все до меня.
– Я его тоже продолжаю любить.
– Я не гоняюсь за легкой старостью, не преследую цель поменять Крым на Киев. Да и как можно сравнить эти два края? Просто испытываю чувства нежности и уважения. Ведь любовь нельзя придумать или сочинить. Она – некая святость, равносильная чуду.
Милена перевела дыхание. Из глаз текли слезы и собирались в ложбинке между грудями. Глаза на портрете тоже были влажными.
– Он тебя помнит. Глеб так долго решался – практически год. Каждый вечер он закрывается в кабинете и молчит. Я знаю, что он молчит не один. Он молчит с тобой. И только потом выходит, снимает рубашку и просит меня достать запонки из рукавов.
– Раньше это делала я.
– Извини.
– Не стоит.
– Он только вчера решился раздать подругам твои шубы. Шубы, которые вы покупали вместе в Берлине и Риме. Достал с верхней полки жесткое пальто из меха ламы и норки. Итальянская поместилась в маленький пакет. Обувь обещал отвезти педикюрше, так как та всегда хвалила твои стопы и модельные сплетения кожи с правильно пришитыми подпуговицами. А еще он каждый месяц смотрит в театре один и тот же спектакль «Бабье лето» Айвона Менчелла. И на могилу твою ходит по воскресеньям, задолго до звона храмовых колоколов. С цветами, названными в честь мужчины. Я раньше не любила герберы, а теперь люблю.
– Они долго стоят. Почти месяц, если не лить в вазу много воды.
– А мне больше нравятся полевые: скромные васильки и мышиный горошек.
– Ты просто не была в Кекенхофе…
Они поговорили о почве для герани и обменялись рецептами песочного печенья. Посмотрели новости на Первом канале и выпили немного апельсинового чая. Женщина с портрета рассказала Милене о достоинствах и странностях Глеба, попросила выбросить ее духи, так как у них состарился запах, и открывать шторы, чтобы в доме было больше света. А в конце – убрать в угол комнаты ее портрет и больше не приставать с разговорами.
– Пусть это останется преимуществом Глеба, а ты просто его люби. Любого: замкнувшегося в себе, обидчивого, ранимого и суетливого по утрам. И не бегай к нему, когда он делает зарядку. Не любит он этого.
С этого дня все пошло по-другому. Они поменяли квартиру и поселились в новостройке. В доме была круглая кухня без единого угла, вязаная скатерть и много приятных мелочей. В большом коньячном бокале – сушеные ягоды шиповника, березовые щепки и цветы. В банках хранился особый зверобой, худая мелисса и шалфей. Всюду пахло спелостью и конфетным шоколадом.
Они искренне друг друга любили. Словно малые дети и великие мудрецы. Их поздние чувства напоминали крепкие напитки и густой арбузный сироп. А еще пищу воинов – чурчхелу.
Милена танцевала голой по квартире и напитывала паркет, гобеленовые стены и книги в кожаных переплетах своей энергией. Она танцевала с бамбуковыми палками и веерами из лотоса. Любовалась работой Ольги Ивановой «Терпкий виноград» и картиной Ивана Скоробогатова, на которой женщина в белой широкополой шляпе тянулась к зеленым гроздьям. Потом в их коллекции появился «Полдень» и «Солнечный блюз».
В День святого Валентина Глеб пришел домой с деловым партнером.
– Мила, – крикнул с порога, – покорми нас.
Она вышла в длинной тунике. В одной руке был подарок в блестящей фольге, во второй – букет красных тюльпанов. На столе стояли свечи вперемешку с мелкими, похожими на мимозу, цветами. Партнер стал мяться в двери и хлопать себя по лбу.
– Глеб Борисович, сегодня ведь День всех влюбленных. Как я мог забыть? Неловко так получилось. Я пойду.
Но Милена решительно взяла за руку и провела к столу.
– Все, кто входят в наш дом, – желанные гости. Все, кто появляются в нашем доме, – должны в нем быть. А сегодня особенно.
У Глеба никогда не было подобных сюрпризов. На тарелке лежали песочные валентинки, облитые белым и черным шоколадом. В центре – салат с креветками и фруктами.
– Мила, что здесь?
– Манго, груша, грейпфрут, лайм, лимон и мед.
Слева разместились маленькие бутерброды с авокадо. А потом она открыла духовку, и появилась долма – первое блюдо, которое он попробовал из ее рук. И запахло любовью и ее глубочайшей душой с тонким шлейфом перечного паслена…
Глеб прожил шестьдесят лет, как было принято. И только подступив вплотную к зрелости, он взял на себя смелость жить так, как хочет сам.
Легко, будто по нотам ноктюрна…
Беззаботно, словно пребывая в невесомости…
Ярко… Сплетая солнце и снег в один клубок…
Вместе с любимой женщиной… С Миленой…