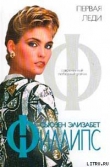Текст книги "Первая женщина"
Автор книги: Андрей Кутерницкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XI
Пионерлагерь «ЗАРНИЦА» в четыре шеренги был построен на центральной площади. Длинную колонну начинали на одном конце младшие – совсем еще дети, восьми-девяти лет, мальчики крохотного росточка, стриженные наголо или под полубокс, девочки с тощими косичками, с бантиками, поджавшие от волнения губки, и завершали на другом конце старшие – усатые дылды-молодцы с нахальными лицами, одетые во фланелевые клетчатые рубашки и брюки, затянутые на осиных талиях узкими ремешками из кожзаменителя, и грудастые девицы с прическами и с серьгами в ушах. И колонна медленно повышалась от младших к старшим.
Выставленные на всеобщее обозрение, мы с Горушиным стояли перед колонной, повинно опустив головы.
Между нами возвышался высокий костистый Меньшенин с потемневшим от болезни лицом в тонких вертикальных морщинах. Меньшенин говорил речь. И мы, глядя исподлобья на громадный человеческий строй, устало переминались с ноги на ногу в ожидании своей участи – быть примиренными.
Наконец длинными руками-граблями он охватил нас за плечи и приблизил друг к другу.
Плохо соображая что надо делать, но помятуя его просьбу, мы братски обнялись.
И сразу, меня за левое плечо, а Горушина за правое, Меньшенин развел нас в стороны.
– Я уверен, подобное не повторится в нашем лагере! – торжественно провозгласил он и, подтолкнув нас в спины, скомандовал: – Встать в строй!
Когда после подъема флага я возвращался в корпус, я боковым зрением следил за тем, как параллельно мне, не отставая от меня ни на шаг, молча идет Горушин. На повороте у клумбы он искоса глянул на меня и процедил, кривя губы:
– Я тебя, падлу, убью, только рука заживет!
Понизовский стоял на крыльце барака возле входной двери и смотрел, как я к нему приближаюсь. Было очевидно: он торчит здесь не одну минуту, и единственно для того, чтобы раньше других приветствовать меня. Когда я поравнялся с ним, он выкинул вверх крепко сжатый кулак и крикнул:
– Но пасаран!
Старшие встретили меня многоголосым нарастающим возгласом «О-ооо!», который прокатился по всему бараку, окружили кольцом и наперебой стали расспрашивать, где я ночевал, чем занимался всю ночь, как себя вел Меньшенин и не требовала ли Вера, чтобы меня немедленно выгнали из лагеря. Болдин долго тряс мою кисть сразу обеими руками. Карьялайнен подвел к своей тумбочке, открыл дверцу и, ткнув пальцем в мешок из толстой серой бумаги, в котором у него хранились глазурованные пряники, сказал, что я могу брать без спроса. Для него это была большая жертва. Однажды я заметил, что он их пересчитывает, когда куда-либо уходит, и снова пересчитывает, когда возвращается. Он съедал не более одного пряника в день, откусывая передними зубами по крохотному кусочку, и чем-то походил в эти моменты на кролика. Все радовались концу власти Горушина, говорили о нем дерзости, смеялись над ним, хотя еще вчера никто не посмел бы произнести вслух ничего подобного. И наконец перед самым завтраком Елагин отвел меня в сторону и, глядя на меня яркими синими глазами, театрально произнес:
– Преклоняюсь перед смелостью поступка, но удивлен выбором!
В суете утра я не сообразил, что он имел в виду.
Столовая, как и барак, встретила меня восторженным гулом. Меньшенин гневно глянул на орущих, но ничего не смог поделать – желание поорать охватило все столы, и пока я шел по проходу, гул не прекращался.
Я сел на свое место, стараясь не смотреть ни на кого, особенно туда, где находились девочки.
Справа и слева я слышал свою фамилию.
Я глотал горячий чай и чувствовал, как дыхание мое замирает.
«Так вот в каком непрерывном счастье жил Слава Горушин!» – мелькали в моей голове быстрые шальные мысли.
Вдруг я поймал себя на том, что улыбаюсь кривой улыбочкой и одновременно вижу ее со стороны на своем лице. Улыбочка была так нехороша, что я сразу понял: нельзя, чтобы они увидели ее. Она выдаст им обо мне что-то постыдное, что я никак не хотел бы, чтобы они обо мне узнали. Я попытался согнать ее с лица, но против воли она вновь выпрыгнула на мои губы.
Я встал из-за стола и пошел к выходу.
И как только я вышел из столовой, улыбочка исчезла.
В корпусе было пусто. Я лег на свою кровать и стал смотреть в дощатый потолок. Он был покрыт толстым слоем белой краски; древесный узор не проступал сквозь нее.
Минут через десять начали возвращаться с завтрака старшие.
Я подумал, что опять услышу разговоры о себе, но мальчики говорили о футболе – на одиннадцать утра был назначен товарищеский матч с командой соседнего лагеря, и они собирались пойти посмотреть этот матч и, главное, на тех парней, которые должны были приехать к нам.
Я поднялся с кровати и пошел в лес.
Пройдя по главной аллее до конца, я увидел на окраине лагеря Горушина. Он сидел в одиночестве на скамейке. И хоть он и был в солнцезащитных очках, поза, в которой он сидел, сгорбясь и положив руки локтями на колени – на левой руке белел марлевый бинт, – была задумчивая и жалкая. Впечатление это усиливалось еще тем, что скамейка была длинной, а он сидел на ней с краю.
Я сунул руки в карманы брюк, как он сделал это после того, как избил Болдина, и нарочно замедлил шаги.
Я был уверен: он не станет мстить. Он боялся меня, хотя и прятал свою боязнь за молчанием и ненавидящим взглядом. Его боязнь и неуверенность в себе выдала фраза, которую он сказал после нашего примирения перед строем: «Я тебя, падлу, убью, только рука заживет!» Это добавление: «Только рука заживет!»
Я прошел возле самых его ног, но он даже не поднял головы.
Лес был тих и ярко пронизан солнцем; на траве сверкал лишенный коры сушняк, и меж стволами, если проглядывать далеко вперед, висела голубая дымка, как дым от костра. Я кружил по нему не менее сорока минут, пока не вышел на ту поляну, где стояла баня. Ночью, в шумящей тьме ливня, озаряемая вспышками молний, поляна показалась мне очень большой. И лес вокруг нее – густым и непролазным, уходящим в дикий дремучий мир; помню, мне вдруг представилось, что если мы пойдем по нему дальше, то заблудимся и будем плутать в его дебрях вечно.
Теперь я увидел другое. Поляна была мала, правильной круглой формы, а лес сразу за ней начинал редеть, просвечивал и обрывался, и за ним открывалось широкое пустое пространство, засеянное картофелем. Баня стояла не в центре дремучего леса, не в удивительной и страшной сказке, а почти на опушке. И сама баня была старая, неказистая, как бы одним краем присевшая к земле. Крыша ее местами поросла серым с желтизною мхом. Ночью, сплошь покрытая струями бегущей воды, она ярко зажигалась во тьме всею наклонной плоскостью.
Я осторожно толкнул дверь.
Дверь была заперта.
Тогда я заглянул сквозь стекло в маленькое окошко.
«Сейчас я увижу там себя и Веру, как мы сидим рядом на нижней полке, соприкоснувшись бедрами и плечами!» – подумал я.
Но в замкнутой полутьме я смог различить лишь каменку и на перекладинах под потолком – висящие березовые веники.
Маленький темный домик хранил внутри себя какую-то важную тайну обо мне, но не хотел мне открыть ее, как не хотел открыть дверь и впустить меня.
С чувством неясного, но остро ощутимого стыда я отошел от окошка.
Она оказала: «Не ищи встреч!»
Что значит «Не ищи встреч!»? Совсем не искать? Никогда?
Она сказала: «У нас сегодня ничего не получится».
Только сегодня? А завтра все будет по-прежнему?
Внезапно я вспомнил, как ночью она ударила меня по лицу, и я не смог сдержать слезы. Ее испуганные злые глаза, чернота неба, огни лагеря за деревьями – подробно возникли в моей памяти.
И опять я шел по лесу. То охватывало меня смутное томление, и будущая жизнь с Верой рисовалась мне так зримо, что я как бы слеп и начинал спотыкаться о корни деревьев и пни, то сильнейшее отчаяние наваливалось на меня, и я понимал, что все между нами кончено. Тугая паутина цепко облепила мое лицо; я остановился, сорвал ее с губ и бровей и с каким-то странным удивлением вдруг подумал:
«Скоро лето кончится. Осталось две с небольшим недели. Как же тогда быть?»
Я взошел на гору над озером, сел в можжевеловых кустах, откинулся на спину на траву и заложил руки за голову.
Не помню, в какой момент я уснул, но вдруг сквозь сон я почувствовал: кто-то сидит вблизи меня.
И я сразу понял: Вера!
Я уловил ее дыхание! Она была рядом со мной!
Не открывая глаз, уже совершенно проснувшись, я слушал шелест листьев в мягком теплом ветре и крики детворы с озера и, затаясь, ждал, когда она приблизится ко мне и коснется моего лица прохладными нежными пальцами.
«Сейчас! – говорил я себе. – Еще мгновение!»
Глаза мои раскрылись сами собой, и я увидел облака. Они двигались в глубине неба слева и справа надо мною, а потом одно из них проплыло прямо над моими глазами, и от его движения у меня появилось чудесное ощущение, будто мир перевернулся, и не я лежу под летящими облаками, а они летят далеко подо мной в безграничной бездне.
Испытывая сладкое головокружение, я посмотрел вбок и увидел шагах в пяти от себя Лиду.
В пышном розовом платье с оборками и с большим черным бантом в волосах – наряд, который она надевала только на танцы, – она сидела вблизи меня на холмике и читала книгу.
Она оторвала взгляд от страницы и повернула лицо ко мне.
– Ты не знаешь, сколько сейчас времени? – спросила она.
– Что?..
Я запнулся.
– Сколько сейчас времени?
Ее серые глаза казались голубыми, так густо она накрасила ресницы голубой тушью.
– Я... не знаю, – ответил я.
– У тебя же часы на руке!
Я приподнялся на локтях, посмотрел на свою руку, потом тряхнул головой, стараясь избавиться от тяжелой мути обмана. Я никак не мог прийти в себя. Я вдруг почувствовал, как сильно земное притяжение придавило меня к земле.
– Какой ты смешной! – сказала Лида, робко улыбнулась, взглянула на меня испуганными глазами, вскочила на ноги и бросилась бежать по гребню горы, по-девчоночьи раскидывая в стороны полные белые икры.
XII
Эта военизированная игра имела такое же название, как и лагерь, – «Зарница». Ее проведение было обязательно для всех пионерских лагерей.
К счастью, старших не заставили, как младших, с игрушечными пистолетами и деревянными автоматами брать приступом обыкновенный пригорок, крича при этом «Ура!», а вся она свелась к разнообразным спортивным состязаниям и более походила на тренировку спортсменов-туристов.
– Стране нужны мужественные защитники! – сказал Меньшенин перед ее началом.
Состязания по метанию гранаты провели на лагерном стадионе до обеда. Мы по очереди метнули окруженную для тяжести стальным цилиндром деревяшку, лишь отдаленно напоминавшую настоящую гранату. Под самый конец один из мальчиков нашей группы – розовощекий веселый армянин Армен, то ли от неумения, то ли от волнения метнул ее не на пустое поле стадиона, а вбок, так что она полетела прямо в физрука, который стоял там со своим любимым секундомером, всегда висящим у него на шее на ленточке, и с раскрытым журналом в руках, куда он заносил показания наших бросков. Физрук диким прыжком отскочил сразу на три метра, выронив в полете журнал и авторучку, и бухнулся на траву. Когда он поднялся на ноги и посмотрел на Армена – бедный Армен застыл, весь подавшись вперед и раскрыв рот от страха, – глаза физрука были полны такой лютой ненавистью, что нам почудилось: он сейчас размажет Армена по земле. Он сразу же пустил свой секундомер и приложил его к уху. Но тут Меньшенин пришел Армену на помощь. Громко крикнув нам: «Прекратить смех!» – он обнял Армена за плечо и, развернув его лицом в нашу сторону, сказал:
– Если бы это случилось в боевых действиях, ты бы сейчас уложил насмерть половину своих товарищей. Ты понимаешь это? Здесь твои помощники. А враги у тебя где? Впереди! Вон где враги!
И он направил выставленную вперед руку, а на ее кисти еще выставленный указательный палец на пустое футбольное поле.
Единственным, кто не участвовал в игре, был Горушин. Он с утра совсем сник, всех сторонился, и, как я с самого начала смены уходил от лагеря со своими мечтами и тайнами на гору над озером, так теперь он удалился от него со своей обидой в конец аллеи к самому лесу и сидел там в одиночестве на последней скамье, злой и несколько сбитый с толку, надувшись, как филин. Он теперь все время носил солнцезащитные очки. Я понял почему: он не хотел, чтобы видели его глаза.
День начался светло, прозрачно. Оранжевым блеском сверкал среди бараков корпус лагерной столовой, в тени было холодно, на солнце жарко, и звонко вразнобой пели птицы.
Еще рано утром, быстро пройдя мимо гаражного дворика, я увидел возле ворот серый запыленный грузовик с большим ящиком в кузове. Но самого Кулака не встретил – он, очевидно, отдыхал после бессонной ночи, проведенной за рулем.
Я вернулся в барак и залез под одеяло.
«Как могло случиться, что я вчера принял Лиду за Веру? – Я снова вспомнил момент моего пробуждения и то светлое ощущение, которое сразу возникло в моем сердце. – Может, это произошло оттого, что я не совсем проснулся? Но когда я смотрел на облака, я уже не спал. Или вокруг всех женщин что-то особенное сосредоточено в воздухе?»
Ночью я долго не мог уснуть, все думал о Вере, о том, что она одна у себя, и мне приходили в голову безумные планы – пойти кинуть в стекло ее окна маленький камушек, чтобы она, услышав его стук, проснулась и вышла ко мне. Желание мучительно жгло меня. И я не знал, как мне погасить этот огонь. Потом что-то случилось, странное, необычное, и я пошел вдоль кромки вод, припоминая с радостью, что эти воды – океан, хотя я никогда не видел в своей жизни настоящего океана, пошел по белому, раскаленному на солнце песку, погружаясь голыми ступнями в его сыпучее вещество, и прохладные голубые волны накатывали на мои ступни, покрывали их шипящей пеной и возвращались в океан... Я проснулся до горна, и, едва открыл глаза, волнение охватило меня. Я оделся и пошел посмотреть, приехал ли Кулак. Сам не знаю почему, но я ждал его. Однако увидел я его только после обеда. В три часа дня руководитель по физическому воспитанию явился к нам в корпус и, собрав всех вместе, повел в лес, где должно было состояться второе состязание.
Овраг представлял из себя глубокую трещину в приподнятой над низиною возвышенности, поросшей хвойными и лиственными деревьями. Словно неведомый титан ударил в этом месте в землю гигантским топором и краем его лезвия оставил в ее рельефе отметину. Два боковых склона оврага были крутыми, а третий, торцевой, полого опускался к узкому дну, по центру которого вилась, то появляясь, то исчезая, утоптанная тропинка.
Мы приблизились к нему со стороны низины, вошли внутрь сумрачного узилища, и тут я увидел Кулака. Освещенный густым солнцем, он стоял надо мною на левой стороне оврага рядом с Верой и двумя пионервожатыми из младших групп, а на другой стороне стояли Меньшенин, кухонный рабочий и медсестра. Впервые я увидел Веру и Кулака вместе, друг возле друга, и мне почудилось, что он все знает обо мне. Впечатление это усиливалось еще оттого, что я смотрел на них снизу вверх.
Над впадиной оврага от одного склона к другому был натянут канат.
Растянувшись цепочкой, во главе с физруком мы шли по тропинке в густых папоротниках по прохладному дну оврага, под далекими ветвями больших деревьев, под канатом, и Кулак и Вера медленно летели надо мною, освещенные солнцем...
– Это нам по канату надо будет перебираться? – тихо спросил меня Елагин.
– Наверное, – ответил я.
– Я боюсь высоты, – сказал он.
Я не ответил, мысли мои были заняты другим: зачем здесь Кулак? И все остальные – в таком количестве.
Постепенно дно повышалось, мы поднимались по торцевому склону все выше, пока не оказались на одном уровне со стоявшими наверху.
В нерешительности скучились мы возле дерева, за которое был привязан канат.
– С детства боюсь, – сознался Елагин. – Может, слинять незаметно?
Физрук выстроил нас в две шеренги.
Я исподлобья поглядывал на Веру и на Кулака.
Вера смотрела на наши шеренги, но взгляд ее не различал меня в общей массе старших. Кулак курил сигарету и улыбался.
– Слиняю, – прошептал Елагин. – Если меня спросят, скажи, что у меня разболелась голова. – Он подумал и добавил: – И поднялась температура.
– Бояться ничего не надо, – говорил тем временем физрук. – Канат надежно закреплен и может выдержать груз в полтонны. Надеюсь, таких тяжелых среди вас не найдется.
Он засмеялся, словно сказал остроту.
Нам ничего не оставалось, как невесело хохотнуть в тон ему.
– Кроме того мы с Володей, – он указал на Кулака, – будем тщательно страховать каждого, а руки у меня и у него, как вы знаете, крепкие.
Самое страшное, что сразу пришло мне в голову, едва я увидел их всех на кромке оврага, подтвердилось: меня, который обесчестил Кулака, будет страховать Кулак, а присутствовать при этом будет Вера. Ничего нельзя было придумать унизительнее. Если только это случится, я навсегда потеряю ее, я не смогу даже приблизиться к ней. Я это ясно понял.
– Начнем!
Физрук глянул на часы.
– Добровольцы есть?
Все молчали.
– Добровольцев нет. Тогда – по списку!
И он начал выкрикивать наши фамилии в алфавитном порядке:
– Александров! Бабаян – приготовиться!
Александров – разбитной парень с широкими плечами и непропорционально короткими и кривыми ногами, толстыми в икрах, небольшого роста, черноволосый, подстриженный ежиком. Глаза у него серповидные, как у северных народов, живущих в тундре.
Улыбаясь, он вышел из строя и спустился по склону к Кулаку, который занял там свое место.
Кулак стал надевать на него монтажный пояс, служивший страховкою, прикрепил пояс к ролику на канате, два длинных страховочных конца перекинул крест-накрест через канат, один конец дал физруку и легко приподнял Александрова сильными руками.
Александров взялся за канат, охватил его ступнями и, страхуемый Кулаком и физруком, стал рывками по-обезьяньи продвигаться к другой стороне оврага.
Его встретили Меньшенин и кухонный рабочий.
– Молодец! – громко сказал с той стороны Меньшенин. – Видите, не так страшен черт, как его малюют.
Александров повернулся ко всем нам и, широко улыбаясь и щуря и без того узкие глаза, поклонился, словно певец на эстраде.
– Бабаян! – провозгласил физрук. – Приготовиться Болдин!
– Армен! Не забудь, враги у нас впереди! – крикнул из шеренги Понизовский.
Физрук строго глянул на него и сказал:
– Твоя очередь – тоже.
Армен с трудом подтянулся на руках, обхватил канат ногами, лицо его от натуги стало красным.
– Нет, не могу! – сказал он.
Кулак подтолкнул его под толстый зад.
– Я удержу! Не упадешь!
– Нет! – прошептал Армен. – Лучше я не буду позориться.
– Если боится, заставлять не надо! – сказал через овраг Меньшенин.
Болдин полз во канату долго, мучительно, закусывал губу, строил на лице гримасы, и Кулак и физрук усердно страховали его.
Боковым зрением я поглядывал на Веру. Какая чужая она была сейчас! Говоря с Кулаком, она говорила ему «ты». Она не могла говорить своему мужу «вы». Но как болезненно было мне видеть ее, так близко к нему стоящую, и чувствовать, что их сближает вся прожитая ими без меня жизнь, они муж и жена, а я посторонний, лишний, я чужой для нее, и сейчас в доказательство этого я буду унижен им при ней! Он, так же как и на Армена, наденет на меня страховочный пояс, так же подсадит, обхватив, как котенка, сильными руками, подтолкнет под зад, весело крикнет «Пошел!», и Вера будет смотреть на этот мой позор.
Светлая головка ее сверкала на солнце. Я видел ее красивую фигуру в летнем платье, крепкие, золотистые от загара, обнаженные по плечи руки, и от этой ее женской силы и женской красоты и оттого, что она принадлежала ему, она казалась мне еще более привлекательной, недосягаемой и имеющей надо мною обидную и странную власть, которой я ничего не мог противопоставить.
Я перевел взгляд на Кулака. Он был в брюках и в клетчатой рубашке с закатанными выше локтя рукавами, и видны были его могучие руки. Я посмотрел на свои. Какими слабыми они казались по сравнению с его выпуклыми тяжелыми бицепсами и широкими, с затаенной силой, запястьями.
– Елагин! – выкрикнул физрук.
Никто не ответил ему.
– Елагин!
Я огляделся.
Елагина не было рядом со мной.
– Он просил передать, что заболел и у него поднялась температура, – сказал я.
– Интересно! – издевательски произнес физрук. – Только что шел сюда абсолютно здоровый, и уже успел и заболеть и даже температуру измерить!
В шеренге засмеялись.
«Сейчас он выкрикнет мою фамилию!» – с ужасом понял я.
Никого не видя перед собой, не оборачиваясь назад, чтобы не встретиться глазами с Верой, я спустился на два шага по склону вниз, увидел руки Кулака, которые уже готовились окружить меня страховочным поясом, выскользнул из его рук, ухватился за канат, но как-то неловко, меня качнуло в сторону, и, чувствуя, что он сейчас поймает меня за штанину, лихорадочно перехватывая руками канат, устремился к другому склону оврага. Наконец, сообразив, что я уже вне опасности, и ни Кулак, ни физрук не могут достать меня, я подтянул наверх ноги и охватил канат ступнями.
Я видел над собой только свои руки, перебирающие канат. Я ничего не слышал. Я перемахнул через овраг с такой быстротой, что не заметил, как достиг другого склона и влетел головой прямо в Меньшенина.
И только когда он крепко и больно схватил меня за локоть, я опустил ноги и с удивлением сразу ощутил под ступнями склон.
– Засранец! Поганец! Ты что, хочешь, чтобы я из-за тебя в тюрьму сел? – услышал я совсем рядом с ухом быстрый шепот Меньшенина.
Я смотрел ему прямо в лицо, в его глубокие темные глаза, а видел только одни шевелящиеся губы, белые, сухие, старые.
Вдруг я почувствовал, как рука его, которою он сжимал мой локоть, ослабела, потом она стала разворачивать меня лицом к той стороне оврага.
– Смелый юноша! – обращаясь ко всем через овраг, заговорил Меньшенин неожиданно добрым голосом. – Но нужен ли такой риск? Ведь у нас учения. Другое дело, если бы это было на войне в боевых действиях. Тогда бы я тебя похвалил. А сейчас скажу: хвастовство и глупость!
Я спустился на дно оврага, пересек его, поднялся на склон и увидел, что Веры нет. В какой момент она ушла? Но я понял, что ее не было уже тогда, когда я пошел к канату.
Вечерело, когда я приблизился к гаражному дворику и встал в стороне от Кулака, наблюдая издали, как он работает. Кисти рук его были измазаны в саже и машинном масле.
– Пионер пришел!
Он узнал во мне того мальчика из старшей группы, которого должен был страховать сегодня на канате.
– Ну ты и сиганул через овраг! Будто за тобой собаки гнались!
– Можно я вам помогать буду? – спросил я.
Он выпрямился, держа в руке металлическую отвертку.
– Машинами интересуешься?
– Да, – соврал я.
– В мотор лазил когда-нибудь?
Я отрицательно помотал головой.
Он задумался.
– Видишь блок цилиндров?
– Вижу, – сказал я, склонясь под капот и разом оказавшись с Кулаком в одном замкнутом мире, в котором кроме запаха бензина и ржавого железа жил еще живой запах его тела и его дыхания.
– Возьми звездочку и отдай эти гайки!
Он заметил мое замешательство и, вспомнив мою прошлую бестолковость, пояснил:
– Изогнутый ключ.
Я пошел в гараж. Как и в тот раз, на столе лежало множество гаечных ключей. Я увидел среди них блестящий, дважды изогнутый, и принес его.
Кулак наклонился над двигателем, надел ключ на гайку и коротко ударил по другому его концу ладонью. Гайка стронулась с места. Затем он стал легко выворачивать ее.
Я не испытывал страха, находясь так близко от него, но жадное к нему любопытство. Словно я прикасался к чему-то сокрытому от меня, запрещенному мне, словно я мог многое узнать о Вере...
Я надел ключ на гайку, попробовал сдвинуть ее с места, но она не пошла. Тогда, не пожалев силы, я ударил ладонью по другой стороне ключа и очень больно разбил руку.
– Резче надо! – услышал я над собой его голос.
Он коротко ударил своей ладонью по ключу, и гайка сразу повернулась на четверть оборота.
– О своей машине мечтаешь? – спросил он.
Я растерялся, не зная, что ответить.
– Длинная, серебристая, с мягкими сиденьями, с радиоприемником!..
Он хохотнул.
Мы работали более часа.
И весь этот час, приглядываясь к его уверенным движениям и особенно ревниво вслушиваясь в его дыхание, я ощущал новую странную связь, которая появилась между мною и ним. Его дыхание было дыханием большого сильного зверя. Намного более сильного, чем я.
– Тебе пора на ужин, – вдруг сказал он.
– А вы?
– Я дома поем. Верочка чего-нибудь приготовит.
Меньшенин объявил результаты игры. Он сказал, что доволен тем, с какой серьезностью все отнеслись к этой ответственной игре. И добавил, что вторая ее часть будет проведена на следующей неделе и будут участвовать и девочки. Зачеты были поставлены и Армену, и Елагину.
Потом он сделал паузу, победоносно оглядел нас и с радостью провозгласил:
– А теперь скажу о том, о чем все вы, конечно, мечтаете. Пора готовиться к прощальному балу. Прощальные балы – традиция нашего лагеря. Не во всех лагерях бывают прощальные балы. Но мы любим их и ничего для них не жалеем. Мы хотим, чтобы у всех у вас осталось радостное впечатление о проведенном в нашем лагере лете. Записывайтесь у старшей пионервожатой: кто какое хочет принять участие в концерте, кто как хочет показать свое умение, свои способности. Будут у нас и праздничные карнавальные костюмы – даю слово директора, – и танцы до восхода солнца, и костер!
– До восхода солнца! – загудели мы.
После ужина сразу человек пятнадцать ринулось к Вере записываться на выступления в концерте.
Я смотрел на нее, окруженную множеством девочек и мальчиков, многие из которых были выше нее ростом. И в моей голове все крутилась фраза, сказанная Кулаком: «Я дома поем. Верочка чего-нибудь приготовит».
А ночью меня охватила ревность. Я сразу понял, что это и есть ревность. Но я даже не мог представить себе, что мучения ее так тяжелы. То вчерашнее пламя, в котором я сгорал, теперь показалось мне очень слабым испытанием. Вчера Вера была одна. Сегодня она спала с ним рядом, вся погруженная в его громадные сильные руки. И злой голос непрерывно говорил мне:
«Они вместе!»
Я пытался убеждать себя, что они прожили в браке много лет, а я даже не знал об их существовании. Не знал всего два месяца назад и не мучился никакой ревностью. Но силы были неравными. Голос запросто одолевал меня. Кровь моя вскипала. И я опять слышал:
«Они вместе!»
Я вышел во двор.
Мрачная сила влекла меня к их постели. В груди моей было тесно и душно.
Над лагерем горела половинка луны. Томно пахло флоксами. Столовская кошка протрусила бочком по пустой аллее и исчезла в цветах на клумбе. Из дверей общежития вышел Меньшенин в чем-то белом, как покойник, закурил, поглядывая на небо, и долго стоял у входа один, а я один стоял в стороне от него. Он не мог меня увидеть. Потом он прошел на аллею, поднял валявшийся на ней камень, отбросил его в сторону и опять скрылся в общежитии.
Вот их окно! Они сейчас там, за этими стеклами, в той ночной тьме, в той комнате. Они любят друг друга!
И она, моя единственная женщина, без которой я уже не мыслил своей жизни, виделась мне, как тогда в сверкании молний, – зловеще прекрасной, с запрокинутой назад головой и с раскрытым ртом, из которого вырывается стон наслаждения. Теперь я знал, что оно делает с человеческим лицом.
– Нет, я так больше не могу! Я не хочу так! – шептал я.
Как презирал я себя за то, что был так слаб и мал, что не мог ворваться туда, наверх, на второй этаж, и отнять ее у него, и как ненавидел ее – за то, что она была так колдовски красива, так недосягаема и так неверна!
Что-то черное появилось в воздухе над крышей общежития, повернуло в мою сторону, быстро снижаясь. Я в ужасе отпрянул от него, поскользнулся, упал на холодную траву, выставив вверх для защиты растопыренные в пальцах руки.
Большая птица, шумя рассекающими воздух крыльями, низко промчалась меж кустов, чиркнула блестящим крылом по звездному небу и скрылась за непроницаемой стеной деревьев, оставив в моем сердце сильный испуг. Наверное, это была сова.
С остановившимся дыханием и часто бьющимся сердцем я поднялся с земли.
И вдруг от этого сильного страха, так внезапно пережитого только что, предо мной возникли, сам не знаю почему, лунно сверкающие рельсовые пути, устремленные в бесконечность, словно я вновь попал в прошлое лето и, ступив на них, пошел по ним, ничего еще не зная ни об этом лагере, ни об этой ночи, ни об этой птице.
Насыпь, по верху которой я шел, была очень высокой; она вырастала над равниной могучим земляным валом, и от нее далеко вправо и влево открывались свободные пространства. Я шагал в размер расстояний между шпалами. Шпалы были из крепкого дерева, местами испачканы мазутом, вылившимся на ходу из цистерн грузовых составов. Солнце уже глубоко опустилось за край земли. Четкая линия горизонта была то почти идеально прямой, то таинственно волнистой, и волны обозначали там вдали новые возвышенности, с которых открывались еще более далекие горизонты, уже моим глазам недоступные. Над равниной сгущался сумрак, огни деревень проступали в нем разрозненными цепочками; небо ширилось, поднималось, делаясь по-ночному синим, а на западе еще долго светилось малиновым заревом с тонкими кровавыми прожилками в низких тучах. Старая автомобильная дорога, по которой давно никто не ездил, столбы телеграфной линии вдоль дороги, густо разросшиеся кусты – все одевалось подо мною туманом, он смыкался сплошным покровом, и я как будто плыл над облаками. В болотце под насыпью смолкли лягушки, еще недавно звонко певшие свои восторженные песни; обрывками вырываясь из тумана, чернел внизу развалившийся мост через мелкую речку; она вилась вдоль насыпи с одной ее стороны, потом проходила под железнодорожным полотном в каменном туннеле, имевшем форму широкой арки, и появлялась уже с другой стороны. Дно этой речушки было устлано острыми камешками, а ледяная вода так ломила ноги, что когда я, бывало, ступал в ее поток, то в первую секунду перехватывало дыхание. В этом гулком каменном туннеле можно было ходить в полный рост, и даже вытянутая вверх рука не доставала пальцами до округлого свода. Я любил бродить там под насыпью, закатав брюки до середины колен. В центре туннеля было сумрачно, а по краям – светло, и на выходе торчали из воды извилистые сучья, принесенные течением и застрявшие на мели, на которые в жаркий день садились синие водяные стрекозы, и тонкие крылышки их ломко поблескивали на солнце, как целлофан. В этом туннеле было так заманчиво вдруг громко крикнуть: «А!» – и услышать, как это отрывистое «А!» повторяется в высоте каменного свода, по которому, отраженные от воды, лениво блуждают кривые солнечные блики. На насыпи зеленела трава и цвел лиловыми островерхими пиками иван-чай. А потом железнодорожное полотно вползало внутрь выемки, прорытой в холмах, и шло в громадной ложбине. Она имела сечение расширяющейся кверху трапеции. Искусственно срезанные под равными углами, спины холмов уходили с обеих сторон вверх, разноцветные от обнажившихся бело-серых пород мергеля и желтых мхов, туда же вверх взмывала просмоленными черными столбами линия телеграфа, а еще выше вразброс росли крупные деревья, и вершины их уже почти доставали до голубого неба, по которому медленно плыли летние облака...