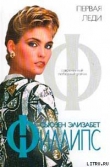Текст книги "Первая женщина"
Автор книги: Андрей Кутерницкий
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
IX
Когда мы вышли из бани и, сплетя руки в пальцах, пошли по ночному лесу, ливень кончился.
Все слабее полыхало небо и отдаленнее гремел гром. Мы шли быстро, как будто спешили уйти от места нашего греха – а сегодня я уже знал, что совершил преступление, потому что знал, что где-то в этот час по ночному шоссе мчится в кабине грузовика человек, которому она, женщина, мною обожаемая, только что изменила вместе со мной как жена. И всю дорогу мы молчали.
Время от времени я вдруг останавливал ее, чуть забегая вперед, обнимал и крепко прижимал к себе, стараясь показать ей свою силу. В эти мгновения, ощущая, как податлива она моей силе, я понимал: она – моя, вся – моя, и только моя! И ощущение совершенного преступления лишь усиливало во мне это чувство. Преступление у нас было общим, одним на двоих. У нас пока ничего не было общего, кроме этого преступления. Я долго, томительно целовал ее, и опять целовал, не отпускал от себя, делая мое преступление еще большим, чтобы оно еще прочнее связало меня с нею. И снова мы шли. Мелкие ветки, ломаясь, хрустели под нашими ногами.
Было темно. Тяжелое от туч небо лежало на вершинах деревьев. Резкими порывами над нами проносился ветер, раскачивал макушки сосен, и вокруг нас, глухо стукаясь о землю, падали шишки. Но дышалось глубоко и сладко. Гроза уходила все дальше.
– Ах, черт! – воскликнула Вера.
– Что с тобой? – спросил я.
– Оцарапала ногу.
Вдруг я понял, что впервые сказал ей «ты». Это было так естественно, что она даже не обратила внимания.
Мы подошли к лагерю.
Из тьмы леса были видны редкие тусклые огни. В корпусах, кроме двухэтажного здания общежития, все окна были погашены. И когда в стекла черных окон попадал свет от уличных фонарей, через каждые пятьдесят метров расставленных на главной аллее и хаотично между корпусами, они агрессивно блестели. У дверей корпусов раскачивались голые горящие лампочки, раскачивая по стенам округлые тени.
Вера положила руки мне на плечи, и я увидел, как она смотрит в глубину моих глаз.
– Ты принес мне сегодня много радости! – прошептала она. – Оденься во все сухое и полезай под одеяло! Чтобы не заболеть. Завтра у нас еще одна ночь.
– Я не заболею, – с трудом произнес я.
Она бесшумно скользнула по аллее, кусты на несколько секунд заслонили ее. Я видел, как она вышла на открытое пространство в мертвый свет фонарей и сразу скрылась, огибая лагерь по краю. Я следил за ее маленькой черной тенью, мелькавшей между деревьями.
Дрожа от холода, стуча зубами, я смотрел на окна общежития. Вот на втором этаже крайнее из них осветилось электрическим огнем. Вера подошла к окну, и мне почудилось – махнула мне рукой. И сейчас же окно погасло.
Я обежал половину лагеря по периметру, вышел из леса рядом со своим корпусом, прошмыгнул под лампочкой, горевшей над входной дверью.
Внутри корпуса было душно.
Я прокрался по проходу до своей кровати, снял с себя мокрое и неожиданно почуял женский запах Веры. Он остался на мне в паху. Я тронул себя за те места, которые хранили его, поднес руку к лицу и вдохнул. Сердце мое взволнованно забилось. Это был совершенно особенный, ни с чем не сравнимый запах. Как он влек меня к ней! Ноздри мои вздрагивали. И все мое тело наполнялось от него какой-то новой, колоссальной силой, о которой я прежде и не подозревал, что она есть во мне. Наконец я взял махровое полотенце, растерся им и надел сухие тренировочные брюки и толстый шерстяной свитер прямо на голое тело. Он кусался, и мне сразу стало тепло, и всего меня охватило острое чувство радости. Это было ощущение, когда человек радуется тому, что он живет.
Некоторое время я сидел на кровати, закрыв глаза и вслушиваясь в эту новую силу.
Нет, мне совсем не хотелось спать.
Меня тянуло прочь из этих стен.
Никакой разумной причины вновь идти на улицу у меня не было. И я решил, что перед сном надо сходить в уборную.
Быстренько добежал я по мокрой траве до широкой черной будки, контрастно освещенной изнутри единственной лампочкой, зашел внутрь и оглядел ряды досок с вбитыми в них гвоздями, на которых висели обрывки газет.
«Как это все странно!» – неожиданно почувствовал я, разглядывая длинные тени от гвоздей на дощатых стенах.
Я прислонился спиной к косяку входной двери и некоторое время стоял и ни о чем не думал, а только ощущал, что жизнь сама по себе очень странна и что я сейчас счастлив именно оттого, что ощущаю эту ее странность.
Сколько времени я так стоял – не знаю, но когда я вышел наружу под открытое небо, то увидел чудо.
Ветер, который так свободно летал высоко в небе и которого уже не было на земле – вершины деревьев стояли черны и неподвижны, – разогнал все тучи, начисто вымел небосвод, изгнав с него даже самые мелкие обрывки облаков, и над лагерем, над моей головой поднялся, вздулся блестящим черным шелком великий небесный купол, полный разноцветных звезд. Звезд было очень много – крупных ярких, и менее ярких, помельче, и совсем мелких, и еще тут и там светились туманности мельчайшей седой пыли! Все небо сверкало и переливалось звездным блеском, так что когда я запрокинул назад голову и обратил к нему лицо, мне даже почудилось, что звездный огонь льется сквозь меня, и я теперь полон этим космическим огнем, и чуть заметно мерцают пальцы моих рук и волосы на голове.
Я находился как бы на самом дне озера, наполненного звездным светом, а берегами озера был непроницаемо черный лес, и, как острова, со дна этого озера поднимались темные бараки. А вокруг лагеря, еще более темные, чем тьма неба, стояли иссиня-черные древние пирамиды с морозно блестящими гранями.
Яркий метеорит прочертил половину неба, оставляя за собой мгновенно тающий след.
Медленно поворачиваясь на одном месте, я разглядывал созвездия. Над лесом горел крупный оранжевый Арктур – я сразу нашел его, прочертив от ручки ковша Большой Медведицы длинную дугу вниз. Млечный Путь лежал широкой дорогой через все пространство неба.
И я вдруг начал говорить со звездами.
Я не говорил вслух. Я не шептал, не шевелил губами. Это вообще были не слова. Но я знаю, что я говорил с ними, а они говорили со мной.
«Звезды! Как я люблю вас! Как вы красивы! – говорил я небу. – В прошлое лето я смотрел на вас, когда ходил поздно вечером на железную дорогу. И вот, прошел год. И я стал мужчиной. И это не сон! Я стал мужчиной! Я стал взрослым! А вы все такие же, как в прошлое лето над железной дорогой. Если бы мне сказали тогда, что всего через год я стану мужчиной и меня ждет такое счастье, я бы не поверил. И все случилось! Я люблю вас, звезды! И я люблю ее! Я преступник, я понимаю это. Ведь она замужем. Но я потом пойду к ее мужу и скажу ему: «Кулак! Прости меня, но я люблю ее. Я не могу без нее жить. Я раньше не думал, что так можно любить! Прости меня, Кулак! Если хочешь, ты можешь избить меня – я уберу руки за спину, я не буду защищаться. Ты можешь убить меня – ведь ты вправе сделать и это. Но я уже не смогу разлюбить ее. Никогда не смогу!»»
Было далеко за полночь, но мне не хотелось идти в корпус. И я все стоял один между темным бараком и черной будкой уборной и смотрел на звезды. И не мог насмотреться на них. Я уже все сказал им, и ничего больше не посылала им моя душа в своем порыве. Но они были так красивы, что я не мог отвести от них глаз!
Наконец я возвратился в помещение корпуса. Все спали. Кто-то похрапывал. Я прошел по проходу к своей кровати, сел на нее и стал стаскивать через голову свитер.
– Я знаю с кем ты был! – услышал я рядом громкий шепот Карьялайнена.
Я замер и почему-то вновь натянул на себя свитер.
– Откуда знаешь? – холодея, спросил я.
– Знаю! – хвастливо ответил он. – Ты был с толстой Лидкой.
От волнения я шумно выдохнул из легких воздух.
– Козлы! – отчетливо прозвучал в темноте голос Горушина. – Заткнитесь!
– Все-все! – услужливо проговорил Карьялайнен. – Заткнулись.
– Поганый лагерь! – громко продолжал Горушин, совершенно не заботясь о том, что он всех разбудит. – Один козел ходит к проститутке Лидочке! Завтра другая проститутка придет поднимать на подъем флага! Мне нужен режим!
В корпусе было темно, но и при этой темноте я почувствовал, как в глазах моих потемнело и перед ними зажглись красные пятна. Я не мог даже вздохнуть.
Я поднялся с кровати, прошел по проходу до кровати Горушина, взялся за нее сбоку обеими руками и перевернул. Горушин вместе с матрацем, одеялом и подушкой слетел на пол.
– Кто это? – заорал он, копошась в одеяле.
Но этой кары мне показалось для него мало. Я обхватил руками тумбочку, которая стояла в головах его кровати, даже не почувствовав, как она тяжела, поднял ее до груди и толкнул в темноту, туда, где на полу валялся, запутавшись в одеяле, Горушин.
Послышался грохот, звон чего-то стеклянного, разбивающегося, и дикий крик Горушина:
– Рука! Руку сломал! Ру-уку!
Разом все проснулись, повскакали в постелях, не понимая со сна что произошло, кто-то треснул по кнопке электрического выключателя, и во всем корпусе ярко вспыхнул свет.
Горушин лежал на полу, схватившись за предплечье, лицо его было искажено от боли, рядом с ним валялась тумбочка, из которой вылетели книги и банки с вареньями. Варенье текло из разбившихся банок по белым простыням и казалось густой страшной кровью. А я в тренировочных брюках и шерстяном свитере на голое тело стоял над ним, отделенный от него поваленной кроватью, и кулаки мои были сжаты.
Так, со сжатыми кулаками, ничего перед собой не видя, я вышел из корпуса в темноту двора.
На земле от окон лежали один за другим параллельные прямоугольники света, и над лагерем низко, как глухая крыша, чернело пустое небо.
Из корпуса доносились стоны Горушина и шум поднявшихся старших, голоса, восклицания.
Я заметил, что все еще держу кулаки сжатыми, разжал их, посмотрел на свои ладони и сунул их в карманы брюк.
Спустя минуту в лагере начался переполох. Сначала примчался Меньшенин и руководитель по физическому воспитанию, и тут же Вера – я видел из темноты, как она в халате и домашних тапочках исчезла внутри корпуса, вдруг появилась в освещенном пролете входной двери и кинулась в темноту, кого-то ища. Я понял – меня.
Я стоял в стороне от корпуса возле кустов.
Но она сразу увидела меня.
– Ты? – спросила, схватила меня за руку и потащила в лес.
– Быстро! – выдохнула она мне прямо в лицо с такой злобой в голосе, что я повиновался.
Когда мы удалились от лагеря метров на сто, она остановилась.
– Что? Говори!
Она едва могла схватить дыхание.
Я молчал. Я не мог сказать ни слова.
– Рассказывай, что случилось! – заорала она. – Ты понимаешь, что ты натворил: ты сломал ему руку!
Я молчал.
Вдруг что-то ослепило меня.
И мгновенно я понял, что она ударила меня по лицу.
Я замер, вытянувшись в струну.
– Со мной это как-то связано? Ну! Имя мое звучало?
Я кивнул.
– Блядь! – глухо простонала она. – Говори все! Соберись! Ты же мужчина!
– Я пришел в корпус и стал надевать свитер, – с трудом разомкнув немоту, выговорил я первые слова.
– Главное! Нет времени!
– А потом пошел на двор.
– Зачем?
Я молчал.
– Зачем пошел?
– Не могу сказать.
– В уборную?
– Да, – еле слышно произнес я.
– Потом?
– Смотрел на звезды. Они были очень красивые...
– Черт с ними!
– Опять вернулся в корпус.
– Вернулся?
– Хотел лечь спать.
– Главное! Откуда взялось мое имя?
– Он оскорбил тебя.
– Горушин?
– Да.
– Как он оскорбил меня?
– Он сказал, что ты... Проститутка.
Она даже не обратила внимания на это ужасное слово.
– Почему он вдруг заговорил обо мне?
– Карьялайнен сказал, когда я пришел в корпус: «Я знаю с кем ты был. Ты ходил к Лидке». А Горушин вдруг закричал: «Козлы! Дайте спать!» И назвал Лиду проституткой.
– Горушин?
– Он сказал: «Ты ходил к проститутке Лидочке».
– Ну, а я причем?
– А потом добавил: «А завтра другая проститутка придет будить на подъем флага. А мне нужен режим».
Некоторое время Вера сосредоточенно молчала, обдумывая какую-то мысль.
Только губы ее чуть слышно произнесли: «Гаденыш!»
– Значит, я правильно поняла, – спросила она, посмотрев мне в глаза, – ты пришел в корпус, и вы с Карьялайненом стали разговаривать?
– Нет, я с ним не разговаривал. Это он сказал: «Я знаю с кем ты был».
– И добавил, что знает, что ты ходил к Лидке.
– Да.
– А Горушину это помешало спать, и он назвал Лидку проституткой.
– Да. Он так всех девочек называет.
– И меня так назвал заодно.
– Да.
– Просто так. Просто назвал. Заодно. Со зла. Но он ничего не знает о том, что было между мной и тобой.
– Нет. Не знает.
– И Карьялайнен не знает?
– Нет. Не знает.
– А кто такая Лидка?
Вдруг все спуталось в моей голове. И я от всего пережитого горько заплакал. Я размазывал сопли по лицу и все твердил:
– За что ты меня ударила? За что?
– Кто такая Лидка? – повторила Вера. – Ну! Милый мой! Успокойся!
Но я не мог успокоиться.
– Я тебя прошу! – умоляющим голосом прошептала она. – Ради меня! Ведь ты любишь меня?
– Очень! – ответил я сквозь слезы.
– Кто такая Лида?
– Девочка из старшей группы...
– В нашем лагере?
– Да.
– То есть ты вступился за честь девушки, которую ты любишь.
Я вдруг перестал плакать.
– Я люблю только тебя! Только тебя! – сказал я, хлюпая носом. – Я ее не люблю. Это неправда. Совсем не люблю.
Вера обняла мое лицо ладонями, быстро стала отирать пальцами мои слезы.
– Сейчас тебя вызовет к себе Меньшенин. И ты скажешь ему, что Горушин оскорбил девушку, которую ты любишь. И ты вступился за нее.
– Я люблю только тебя! – снова повторил я.
– Да. Только меня. И я только тебя.
– Ты любишь меня? – удивленно переспросил я.
– Да. Но об этом будем знать только мы двое. И никто больше! Ты понимаешь?
– Да.
– Если кто-нибудь узнает про нас с тобой, меня выгонят из лагеря. Ты этого хочешь?
– Что ты!
– Тогда ты скажешь Меньшенину, что любишь Лиду и вступился за ее честь. Да?
– Да, – прошептал я, еще плохо понимая, о чем она меня просит.
– Теперь незаметно выйди из леса, подойди к кустам сирени и спрячься в них. А я найду тебя и приведу к Меньшенину. Не забудь: я – Вера Станиславовна! Только на «вы»! Понял? Только на «вы»!
И она исчезла.
Черный лес окружал меня. Между стволами деревьев просвечивали огни лагеря. Но в этом ночном мраке ярко сверкали ее слова «Я тебя люблю!».
Вдруг я очнулся и сообразил, что если не буду делать так, как она попросила, то мы с нею расстанемся. И сейчас мне надо поскорее идти к кустам сирени и спрятаться в них.
И едва я подошел к ним, Вера схватила меня за руку и потащила в корпус, крича Меньшенину:
– Я нашла его! Он был здесь!
Меньшенин выскочил из сеней корпуса. Голая лампочка над входной дверью осветила его лицо сверху вниз. Лицо его было так ужасно, что, когда он ринулся ко мне, мне почудилось, что он сейчас перегрызет мне горло.
Потом я увидел нашу медсестру, которая вела Горушина в медпункт. Горушин был в трусах и пиджаке, наброшенном на плечи.
Меньшенин рванул меня за руку с такой силой, что если бы Вера не держала меня, то я упал бы, и потащил к административному корпусу. Вера тащила меня за другую руку. Я спешно шагал между ними, криво переставляя ноги и спотыкаясь.
Когда мы вошли в кабинет Меньшенина, Вера до боли сжала пальцами мое запястье, впившись в него острыми ногтями.
Меньшенин сел за письменный стол, глянул на меня исподлобья, тут же вскочил со стула и начал взволнованно ходить по кабинету. Он был так испуган, что долго не мог вымолвить ни слова.
– Ты... сумасшедший? – вдруг спросил он.
Руки у него сильно дрожали. Этими трясущимися руками он судорожно похлопал себя по карманам, вытащил пачку папирос, сунул папиросу в рот, долго не мог прикурить. Наконец глубоко затянулся табачным дымом и, даже не выпустив его из легких, кашляя, закричал:
– Ты кто такой есть?
X
Кто я такой есть...
Я никогда прежде не думал о том, кто я такой есть.
Я знал, что я из плохо обеспеченной семьи.
Но вокруг было много плохо обеспеченных семей. Я не страдал оттого, что у меня не было красивой одежды и модных туфель.
Я знал, что я из семьи, в которой муж и жена – мой отец и моя мать – не в ладу друг с другом.
Но тут и там были семьи, где чьи-то отцы и матери вечно ссорились.
И от этого я тоже не страдал.
Я не страдал оттого, что не был самым сильным в классе, самым успевающим, самым перспективным, о каком говорят: «Из него выйдет толк!»
Я мучился только оттого, что ощущал в себе никому не понятное призвание: совершить нечто такое, что никто до меня не совершал. Может быть, первым из людей научиться летать без крыльев. Или первым никогда не умереть. Как и кому было рассказать об этом призвании? Ведь оно было лишь сияющей мечтой. Меня бы просто подняли на смех. И я должен был затаить в сердце этот чудный зов, чтобы никто не осквернил его насмешкой или неверием, ходить, как все, в надоевшую школу, жить в семье, где неделями тяжело молчали, наконец, попасть на каникулы в пионерский лагерь. Я чувствовал: это призвание чем-то отделяет меня от всех остальных подростков. Но что оно такое – я и сам еще не знал. Когда я смотрел на скользящие над городом облака, мне чудилось, что тайна моего призвания заключена в их поднебесном скольжении. Когда я смотрел на женщин, я чувствовал, что оно – в моем желании смотреть на них. А я это желание в последний год испытывал особенно сильно. И я страдал оттого, что красивые девушки не обращали на меня свои взгляды. А некрасивые для меня не существовали, словно были лишены самого главного, что так сильно звало меня к себе.
И вот, когда я совсем не предполагал, любовь ураганом ворвалась в мою жизнь. Перестав быть безымянной и безликой, сбросив с себя запретные покровы, она явилась ко мне, прекрасная, желанная, сразу же обворожившая, околдовавшая меня, меня пленившая...
Чужая жена.
На десять лет старше меня.
И отставной подполковник Меньшенин, бегая по кабинету и набирая силу голоса, зря выкрикивал мне: «Кто ты такой есть?» – пытаясь загнать меня в угол, чтобы я ответил ему, что я – никто. Я был теперь мужчина, который любил женщину. И эта женщина только что призналась мне в ответной любви. Я был теперь сильнее их всех и безумнее их всех. Запястье мое горело от ее острых ногтей. И боль была сладостна. Кто мог одолеть меня теперь, после того как я услышал, как она дышала, вся принадлежавшая в этот миг мне одному, как она дышала с запрокинутой назад головой и искаженным от счастья лицом, освещаемая яркими молниями? До самой моей смерти, а я не умру никогда, я буду помнить это ее дыхание!
Я сидел на белом табурете в небольшой комнатке медицинского изолятора.
Сквозь табачный дым, вьющийся тонкой струйкой перед моими глазами, на меня из окна глядела августовская ночь. Над белым подоконником цвела множеством мелких цветов пышная герань, черная на фоне блестящего стекла, – любимый цветок медицинской сестры, пожилой, очень полной женщины с бесформенными слоновьими ногами, коротко остриженной, крашенной в ярко-рыжий неестественный цвет, которая спала сейчас по соседству со мной в медкабинете; время от времени она начинала храпеть так громко, что мне был слышен каждый хрип в ее горле. Я шевелил кистью руки и видел, как в стекле шевелится красный огонек сигареты, уже почти до конца докуренной и обжигавшей мне подушечки пальцев. Я смотрел на глухую стену общежития, которая темнела в глубине двора, чуть в стороне от меня, слева.
Когда в начале третьего часа ночи Меньшенин в сопровождении Веры привел меня в этот пустующий изолятор, в мыслях моих творился полный сумбур, и едва мне определили до утра место и оставили одного, я почувствовал себя таким усталым, что, не раздеваясь, тут же свалился на постель, пахнувшую лекарственной химией, и мгновенно уснул. Была секунда, когда я попытался объединить в себе одном руку матери, махавшую в окне автобуса букетом ромашек, кровавый нос Болдина, обнаженного по пояс Кулака с гаечным ключом, зажатым в сильных пальцах, блеск ливня и страшное лицо Меньшенина с глазами-дырами, ярко освещенное голой лампочкой сверху вниз, но почувствовал, что все это никак в меня поместиться не может...
Мне ничего не снилось.
Проснулся я мгновенно и сразу понял, что спал недолго – в комнате было все так же по-ночному темно. Я подошел к окну, раздвинул в стороны марлевые занавески и увидел перед собой корпус младшей группы.
«Я – в пионерском лагере. Меня вместо деревни отправили в пионерский лагерь».
И вдруг поток счастья перехлестнул мне горло, – я вспомнил, что у меня есть Вера и что для меня уже началась совсем другая, удивительная жизнь, о которой я столько мечтал.
Я посмотрел на часы – заоконного блеска было достаточно, чтобы увидеть положение стрелок. Они показывали пятнадцать минут четвертого. Я спал меньше часа. Но этот короткий глубокий сон наполнил меня живительной энергией. Я не чувствовал усталости. Голова была ясная.
Я вспомнил все, что произошло в кабинете Меньшенина. И мне стало весело оттого, что такое удивительное приключение случилось со мною.
Меньшенин кричал долго. Он кричал даже не на меня, а на какую-то беду или неудачу, которая вдруг свалилась на его лагерь. Вера дала ему накричаться вволю, и когда он устал, охрип и немного обмяк, учинила мне строгий допрос. Я рассказал все, как она просила, не назвав только имя Лиды. Я подумал, что произнести ее имя – нечестно. Явилась медсестра с сообщением, что у Горушина перелома нет, а есть только сильный ушиб, и «скорую помощь», как требовал Меньшенин, вызывать нет надобности. Меньшенин спросил, уверена ли она, что перелома нет, на что медсестра сказала, что она работает в медицине тридцать лет, и обиделась. Тогда Меньшенин приказал ей сопроводить Горушина обратно в корпус. «И вот еще, – добавил он, опершись кулаками в стол. – До утра развести их в разные стороны! И чтобы за этим, – он ткнул пальцем в мою сторону, – присмотр был! Пока я не решу, что с ним делать дальше».
Вспомнив все это, я вышел в коридор обследовать помещение, в котором находился.
Сейчас же что-то грохнулось в медкабинете, и медсестра в белом халате и поверх него в теплом сером платке, заспанная, со сна плохо владеющая равновесием своего тяжелого тела, выскочила в коридор, вопрошая:
– А? Ты чего? Куда?
– В туалет, – ответил я.
Делать мне в туалете было нечего, я дернул за цепочку спускного бачка и прошел в кухоньку сполоснуть руки. На столе на тарелке лежали два пирожка – очевидно, с полдника. Вдруг я почувствовал ужасный голод. Рот мгновенно наполнился слюной. Но я умер бы со стыда, если бы медсестра увидела, что я у нее стянул пирожок. Светлая коробочка привлекла мое внимание на полке над столом. Оказалось, что это – пачка сигарет. Я не курил регулярно, а лишь баловался, хотя дым тянул в легкие уже глубоко. Я вытряхнул из пачки одну сигаретку, взял с плиты коробок спичек и вернулся в комнату изолятора. После первой затяжки со сна и на пустой желудок меня сразу повело в сторону. Но приятно.
Я смотрел в окно на стену общежития. И я ни о чем не думал, а просто был счастлив. Я заметил, что когда человек счастлив, он ни о чем не думает.
Ночь за стеклами наконец пошла на убыль. Тьма стала разжижаться, воздух – сереть. И в комнате изолятора начали как бы всплывать, подниматься из сумрака две кровати, накрытые байковыми одеялами, и две белые тумбочки, и на стенах обозначились в белых рамочках две репродукции с картин Васнецова. Все вокруг получило объем и тени, по узкому пространству неба, переливаясь, брызнули рубиновые лучи восходящего солнца.
Она, конечно, была сейчас очень красива, спящая, с закрытыми глазами, в чистой постели в это тихое раннее утро...
Я стоял спиной к двери, когда услышал ее шаги в коридоре.
Легкое голубое платье, волосы распущены, в вырезе платья выпукло – верхние полушария грудей... Я задохнулся от восторга!
Вера выставила вперед ладонь, остановив мое движение броситься к ней, кивком головы указала, чтобы я сел на кровать, и сама села на другую напротив меня.
– Я сейчас была у Меньшенина, – быстро заговорила она. – Он решил вас с Горушиным принародно помирить.
Ее слова оказались так неожиданны и ввели меня в такой гнев, что я ошарашенно вскочил с кровати.
– Без возражений! – надавила она голосом. – Меньшенин перепуган до смерти. Он не спал всю ночь и выглядит ужасно. Мне его даже жалко. Конечно он понимает, что Слава Горушин – птичка та еще, но ты знаешь, кто у Славы Горушина отец?
– Нет, – ответил я.
– А Меньшенин – знает. Для Меньшенина этот лагерь – вся жизнь. Он создал его, хотя руководит им не от начала. У него ничего больше нет. Если у него отнимут лагерь, он помрет на второй день. Он сначала думал замолчать это происшествие, но потом решил – и правильно! – что совершенно замолчать не удастся – не рядовая драка. К тому же, ушиб у Горушина сильный, и не известно, как скоро рука его заживет. И главное, не известно, как поведет себя его папаша, когда приедет в воскресенье. Короче, нужно дело представить так, чтобы вы оба были виноваты в равной степени. Фифти-фифти! Чтобы некого было обвинять. А просто осудить при всем лагере вашу вражду, которая к самому лагерю не имеет никакого отношения. И помирить вас. Причину произошедшего мы решили не раскрывать. Меньшенин уже вызывал к себе Горушина, и тот согласен помириться, поскольку многие подтвердили, что он оскорбил твою девочку. Сейчас Меньшенин придет сюда и будет с тобой говорить. Во всем винись перед ним и со всем сказанным соглашайся.
Я опять привстал с кровати.
– Попросишь у него прощения! – повторила она. – В конце концов перед ним ты действительно виноват. Это – первое! Второе – не вертись рядом со мной и не следи за мной! Сегодня у нас ничего не получится. Третье – как можно чаще бывай на виду у всех с Лидой. Гуляй! Ухаживай! Ты меня понимаешь? Я их утром будила; девочки расспрашивали о ночном происшествии, и я кое-что рассказала... Они восхищены тобой!
Она поднялась с кровати.
Я мрачно глядел в пол. Я мог помириться с Горушиным и попросить прощения у Меньшенина. Но то, что у нас сегодня ничего не получится!..
– Нет другого выхода! – сурово сказала она.
И вышла из комнаты.