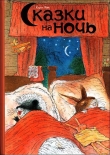Текст книги "Этнограф Иосиф"
Автор книги: Андрей Хомченко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Игры воображения
Хрусть, и пополам ночь, – полночь.
По бульвару шествует дама в высоком чепце с лентами огненного цвета и платье на ней по моде семидесятых годов – не сегодняшнего столетия, а в позу ставшего прошлого – позапрошлого.
Следом плетётся молодой человек, канючит:
– Назначь мне эти три верные карты.
Оборачивается дама: острый нос густо напудрен, губы фиолетовые, на щеках румянец безжизненный, в два пальца слой.
– Тю, Зинка-дура.
Хохочет карга старая:
– Это я раньше дура была, теперь Ильинична.
Смех её каркающий пугает, вид – поседеть можно. А ведь была красавицей… – я не застал, мне рассказывали.
– Была, была, – подтверждают жилеты пикейные, и вспоминают: про голые плечи и диадемы, про взгляды, сражающие наповал… сам Александр Сергеевич Пушкин, будучи у нас в ссылке, голову неоднократно терял.
Мигом представил картинку автор: метёт подолами мостовые местный бомонд, чуть в стороне на изумрудном газоне курчавая голова лежит, за красотками с увлечением наблюдает.
Мимо Эдуардс по делам бежал.
Заметил скульптор гения на траве.
– Ай-ай-ай, – думает Борис Васильевич. – Как неудобно-то… Ну какой с земли обзор?
Хвать, и водрузил Александра Сергеевича на граниты, благо имел подряд от городских властей: увековечить стихотворца бюстиком.
С высоты взирать намного сподручнее, глядит Пушкин на прелестниц парад, мечтает:
– Были бы у меня руки, взял бы я лист бумаги, перо в чернильницу обмакнул и написал бы дон-жуанский список: слева – блондинки, справа – брюнетки, кого предпочесть?
– Сегодня губернаторшу покорю, – так решил.
Прыг с постамента и в дворянское собрание рванул.
К крылечку на лихаче с триумфом подкатывает, все «Ах» да «Ох», а поэт к г-же Воронцовой, не мешкая.
Елизавета Ксаверьевна – обворожительна: платье небесных тонов, нить жемчугов, перстни на тонких пальцах, на лице мука, – зубы прихватило, хоть плачь, – лёгкая вся и воздушная, она парила…
Нет, решительно невозможно видеть её мучения, флюсом раздуло щёку страдалице, с какого боку не подступай с изысканным комплиментом, ответ один:
– М-м-м-м…
– Какая скука эти провинциальные балы, – думает Пушкин.
– Карету мне, карету, – кричит.
Или это не его вопль? другой Александр Сергеевич орёт, изнемогая от безысходности и тоски в нашем захолустье? есть здесь каналы его имени… вдоль и поперёк изрезали Пальмиру, скользят гондолы по водной глади, лодочники в масках песни поют.
Прислушался автор: померещилось… не слышно баркарол звуков.
Дабы удостовериться, выглянул в окошко, по пояс почти высунулся: так и есть, показалось… нет гондол и каналов.
Металлургический комбинат есть, – всё небо пылает алым.
Втянул воздух носом автор… – точно, есть завод.
Поглядеть, что ли, чем там занимается Тамара Кудрявцева?
Лаборант химического анализа Тома открывает сменный журнал,
из окружающей атмосферы несёт выгребной ямой, точнее, протухшими куриными яйцами,
– Фу-у-у, – морща брезгливо носиком, выдыхает Тома и записывает в тетрадочку. – Сероводород в норме.
Затем смотрит Тома в измерительные приборы: как там обстоят дела с углерода оксидом.
Отвратительно обстоят дела с углерода оксидом: дышать горожанам нечем.
«ПДК оксида углерода не нарушена», – пишет в журнале Тома.
И снова к приборам прильнула девушка, уровень оксида азота надо замерить. Потом с аэрозолями травильных растворов разобраться… на всю ночь лаборанту занятий, столько в воздухе гадостей…
Но не о гадости в воздухе думает Тома. Об этом никто не думает, а она что, рыжая?
Она брюнетка.
Ей двадцать три года.
Все мысли её об Игоре Юрьевиче, начальнике производственного отдела… – ах, эти девичьи грёзы, кому бы поручить о них написать?
Носов мог бы, так занят: показывает Цветикову на небо:
– Смотрите, Алексей, смотрите: луна, будто кривой нож кукри…
И толстячок, задрав голову, любуется на лихой изгиб, и в голове у него сами собой возникают слова: месяц кривым азиатским ножом раскроил небеса и хлынул в дыру рассвет, его горячая кровь… стало быть, и Цветикову не до чьих-то фантазий, в своих утоп.
Может, Курицыну доверить?
Всё равно не спит: после ухода Оленьки мечется литератор по комнате, словно тигр в клетке, – пусть напишет об Игоре Юрьевиче, высоком и сильном мужчине…
Неудачная это была мысль, а, впрочем, судите сами.
Игорёк
Чужие дети растут быстро.
Ещё утром соседский Игорёк ползал на коленках, жизнерадостно агукая, а уже в полдень разговаривает юношеским ломающимся баском и над верхней губой его пробиваются жидкие усики.
– Хороший темп, – подумал Иосиф. – Интересно, что к вечеру будет?
Специально вышел во двор посмотреть.
Видит, Игорёк вымахал чуть не до пятого этажа, – ботфорты, камзол… вылитый Гулливер.
– Как дела? – спрашивает Иосиф.
– Расту, – отвечает исполин… р-раз, и ещё пару вершков прибавил.
– Чего видно?
– Земля, земля, – орёт с небес Игорёк, да с таким энтузиазмом, будто он крестьянин в семнадцатом году. Или вперёдсмотрящий с колумбовой «Санта-Марии» после многомесячного океанского плавания.
Разобрало Иосифа любопытство. Взобрался он на крышу, глядит, и впрямь земля.
Индейцы, индейки, – наверное, Америка.
А вот и причина воодушевления, – Покахонтас.
– Да-а-а, хороша, – воздал должное заморской красавице.
– Жениться хочу, – изрёк Игорёк. – Пойдёмте дядя Иосиф, будете моим шафером.
Иосиф и согласился, ведь в Америке он ещё не был, – интересно же…
Долго ли, коротко шли, – скорее всего, долго: все индейцы уже в резервации, все индейки уже в духовках, – праздники на носу, Рождество.
Только Покахонтас стоит, выглядывает суженого.
Да толпа бледнолицых мечется:
– Кинг-Конг, Кинг-Конг, – кричат, паникуют.
Игорёк, конечно, не красавец, но и не совсем обезьяна, – привыкнуть надо.
Покахонтас, должно быть, уже привыкла, – очи потупила, разрумянилась, ждёт.
Иосиф, не медля, приступил к своим обязанностям:
– У вас товар, у нас купец.
Мэр, – вальяжный мужчина в смокинге, – словно таксист в Геленджике, крутит на пальце символические ключи от города:
– А у нас наоборот, вот.
– А у нас в квартире газ, а у вас? – продолжил торги Иосиф.
– Обсудим, – предложил мэр и, деловито взяв под локоток дорогого гостя, увлёк его в сторону.
«Искусство дипломатии в мире наживы и чистогана» Иосиф изучал ещё на первом курсе, но знал предмет хорошо, – на твёрдую четвёрочку.
Не прошло и минуты, как круглая сумма упала на банковский счет мэра в одном малоизвестном офшоре, а символические ключи перекочевали в необъятные карманы Игорька.
И стал Игорёк смотрящим Нью-Йорка города.
А чё? – с высоты его роста далеко видать…
Глава 17
Предположим, у вас есть доступ в интернет и амбиция стать известным писателем. Вы выкладываете в сеть рассказ, а неуёмная жажда славы заставляет проверять статистику чуть ли не каждый час.
Статистика удручает:
За два дня – четыре просмотра. Рейтинг – ноль. Комментарии – ноль. Борис Крюгер (издатель) и тот пропал.
Что бы вы сделали на месте Курицына?
Курицын на месте Курицына в конкурсе фантастического рассказа решил участвовать.
– Пил бы я не шампанское, – размышляет Евгений, – а палёную водку, бузил бы в низкопробных пивнушках, путался с фрезеровщицами и швеями-мотористками, прыщавых бы соблазнял пэтэушниц, сказали б тогда: Да… талантище Женька, а губит себя, головушка забубённая… ни за грош пропадёт литератор. Но я из напитков предпочитаю Абрау-Дюрсо, на худой конец, тёмно-гранатовое Киндзмараули, – так что придётся пробиваться исключительно писательским дарованием. Судьба не оставила мне иного выбора, – только так.
Другой бы и руки опустил от подобной перспективы, но не таков Евгений:
– Ничего, – думает он. – Прорвёмся. Есть у меня произведение высоких художественных достоинств, слова в нём – как гренадеры: сплошь бравые да румяные.
Не отказал себе в удовольствии, перечитал рассказ «Этнограф Иосиф», убедился ещё раз: безупречный текст.
И поместил сей опус на суд взыскательного жюри.
Ест гречневую кашу Курицын, об одном жалеет, – слишком рано ушёл из жизни критик Белинский.
Из современных товарищей разве найдётся неистовый Виссарион: тот, кто сумеет оценить по достоинству? кто воскликнет в пылу полемического задора:
– У нас нет литературы! и это говорю я с восторгом, в этом я вижу залог наших будущих успехов. Верю, надеюсь, знаю: среди мелких и кислых яблочек, – недозрелых неаппетитных плодов – мы обнаружим роскошные фрукты, арбузы в обхват человеческих рук и персики… Однако позвольте… позвольте-позвольте… – что это за пиршество для гурманов? – ага! я знал, я надеялся, верил: ликуй, читатель! свершилось! Сонму богов прибыло, в багряных одеждах юноша – Женька, талантище, Успех Успехов – шествует на Олимп.
Будто живую, видит Евгений перед глазами картинку:
Он идёт вверх по узкой дорожке, петляющей меж кустов боярышника и бересклета. На невысокой горке расположилась группа мужчин – иные стоят, иные сидят на белых пластиковых стульях. Крепкий старик в простой посконной рубахе вскинул приветственно руку. Доктор в пенсне – бородка клинышком – приязненно щурится. Рядом с ним ещё один доктор, тщательно брит, голова смазана бриолином, улыбается доброжелательно. Европейского вида господин с острым и длинным (птичьим) носом, – этот строг: узко посаженные глаза его грустны, волосы свисают длинными локонами, как тряпка с радиатора парового отопления. Чернявый, курчавый – чисто арап – хлопочет и мечется олимпиец:
– Где же кружка?
вопрос по существу, надо бы по обычаю выпить с гостем за встречу…
– Да, – вынырнул из фантазий Курицын и ещё раз вздохнул, – Да. Жаль, не дожил критик Белинский до сего исторического момента, ему бы этнограф понравился, к гадалке не ходи, громыхнул бы Виссарион Григорьевич по этому поводу речь. Впрочем, и нынешние публицисты, чай, не намного хуже, за словом в карман не лезут.
Любопытство разобрало Евгения, какие слова не из кармана выудили рецензенты: «новое имя» или, скажем, «незаурядное явление». А, может, и вовсе «эпоха»… интересно литератору стало, не терпится узнать.
Открывает Курицын соответствующую страничку в компьютере, и точно: появился первый обзор.
Бегло глазами бежит по буковкам юноша, о чужих произведениях места пропускает, ищет он о своём рассказе, находит, наконец:
«Вот ради таких текстов я и почитываю присылаемые на всякие литературные конкурсы работы».
– Хорошее начало, – думает Курицын. – Сразу видно разбирается в теме человек.
Настроение литератора и без того неплохое, взмыло до неимоверных высот. Запела душа беззаботный мотивчик и потёрла – мысленно – ладошки в радостном ожидании:
– Нуте-с, нуте-с…
Обозреватель ожиданий не обманул.
«У автора настолько альтернативное чувство русского языка, что ржать при чтении можно не останавливаясь, до рези в животе».
– Гм, – насторожился Евгений, почуяв подвох. – Великолепное дельце… Что же дальше будет?
Дальше цитаты пошли:
«…мужчина в защитном френче…
Что, простите? Как может выглядеть защитный френч, от чего он должен защищать? Это же звучит нелепо, как, например, балетный скафандр.
…старцы в высоких бараньих папахах…
Э-э, так и хочется спросить: зачем эти старые козлы у баранов папахи отобрали? Папахи, для справки, делают из овчины (именно так называется баранья шкура) или каракуля».
Заволновался Курицын.
Ерунда какая-то получается. То, что, будто у классика, на цитаты текст растащил рецензент, оно и неплохо. С другой стороны, ржёт товарищ уж в очень неподходящем месте, над аксакалами…
– Может, я и впрямь напутал чего? – обеспокоился Евгений и полез в словарь Ушакова справляться.
– Уф, – отлегло от сердца. – Есть такие фразеологизмы, существуют. И френч защитный, и бараньи папахи… бесспорно, устойчивы сочетания этих слов, я молодец, а критик неуч.
Ехидно хихикающий недомерок с оттопыренными ушами и непомерно раздутым самомнением, – представил себе Женя неведомого обозревателя, и вдруг
– внезапно! —
пожалел человечка:
– А ну как преподавателя русского языка у него в школе не было, и физрук вёл предмет? Много ли толку от бывшего гандболиста? Вывел бестрепетной рукой в аттестате пятёрки, а про идиомы рассказать не удосужился.
Тогда вспомнил Евгений своего учителя литературы, и помянул его добрым словом, потом ещё одним, и ещё…
Так рассказ об Иване Карловиче и составился.
Учителя Иосифа. Иван Карлович, литература
Мы все умрём.
Только дела наши будут жить в веках: сожжёнными храмами Артемиды, разрушенными Карфагенами…
Конечно, можно и прозябать, – влачить жалкое существование: построить дом, посадить дерево.
Воспитать – на свою голову – сына.
Но не таков Иван Карлович,
– преподаватель Иосифа по литературе, —
…он берёт в одну руку спички, в другую – канистру с бензином, фальшивый паспорт на вымышленное имя «Герострат», бдительно оглянувшись, суёт за пазуху пиджака…
– Иван Карлович, стойте! Куда Вы? Опять за своё? – навалились дюжие санитары, заломили учёному руки, скрутили.
Сосредоточенный доктор стучит молотком по коленке, озабоченно покачивает головой:
– Покой… Вам, Иван Карлович, необходим абсолютный покой.
Вот и оказался профессор литературы в глуши, в медвежьем углу: в Кистенёвке.
Деревня, где скучал наш гений, была прелестный уголок.
Но Иосиф, заехавший проведать любимого учителя, как и все городские жители, не очень понимал первозданных русских красот: луга и нивы золотые…
Оно, может, и ничего.
Когда б не зной… да пыль… да комары… да мухи…
– Чем вы тут занимаетесь, Иван Карлович?
– Соблюдаю постельный режим, – отвечает оздоравливающийся покоем педагог. – До полудня дрыхну. Затем не торопясь, обстоятельно завтракаю. Затем сладко сплю до обеда… кушаю… и снова дремлю, до самой глубокой ночи…
– А ночью?
– Ночью разбойничаю. Сколотил шайку из своих крепостных, и шалим по большим дорогам.
– Неужто душегубствуете? – ужаснулся Иосиф.
– Зачем же сразу душегубствуете… – обиделся Иван Карлович. – Не сразу. Сначала дождёмся, пока генерал Троекуров учинит нам обиду, а уж потом… Спички в одной руке, канистра бензина – в другой. Фальшивый паспорт на вымышленное имя «Дубровский» осторожно прячем за пазуху.
…только дела наши будут жить в веках: сожжённые помещичьи усадьбы, дуб и дупло, поцелуй, пылающий на Машенькиных устах…
– Только ж ты никому, Иосиф.
– Ну, что вы! Я никому, ни-ни…
И проболтался.
Кружка пунша развязала язык, рассказал всё курчавому господину, с бакенбардами и в крылатке,
– как бишь его? —
запамятовал…
Глава 18
Сочинил рассказик об учителе литературы Курицын и не нарадуется: прямо памятник нерукотворный воздвиг.
Вдруг глядь, следующий рецензент поспел… и этот, видимо, недомерок, лупит наотмашь фразами, старательно метит под дых:
«Можно, можно писать так, чтобы читатель ни хрена не понял. Можно играть словами, как ребёнок пирожными, роняя их в грязь и размазывая по лицу, вызывая жалость и сочувствие…
Но зато можно это и не читать.
В общем, иногда лучше жевать, чем брать кирку».
– Эх-хе-хе, – думает Курицын. – Как зол этот мир. К тому же несправедлив: не иногда лучше жевать, а всегда, – кто махал киркой, тот понимает. Но я ведь здесь не затем, чтобы объяснять миру очевидные вещи… помолчу.
Молчит Курицын.
И грустно ему.
Неожиданно вспомнил он Оленьку; ножки её, затянутые в лайкру, вспомнил; вспомнил, что звонить не велела; – и вовсе загоревал Евгений.
– Устал я от всего этого, – воскликнул в сердцах юноша. – Отдохнуть бы, махнуть на море… там купаться и загорать, валяться на горячем песочке в блаженном безмыслии…
Так и сделал: на трамвае восемнадцатого маршрута доехал до 16-й станции Большого Фонтана, дальше – на пляж пешочком.
Там:
в волнах нырял, будто дельфин, и плавал ленивым брассом, нежился на песке, подставляя майскому солнышку то спину, то грудь, пил минеральную воду и, брызгая кетчупом, жадно кусал хот-доги, снова плавал и снова нежился,
– о доблестях, о подвигах, о славе, – ни единой мысли за целый день не подпустил к себе Женя на пушечный выстрел.
А вот Оленька в голову лезла.
Не выходила из головы Оленька.
То она в вечернем роскошном наряде, то в неглиже, по-домашнему, не избавиться от неё, совсем измучила Курицына.
Наконец, осознал Евгений: минералкой эту хворь не излечишь. Нужны действенные меры, хотя бы грамм сто коньяку и терапевтическое влияние какой-нибудь раскрепощённой блондинки.
Можно, конечно, и без крашенной в белое девицы…
Но тогда надо брать водку.
И хорошо бы без полумер: литр.
Лучшего места, чем «Африка», для этих целей в городе не сыскать. Туда отправился юноша. Заходит в зал ресторана и видит: бухгалтерши и финансистки уже на месте, обсели барную стойку, будто цыпочки на насесте, – туалеты их вызывающе откровенны, губы червлёны помадами, медленными глотками они пьют из бокалов мохито, рядом с каждой тюбик конторского клея, – для тех, кто захочет клеиться.
«Нет некрасивых женщин» гласит народная мудрость, и Евгений, как часть народа, готов подтвердить: Нет.
Дамы ему нравятся, – даром, что трезв литератор.
Но сердце его занято: в нём царствует Ольга Терлецкая… будто хрупкое чудо, будто цветочек аленький, и можно только догадываться, какой камелией она обернётся после рюмки крепкого алкоголя.
– Ани Лорак, Ани Лорак, Ани Лорак, Ани Лорак —
Крутит головой Курицын в поисках местечка свободного: такового не наблюдает, беспечными мужчинами и легкомысленными женщинами набита битком зала… праздный вечер в разгаре.
– грохот ножей и вилок —
В атмосфере витает витальность, веселятся шумно компании, и богема, облюбовавшая столик в углу, вдохновенно уткнулась в лист писчей бумаги… ишь как строчит: видимо, вирши слагает, про пьяниц с глазами кроликов живописует с натуры.
Признаться, Курицын и сам неоднократно там сиживал, пил вино и ждал творческого подъёма… – напрасно: ни одна незнакомка к нему не явилась, в лицо туманами не дышала.
Да и откуда бы ей здесь взяться, если всех африканцев литератор, как облупленных, знает: вон финансистка Звонкова, вон необъятная Таисия Львовна, темпераментная бухгалтерша.
Вон Носов рукой машет, к себе за столик зовёт.
Обрадовался Женя другу:
– Привет, Сергей Анатольевич.
– Привет, Евгений. Присаживайся.
Подсел литератор к приятелю, интересуется.
– Чего в жизни новенького?
Носова аж распирает от новостей.
Новости Носова
Вчера пригласили Стрекалова к следователю.
И будто подменили Фёдора Кузьмича в прокуратуре: заходил директор металлургического завода, примерный семьянин и серьёзный мужчина, а вышел тот ещё тип,
Плюх, на кожаное сидение Мерседеса:
– В «Африку», – говорит шофёру.
И глазом Стрекалов не успел моргнуть, доставил его водитель по назначению.
В ресторане встречают его чин чином: швейцар глаза пучит, метрдотель мелким бесом стелется, на кухне – тихая паника: устрицы, как назло, не из самых свежих, а ну как закажет Фёдор Кузьмич устриц, позору не оберёшься.
Но нет, обошлось.
– Водки! – с порога гремит директор.
И тотчас с подносом летит к нему человек. На подносе рюмка водки сверкает хрустальными гранями, и огурец на блюдце покоится, – пупырчатый малосольный огурчик.
Опрокинул металлург в жадную пасть чарку, хрупнул огуречной плотью и в зал проходит.
Сел за столик: час пьёт, два пьёт, уж к вечеру дело, а на нём всё лица нет… – сидит с мрачным видом и губы обвисли брылами.
Администратор Ступка даже переживать стал: может, чего не так? может, чем не угодили денежному клиенту?
Но нет, напрасны управляющего тревоги, в урочный час воспрял Стрекалов: расправил директор поникшие плечи, подзывает к себе халдея указательным пальцем, велит стриптизёрш подать.
Для компании.
Не мешкая, кликнули Раю и Клавдию,
Взволнованный администратор руки ломает, молит:
– Не осрамите девушки честь заведения, развеселите дорогого гостя.
Во всей красе явились искусствоведы пред ясны очи Стрекалова, встали богини пред мутным взором его, и начал гулять Фёдор Кузьмич, губить репутацию бесповоротно.
Ринулся в пляс металлург,
– топчется неуклюже, хаотично руками машет, и щёки его колышутся, пошли щёки насыщенными буряковыми пятнами, будто заката на них щедро плеснули,
– и брызнул закат за окном страшным свекольным цветом,
– и мечутся вокруг танцора две бестии, две ведьмы с разметавшимися волосами скачут вокруг него, белозубые хохочущие тени,
– и жутко весело директору металлургического завода, сорит деньгами Стрекалов, ревёт, будто медведь, и стодолларовые купюры норовит девушкам в стринги засунуть,
эх, Рая и Клавдия… им бы семейные труселя надеть, озолотились бы…
– Подожди, Сергей Анатольевич, – наконец, смог прервать рассказчика Курицын. – Что же стряслось у следователя?
Поведал Носов другу подробности:
– Целый день мучали органы руководителя комбината, задавали каверзные вопросы, всё про тендера выпытывали.
Но ничего не сказал им Фёдор Кузьмич, ни слова, безропотно отдал половину прибылей, ещё и благодарил, что не всё забрали, жал руку с чувством, говорил, приятно познакомиться было, рад был общаться…
Ни жив, ни мёртв, выбрался Стрекалов из прокуратуры, – даже курить не стал, сразу сюда, в «Африку».
Тут и случилась с ним описываемая выше метаморфоза: пил и плясал Фёдор Кузьмич всласть. Истово. До упаду. Затем уморился бедняга, захотел в баньку. Да не в обычную сауну или парную, а хамам ему подавай.
– Где у нас самый лучший хамам? – кричит.
Оказалось, что в Турции, в Kemer Resort Hotel.
Прыгнули в самолёт и растаяли в облаках: весьма нетрезвый мужчина и две обворожительные особы в чулках на подвязках да в стрингах, с избытком наполненных долларами.
– М-да, – произнёс Курицын. – Не лишённая интереса новость. Но не чета моей. У меня же истинно сногсшибательные известия…
Изумился Носов, что есть на свете сенсации, способные переплюнуть давешний случай, шибко заинтересовался писатель:
– Говори, говори, говори, говори, – потребовал Сергей Анатольевич. – Рассказывай.