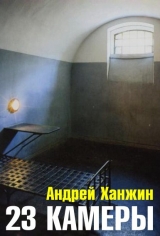
Текст книги "23 камеры (СИ)"
Автор книги: Андрей Ханжин
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
11
Нас вели по лестницам, по коридорам, снова по лестницам и снова по коридорам, и за каждым поворотом, на каждом этаже я видел двери, двери, двери, двери… Сотни и даже тысячи людей были заперты этими дверями в маленьких склепах – камерах, где энергия нечистых мыслей и немытых тел, накапливаясь, превращалась в тяжелый газ, пропитавший все желто-бурые стены всех русских тюрем.
Я шел в неизвестность со скатанным матрасом в руках и не заключение страшило меня, в конце концов каждый ребенок в этой стране чувствует свою врожденную причастность к далеким каторгам и острогам, по какую бы сторону решетки он ни находился. Нет. Это было другое чувство, незнакомое прежде, ни на чем не основанное чувство безвременности и даже вневременности происходящего. Прошлое словно спьяну просмотренный фильм, перестало существовать все и целиком, и даже короткие его фрагменты рассеялись и канули в пустоту души. Души, которая была теперь приговорена, пусть пока заочно, к впитыванию в себя всей смуты человеческих жизней, всеми ненавидимых и ненавидящих всех, и в ненависти этой – ранимых и одиноких.
Я шел и начищенный до ледяного блеска кафельный пол только усиливал ощущение того, что все происходящее сейчас не чья-то беззаконная прихоть, не мгновенная случайность, а закономерность, которая будет длиться до тех пор, пока я не смирюсь с правотой большинства, в том числе и сидящего большинства, такому же чуждому для меня, как и большинство еще или уже не сидящее.
Нас вели по лестницам и коридорам с короткими остановками на то, чтобы накормить пасть очередной камеры очередным нашим спутником. Потом снова продолжалось движение по лестницам и коридорам до тех пор, пока нас не осталось двое: я и молодой карманный вор Игорь Магуров. Перед нами была железная клепаная дверь с цифрами «41» над овальным отверстием для подглядывания.
И эта, одиннадцатая по счету камера моей жизни не удержалась в памяти целиком. Может быть потому, что пробыл в ней не долго, а может быть потому, что вспоминать было нечего. В любом случае, лица находящихся в ней людей прошли каким-то стертым пятном и даже лица Игоря я не смог бы узнать, доведись мне сейчас увидеть его фото.
12
Сегодня – это поле битвы между Вчера и Завтра. Каждую секунду Прошлое отбирает у Будущего жизненные крохи обыкновенной человеческой истории. Прошлое имеет право быть, Будущее имеет возможность состояться, потому что в сегодняшнем дне, еще нет завтрашнего, а есть только иллюзии, ожидания и вечные разочарования. Действительно в России нужно жить долго или умирать молодым, чтобы либо вовсе не видеть, либо пережить и осмыслить самого себя в переходном периоде от революции возрастного цветения к консерватизму возраста смерти.
Но что живым до смерти? Ее нет. Тюремная утроба заменяет братскую могилу, наполненную шевелящимися человеческими пороками, вечно голодными и вечно желающими утолить этот голод пожирая самих себя.
Через двое суток моего пребывания в камере для несовершеннолетних Четвертого корпуса Матросской тишины, или СИЗО N1 г. Москвы, рентгеновские снимки показали точечные затемнения на моих легких, которые, при повторном облучении, оказались очагами зарождающейся болезни, самой тюремной болезни на Руси – туберкулеза. Так, пробыв два дня в обществе двоих малолетних хулиганов и одного насильника, которому Игорь Магуров подбил глаз при попытке произвести над нами обряд «прописки», я был препровожден в тюремную больницу. Палаты были самыми обыкновенными камерами, отличающихся от общаковых клоповников наличием простыней, кусочками масла выдающимся на завтрак и ежедневными горстями противотуберкулезных таблеток, которые, при поджигании, горели таким образом, что на них можно было варить чифир в полулитровой алюминиевой кружке.
В больничной камере не было ни возрастных ни режимных ограничений. Я оказался самым младшим, а вот об остальных обитателях той гнилой пещерки, мне придется рассказать коротко но персонально, поскольку они стали первыми настоящими зеками, встретившимися мне на пути, и именно от них я должен был усвоить абсолютную бессмысленность проведения жизни в тюрьме. Бессмысленность долгую, скучную и грязноватую, поскольку, если уж жизнь и лишена, в чьих то глазах смысла, то время этой пустой жизни можно провести и более ярко, более интересно, чем в обществе рецидивистов харкающих кровью в специальные баночки, чтобы предъявлять их один раз в неделю тюремному врачу, делающему так называемый «обход» в сопровождении постоянно нетрезвой цыганки – медсестры Раисы.
Теперь невозможно вспомнить, как я вошел в ту камеру, что увидел… Наверное, поздоровался. Наверное мне ответили. Так должно было быть, так принято. Потом я закинул матрас на свободное место и разговорился с молодым человеком по имени Виктор…
Есть целые классы людей, чьи судьбы скопированы с какого-то забракованного древнего оригинала. Будто бы человечество, в поисках совершенства, забывало об экспериментальных образцах и вместо уничтожения, позволило им заняться репродукцией. Во время своего блуждания по стране, я встречал целые поселки, и даже маленькие городки, где у мужского (и, частично, женского) населения был только один путь – в тюрьму. И лишь разнообразие статей Уголовного Кодекса вносило некоторое оживление в этот бесконечный ряд однообразных преступлений. Именно такие несчастные люди составляют основную массу обитателей наших тюрем и лагерей. В каждой камере найдутся те, которых неправильно называют «преступниками». Неправильно потому, что там, где они родились и выросли, нет никаких других жизненных перспектив, кроме медленного алкогольного сумасшествия, или, если повезет, участия в какой-нибудь районной банде, промышляющей на местном шоссе. Для людей, воспитанных в такой атмосфере, большой дерзостью считалось бы поступление, например, в институт. Такому могут и хату подпалить. Так что вот уж для кого тюрьма по рождению…
И та больничная камера, куда я попал, не составляла исключения в этой закономерности. Там было семь больных туберкулезом человек, которые не сидели в тюрьме, а жили в ней, жили общинным укладом и обстановку старались не напрягать. Мне даже показалось, что они счастливы в своем заболевании, и позже я узнал, что это действительно большая удача – заболеть в тюрьме туберкулезом. Как ни странно это звучит для не посвященного, но тяжелая болезнь помогает выжить в режимных лагерях, которых раньше было достаточно много, а скоро будет еще больше. Но теперь мы говорим только о камерах, только о замкнутом пространстве, где художник Юра сделал мне первые татуировки.
Юра имел всклокоченную бородку, девять уже отсиженных лет и портрет Аллы Пугачевой на груди, выполненный казеиновой тушью. Юра был классическим зоновским художником – то есть, умел точно копировать контуры шедевров мировой живописи, с последующим перенесением их на человеческую кожу и на носовые платки, которыми, по старинной лагерной традиции, осужденные одаривали своих возлюбленных. Изображения так же стандартны и примитивны, как преступления их заказчиков. Поэтому художник Юра, нарисовавший столько Богоматерей, сколько не набралось бы у Леонардо и Рафаэля вместе взятых, тосковал по настоящей импровизации. От этой тоски, он принялся улучшать татуированную Пугачеву на собственной груди, но наложил неосторожный штрих, и лицо Аллы Борисовны прорезала глубокая Достоевская морщина. Юра воспринял произошедшее философски, и набросав примерный эскиз, принялся за превращение лица народной артистки в строгий лик святого Николая Угодника. Из смешения этих личностей, совершенно неожиданно получился леший с традиционным православным нимбом, но Юра был доволен. А мне казалось, что у него получился автопортрет.
И все же, основная его работа, заключалась в разрисовывании носовых платков, которые особо опасный рецидивист Рязанский впаривал женской части медперсонала взамен на чай, теофедрин и димедрол.
У Рязанского тоже, кстати, Юры, был персональный заскок. Он почему-то, был убежден, что газеты выдающиеся в камеру, сначала должны быть прочитаны им, а потом всеми остальными. Я совсем не интересовался газетными новостями и, в принципе, мне было безразлично даже то, что их вообще выдают в камеру, но я с интересом наблюдал за манипуляциями Рязанского, особенно тогда, когда газеты попадали (не уследил) в другие руки. В таких случаях он демонстративно подходил к столу в центра камеры, сворачивал махорочную самокрутку величиной с банан и заводил разговор с абхазцем Сандро, начинающийся всегда примерно с таких слов: «Вот, помню, в Краслаге (Ветлаг, Севураллаг и т. д.) был один наглец…» Со мною, видимо из-за идеологической несовместимости, он держался высокомерно, как официант, и пытался шутить достаточно пошло, рассчитывая на поддержку сокамерников, в случае чего… Однажды он дошутился до того, что получил от меня чайником по своей дурной голове, а абхазский гастролер – домушник Сандро, в разрушение всех рязанских иллюзий, занял мою сторону, после чего в камере, некоторое время, висело напряженное облако затаившихся обид.
Гастролер Сандро, как и положено выходцам с Кавказа, имел в Москве бессчетное количество родственников, друзей, доброжелателей и просто сочувствующих, многие из которых считались, как и положено выходцам с Кавказа, достаточно обеспеченными людьми. В нашей камере Сандро был единственным, у кого водились наличные деньги, и хотя он не демонстрировал этого преимущества, все признавали в нем камерного лидера. Такая уж участь у тех, кто ищет в деньгах собственную потерявшуюся душу – вечно кланяться тому, у кого этих самых денег много. К деньгам Сандро я был равнодушен и видимо, поэтому мы легко с ним ладили. Он рассказывал, что у него была пластинка Deep Purple и его полумосковское жлобство, на фоне туберкулезной камеры, выглядело аристократично.
Этот новый мирок казался мне необыкновенным, лишь потому, что я еще не знал, как часто будут повторяться подобные натуры в моей последующей жизни. И все эти Юры, Сандро, Витьки, Саньки, Петручино и Маги, выглядели тогда дремучими инопланетянами на фоне пролетарских передовиков, выведенных искусственным способом, и я не верил в их убожество, принимая их за бунтарей. Какая наивность! Мои иллюзии рушились с такой душевной болью, какую может почувствовать лишь тот, кого предал самый близкий человек. Нет, я не доверился никому из них, чтобы быть преданным, нет, просто что-то гибло во мне и взывало о помощи, а я не понимал, что именно гибнет. Оказалось – вера в людей. Остальные потери были незначительными.
Лечили меня шесть месяцев и несколько дней. За это время я успел научиться играть в самопальные карты, разговаривать по фене и делать заточки из супинаторов, у меня появилась татуировка, часть которой была вырезана скальпелем местным полуопером – полухирургом, который и сообщил мне о моем же выздоровлении… а еще я получил персональный срок – четыре с половиной года общего режима, и был отправлен в следующую камеру, где четверо таких же осужденных малолеток дожидались этапа в неизвестность.
13
Тюрьма так неистово ликовала по поводу смерти Генсека Брежнева, что отдельные вопли наверное, слышались даже на похоронах. Все ждали амнистии. Видимо, так прочно закрепилась в арестантском сознании взаимосвязь между смертью Сталина и последующим массовым освобождением из лагерей, что кончина Леонида Ильича ассоциировалась с большим праздником свободы и опровергнуть это ожидание было нечем. Между Сталиным и Брежневым никто не умер на посту.
Зеки радовались не самой смерти правителя, а тому, что предположения, в принципе, сбываются. Кто-то, когда-то, на забытой пересылке говорил, что вот умрет вождь – отпустят и рабов. Разве можно было поверить, что Брежнев когда-нибудь умрет? Он же бессмертен, как Кобзон, или как Алла Пугачева! И вот Брежнев ушел, как говорится, в мир иной. И если уж это произошло, то чего там, амнистия… Мелочь. Можно и не сомневаться.
И все таки тюремная болезнь поражала меня слишком медленно. Я не верил ни в какие амнистии, не верил в перемену участи, не верил, потому что не ощущал себя частью той массы, на которую распространяются указы и приказы. Ожидать государственного снисхождения было для меня равносильно признанию в совершении преступления. А в этом я не мог признаться, тем более самому себе. Да и что такое тюрьма? Это всего лишь ограниченная разновидность обыкновенного быта, существование по тем же самым законам, по которым существуют еще не арестованные граждане, и если я не признавал это бессмысленное подчинение размеренному ходу событий на воле, то почему я должен был признать ту же самую бессмысленность в тюрьме.
Любители спокойствия и равновесия возразят мне и будут правы, как прав каждый человек имеющий собственную точку зрения, как прав и я, имеющий свою. Будущего еще нет. Прошлого уже нет. И есть только Сегодня, в котором разрывается на части человеческое существо в поисках пространства, где можно будет создать и узаконить свой личный маленький рай. И далеко не в каждом пространстве хочется жить, тем более, что-то строить.
В тринадцатой по счету камере моей жизни не было никого, о ком мне хотелось бы написать хоть одно слово. Даже память отказалась фиксировать лица их и их имена. А вот амнистия действительно вышла, хотя и была официально приурочена к шестидесятилетию образования СССР. Говорят, под нее попали многие. Я не попал. Я сидел в день ее опубликования в карцере и постигал науку выживания.
14
Камера карцера была длиной в пять шагов и шириной в четыре. Сквозь маленький квадрат не застекленного окошка пробитого сквозь метровую тюремную стену под самым потолком, сквозила декабрьская стужа, от которой покрывался корочкой льда влажный цементный пол. Нары отстегивались от шершавой стены только на ночь, с одиннадцати вечера до пяти утра, поэтому все остальное время суток приходилось проводить на ногах, лишь изредка присаживаясь на корточки, чтобы хоть как-то отдохнуть. Тусклая, противно-желтая лампа, едва светила сквозь закопченный плафон, и ее грязное свечение делало картину безысходности цельной и завершенной.
В карцер я попал за драку, которой не могло не закончится мое пребывание в камере для осужденных. Тогда, в восемьдесят втором, малолеткам давали не более пяти суток штрафного изолятора, но содержать несовершеннолетних положено было в одиночках. Двумя существенными привилегиями, по сравнению со взрослыми нарушителями, обладали малолетки: телогрейкой с оторванными рукавами, которую выдавали на ночь вместо матраса и ежедневной баландой, в отличие от взросляков, получавших пайку через день. Во всем остальном, – в не застекленном окне, в ледяном полу, в постоянном хождении и в казенной робе без пуговиц на голом теле, мы были равны.
Баланда была без гущи, похожая на смывки с обеденного котла, но вопросы питания меня не интересовали. Даже то, что меня кормили каждый день, а рядом, в соседних камерах, маялись совсем голодные люди, было не очень приятно осознавать, хотя бы «обедом» была и просто мутная горячая вода. Брал же эту похлебку я лишь по той причине, что вместе с ней, баландер вылавливал из бачка запаянные в целлофан сигареты, в каждую из которых был, воткнут обломок спички и кусочек чиркаля от коробка. Сигареты всегда были «Дымок». Может быть в тот момент какой-нибудь кусок затвердевшего сыра был бы более полезен для растущего организма, но в тех заплавленных в целлофан сигаретах было нечто большее, чем табак. В них была поддержка. В самом обряде распечатывания и прикуривания содержалось понимание того, что ты не один, что ты не брошен, что кто-то думает и о тебе, засаженном в этот мрачный холодильник, и даже анонимность отправителя – все поддерживало.
Пять суток – это не много. Но это был первый карцер, рассеявший все иллюзии о государственном гуманизме. Механизм лишь тогда работает без сбоев, когда помехи устраняются в корне. Что человек против тюремной организации? Даже если случайно… Даже если проходил мимо и встал на пути… Даже если за собственное достоинство. Все – лирика. Поэтому, пять суток не много, но вполне достаточно, чтобы сделать выводы обо всем. Да, есть, наверное, страны, где сидят в земляных ямах… Один человек говорил мне, что Индии ужасные условия содержания. Но ведь есть разница между тем, когда человек страдает оттого, что таковы условия вообще и тем, когда человек понимает, что его мучают специально, что его ломают как личность, лишь за то, что он пытается отстоять эту самую личность и ничего более.
Не было злобы. Было только желание согреться. Я ходил до ломоты в ногах и пел. Я перепел все известные мне песни на русском языке и, коверкая слова, – на иностарнных. Я не думал ни о прошлом, ни о будущем. Мне хотелось просто уснуть в тепле. Уснуть и хоть какое-то время не видеть себя в тюремных стенах. Но вместо этого, тридцатого декабря, я услышал канонаду и сквозь оконную дыру рассмотрел отблески праздничного салюта по поводу шестидесятилетия образования Советского Союза. Оставались еще сутки. Было грустно.
15
Что может быть проще упорства всегда и везде оставаться самим собой? И что может быть сложнее! Мы проигрываем одинаковые жизни в разных декорациях, будучи уверенными, в уникальности и неповторимости собственных судеб, наверное и отчасти это так. Мы различны и неповторимы, как узоры на крыльях бабочек. Во всем остальном – мы классифицированы, запрограммированы и спрогнозированы. Какая-то разновидность более многочисленна, какая-то менее, но наши прототипы шествуют по страницам древней истории и мы ни в чем не преуспели в отличие от них, кроме того, что головы наши засорены таким количеством паразитической информации, что не осталось места для собственных мыслей.
Быть самим собой – это не значит пробивать лбом тоннель в монолитной породе. Быть самим собой – это, по моему разумению, не опуститься ниже того морального человеческого уровня, на котором смог задержаться. Что бы ни происходило! Нужно копить силы для жизни. Нужно копить победу духа для смерти. Каждый шаг, каждое слово, каждое колебание пульса – все, на чем не дрогнул, поможет собраться в трудную минуту, когда настанет ночь.
Я не боялся тюрьмы, потому что не боялся людей. Я еще не знал какими могут быть люди. Я еще не верил в жестокие законы жизни, хотя они, эти законы, уже коверкали меня не встречая осознанного противодействия. Я защищался инстинктивно, ни на чем не настаивая, ни к чему не привыкая. Одно лишь движение без направления… Будущего нет.
Капитан-воспитатель четвертого корпуса для несовершеннолетних шипел в лицо, еле сдерживаясь:
– Я тебя сгною… Ты у меня в такую зону поедешь… На Можайку!.. Или на спец-усиленный, с раскруткой, за то, что сокамерника избил!
Мне не верилось. Точнее, мне было безразлично. Из карцера я должен был выходить тридцать первого декабря в восемь часов вечера. А утром того же дня в карцерный подвал спустился капитан, надеясь увидеть меня сломленным и раскаивающимся. И ему действительно показалось что я раскис… Поэтому он вкрадчиво принялся излагать мне сладкую перспективу жизни старшим по камере. Другими словами, он предлагал мне стать записным стукачом и просидеть в Матросской тишине еще месяцев шесть, а за это он составит мне «хорошую» характеристику и направит в «хорошую» зону, откуда я освобожусь условно-досрочно.
Взбесился он не от моего отказа. Отказы, я уверен, ему приходилось слышать часто. Мне показалось, что остервенел он от того, что я позволил ему выложить программу сладкой жизни до конца, а уж потом вежливо заявил, что иначе смотрю на вещи и планирую отправиться в лагерь. Вот тогда-то он и высказался насчет Можайской колонии.
В то время малолеток из Матросской Тишины, тех, у кого был общий режим, отправляли в основном в три лагеря. В Можайск, в Алексин Тульской области, и в город Бобров, области Воронежской. Можайка считалась показательной зоной, лютой зоной, козьей зоной, и отправкой туда пугали всех равнодушных. Ничего не знаю об Алексине, но, забегая вперед, скажу, что и Бобров оказался хорошей школой ненависти ко всему упорядоченному… А в тот предновогодний день, капитан-воспитатель успел подготовить документы на этап, и меня, в восемь часов вечера, повели не на четвертый этаж в прежнюю камеру, а на сборку, в маленькую этапную каморку (малолеток, особенно осужденных, строго отделяли от взрослых), и едва за мной захлопнулась дверь, едва я развалился на деревянной лавочке, отдыхая и отогреваясь после карцера, как дверь снова закряхтела и в полумраке я увидел вошедшего парня с полупустым целлофановым пакетом в руках. Это был Игорь Магуров.
Вот не помню его лица! Целлофановый пакет с умывальными принадлежностями помню. А лицо забыл. Так что остается Игорь Магуров только именем.
И снова приходят мысли о том, что мы не знаем себя. Утверждаемся в чем-то одном, достигаем успехов, выдаемся, а потом, ближе к старости, к смерти, выясняем, что старания наши на данном поприще были и не обязательны вовсе. Это просто чтобы комфортнее было жить до и после… Чего? После чего? Не знаю. Может быть моя индивидуальная земная миссия в том, и состояла, чтобы в этапной камере Матросской тишины поделиться со случайным товарищем, идущим в грузинский лагерь, шерстяными носками и теплой зимней тельняшкой… А все остальное в последующей жизни: любовь, верность, поэзия, философия, дочь – это награда за носки и тельняшку… Только распорядиться не смог этим золотом для дурака… Не знаю. Правдоподобно.
Так мы и встретили – вдвоем – новогоднюю, тысяча девятьсот восемьдесят третью ночь по григорианскому стилю, в обыкновенной камере-стакане с коричневыми, толи от краски, то ли от жизни, стенами и высоким потолком, черным, как январская полночь.
Через много лет, в Березанской колонии строгого режима, один сухумский жулик сообщил мне, что Игоря Магурова убили в грузино-абхазской войне. Говорил, что знает наверняка.





