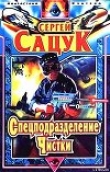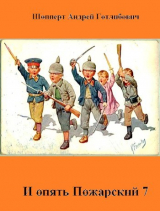
Текст книги "И опять Пожарский 7 (СИ)"
Автор книги: Андрей Шопперт
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 6
Событие шестнадцатое
Этот съезд Пётр Дмитриевич Пожарский задумал ещё осенью. И вот сегодня 25 декабря 1626 года все делегаты, наконец, собрались. Проходило мероприятие в актовом зале Академии Наук. Зал мог вместить и гораздо больше людей, но уж сколько есть. Всем участникам перед началом в фойе вручили медали. Чтобы никому мало не показалось, Пётр текст на медали придумал заковыристый: «Делегат I Всероссийского Съезда селекции Канабиса». Пойди, догадайся. На самом деле всё просто, и на обратной стороне медали зелёной эмалью был нарисован лист конопли.
Сannabis – это латинское название конопли. А задумал это мероприятие Пётр, когда столкнулся с нехваткой пеньки для канатов. А ведь до этого он был уверен, что все канаты в мире делаются из русской пеньки, которую жадные европейские купцы скупают у лопоухих русских за бесценок в Архангельске. Частично это оказалось правдой. В Архангельске и, правда, за бесценок скупали пеньку. И было её в целом не мало. Только вот Пётр строил сейчас на Днепре целый флот, цены сразу взлетели до небес. А ещё он построил фабрику по переработке конопли, и фабрику по производству канатов, и фабрику по изготовлению парусов, и фабрику по производству конопляного масла. А сырья – чуть, и оно страшно подорожало. Да ещё и аглицкие купцы взвыли. Хреново получилось.
Нужно было срочно увеличивать площади под эту культуру, ну и, естественно, увеличивать урожайность. В конце октября сотня стрельцов разъехалась по всей стране с целью разыскать и доставить в Вершилово крестьян и дворян, преуспевших в выращивании конопли. Опытом будут делиться. Понятно, что и все селекционеры Вершилово были приглашены на «Съезд». Ещё Пётр позвал несколько химиков, ведь из конопляного масла изготавливают олифу, лаки и краски. Используют его также и в мыловарении. Ну, и фармацевтов. Это в двадцать первом веке таблетки. Сейчас всякие отвары и настои. И совсем не последнее место среди них занимают лекарства из листьев, семян, цветов и даже корней конопли.
Три дня Пётр слушал косноязычные «доклады» крестьян. Слух, уже привыкший к изменившейся речи Вершилова с трудом продирался через все эти: ежи, токмо, надысь, вельми понеже. Только это не главная беда. Главная – это переводить старорусские меры в нормальные. Четверти, осьмины, чети, вершки, сажени, кади, фунты, пуды, аршины, локоть «московский», локоть «иванский», пядь, цебр, куль, гарнец и ещё и ещё. Как сами-то не путаются?
Тем не менее, полезную информацию удавалось выудить. Так Пётр понял, что конопля растение двудомное. Причём, имеют оба пола свои названия. Мужские называются посконь, а женские – матерка. При этом посконь созревает на 20 дней раньше матерки. И это проблема. При возделывании конопли для получения волокна высокого качества, сбор её производится до вызревания семян, одновременно мужских и женских стеблей. Волокно высшего качества получается при возделывании исключительно на волокно без цели одновременного получения семян. В последнем случае качество и волокна и семян получается посредственным. Но ведь нужны и семена для того, чтобы садить на следующий год. А на масло?
Пенька́ – грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли. Добывают путём долгого (до трёх лет) отмачивания конопляной массы в проточной воде. Три года! Да где столько ручьёв и рек найти? Дальше, ещё хуже. Урожайность получилось посчитать. Вышло от 5 до 10 центнеров с гектара. А с центнера получается только 25 килограммов пеньки. То есть урожай – от центнера до двух с половиной центнеров с гектара. Это мало.
Ещё получилось выяснить, что конопля лучше растёт в более южных областях, а значит нужно выращивать её во вновь создаваемых городах на Волге и Белой. Конопля к тому же сильно обедняет почву и если не вносить навоз и золу, то второй раз на этом же участке сажать не стоит, так как урожай будет совсем плохой.
Были и ещё плохие и хорошие новости. Так один из дворян сказал, что когда был в Шемахе, то видел там плантации конопли и они в два раза выше и гораздо толще. Что ж, придётся туда отправлять людей за семенами. Хотя, может дело в климате. Обязательно нужно попробовать посадить в Астрахани, пока это самый тёплый русский город. А ещё Пётр вспомнил про Украину. В Запорожье тоже не холодно. Нужно будет и там попробовать народ заинтересовать. И про Воронеж с Белгородом забывать не следует. Нужно только операцию по покорению Перекопа начать и кончить.
Всем делегатам князь сообщил, что его люди будут скупать пеньку для фабрик, построенных в Смоленске. Смоленск ближе Архангельска. И приём будет не ограничен. Сколько привезёте, столько и возьмём. А чтобы был дополнительный стимул везти пеньку в Смоленск, там изделия фабрик: парусина, верёвки, прочные мешки, масло очищенное и перебранные хорошие семена, будут отпускаться с серьёзной скидкой.
Пришлось озадачить химиков, нельзя ли сократить трёхлетнее вымачивание, может щелочи или кислоты справятся. Главное, не ухудшить качества. Аптекарей князь тоже озадачил. Из сбивчивых рассказов крестьян и своих травниц он понял, что в конопле есть анальгетики и антибиотики. Пусть повозятся. Вон со слов одной из бабок, кашица из листьев конопли лечит простуду на губах, то есть Герпес. Совсем не плохо. А ещё эта же кашица снижает боли от ушибов. Нужно будет немцев и голландцев подключить. Пусть для полка подготовят.
Будем считать, что с пользой провели предновогоднюю неделю.
Событие семнадцатое
Трофим Силыч Акинфиев вышел от Государя мокрый с головы до ног. И не водой его царь батюшка окатил. Взмок сам, отчёт ежемесячный представляя. Крутенько жизнь изменилась у бывшего дьяка. Ещё сто раз посчитать надо, что лучше, сидеть в сытости и забвении городовым дьяком где-нибудь в Нижнем Новгороде или, как сейчас, быть Судиёю и дьяком одновременно Приказа Дорожного Строительства. Да, на Москве отгрохал себе Трофим Силыч каменную домину в два поверха, да с мезонином ещё.
К мезонину архитектор Модерна из Вершилова ещё и балкончик с витыми прутьями присобачил. Красиво. И нет на Москве второго такого. Бояре косятся и от зависти готовы всякие неправды на Акинфиева возвести. Если б, не заступничество Петра Дмитриевича Пожарского и самого Государя императора давно бы строил тропинки в Сибири Трофим Силыч.
Да, что дом? Он в том доме и не бывает почти. Вечно в разъездах. Не маленькая ведь Российская империя. Где та Рига, куда сейчас дорогу тянут из Полоцка? А где Псков с Нарвой? А Казань? И везде нужно побывать и всё проконтролировать. Чуть не доглядишь, и разворуют деньги и не построят дороги, а ещё хуже, построят, а она осенью просядет. Нарушили, значит, проект. Исправлять треба, а за чей счёт.
Доклад Государю происходил десятого числа каждого месяца. Вот и сегодня, десятого января 1627 года Трофим Силыч с целым тубусом карт с самого утра дожидался, пока Михаил Фёдорович выберет время для беседы с ним. Редко, когда десятое число приходилось на большой церковный праздник, доклад переносился на пару дней. Сегодня праздника не было, Рождество Христово прошло, а Крещение ещё не наступило.
Летом доклад императору выглядел так, приносит Акинфиев карту Государю, где красным карандашом отмечена дорога, что за месяц построена. Михаил Фёдорович её измеряет, проверяет цифры в грамотке по расходам на дорогу и, попеняв, что мало прошли за длинный месяц июль или Липень, (в этом месяце цветут липы) подписывал грамотку, что отчёт принимает. Тогда вместе с Государем дорогу красную перекрашивал дьяк в коричневый цвет.
Зимою же дорог никто не строил. Нет, людей можно заставить или большими заработками прельстить и они чего-то построят. Только настанет весна, земля растает, побегут ручьи и дорога или провалиться может или вообще её размоет. Нет. Хоть и коротко лето, а строить дороги князь Пожарский уговорил императора только до конца сентября (вересеня). Только забот у судии Приказа Дорожного Строительства зимою не меньше, а в разы больше. Нужно на большой карте Российской империи нанести прямую линию жёлтым карандашом до очередного города, в коий и будет дорога тянуться. Потом по этим местам нужно направить картографов, чтобы они все более тщательно на малых картах изобразили. Дальше уже прямую линию приходилось искривлять. Много чего при этом учитывая. Тут брод через реку в нескольких верстах от намеченного пути, там большое село или малый городок в стороне остаются, в третьем месте скалы из земли торчат.
Уже с искривлённой и нанесённой на большую карту дорогой отправлялся дьяк к Михаилу Фёдоровичу. Иногда и он исправлял чего. Так при прокладке дороги до Новгорода Великого искривил Государь жёлтую линию, чтобы прошла она через Спасо-Преображенский монастырь в Старой Руссе. В Смутное время монастырь неоднократно опустошали шведы. В подробной описи Старой Руссы, произведённой боярином Александром Игнатьевичем Чоглоковым в 1625 году, через 8 лет после освобождения города от шведов, указывалось, «что Спасский монастырь на посаде разорён, и дворы около него выжжены». После шведского разорения старанием игумена Авраамия в 1626 году была восстановлена церковь Преображения Господня с устройством в ней вместо деревянной каменной паперти. Кроме того, после разорений XVI века в монастыре существовали две деревянные церкви: Рождества Христова и Сретения Господня. В том же 1626 году была построена каменная трёхъярусная колокольня, а деревянные церкви Рождества Христова и Сретения Господня были заменены каменными. Государь за монастырём присматривал. И зело обиделся на Акинфиева, что он дорогу решил проложить от Смоленска через Невель и Псков. Император же нарисовал через Великие Луки, потом на Старую Руссу и дальше в обход озера Ильмень.
Пришлось даже в том случае Петру Дмитриевичу вмешиваться. Дорога через Псков в разы важней, ведь дальше она ответвлялась на Нарву. А только на помощь сыну пришёл патриарх Филарет. В результате решили обе дороги строить.
После утверждения у Государя жёлтой линии начинались подготовительные работы. Где лес надо выкорчевать, где склады построить и щебень с гравием туда по снегу на санях завезти. Где мост деревянный через реку кинуть. Да много чего ещё. Сейчас вот досталось Трофиму Силычу, что больно петлявистая дорога от Полоцка до Риги. Так разве он виноват, что река Двина петляет, Прямую-то линию нанести можно, а потом что, десятки мостов строить? А как корабли будут ходить под мостами? Ох, тяжела она государева служба.
Сейчас дороги строились сразу в несколько направлений: на Казань (уже за Чебоксары перебралась), на Ригу и от Москвы на Киев через Брянск и Чернигов. Взмок же ещё Акинфиев и от того, что объяснял Михаилу Фёдоровичу, что прошло уже два года и нужно будет шведов освобождать по уговору с королём Густавом. А где рабочих брать. Есть, вестимо, ляхи ещё и литвины, но ведь три дороги, а не одну тянуть надо. Тут конечно чуть покривил душою дьяк. Часть шведов не могла себя выкупить, часть решила остаться на строительстве вольнонаёмными. Да ещё и чухонцы прознали, что денежку неплохую можно заработать на строительстве, так что за дорогу на Ригу сильно Трофим Силыч не переживал. На дорогу до Киева пленных ляхов и прочих разных из пригнанных князьями Пожарскими тоже хватало. А вот с дорогой на Казань сложнее.
Государь дьяка отругал и потом, уже чуть смягчившись, усмехнулся.
– Год протянуть тебе надобно, а потом татарвы нагонит тебе Пётр Дмитриевич.
Дай-то бог.
Событие восемнадцатое
Январь прошёл бездарно. Пришлось всё бросить и заниматься пароходом. Генерал Афанасьев точно был далёк от теплотехники. Читая книги про Цусиму, он натыкался на термины вроде «котёл двойного или тройного расширения», но кроме общего ощущения, что такие котлы экономичней и мощнее, наверное, ничего из этих книг не вынес. Ещё там, в экстренных ситуациях заклёпывали клапана. И что из того? Зачем сейчас эта информация? Лучше бы писали – чугунные там детали или стальные.
С единственным пароходом Вершилова всё лето случались несчастья. Он несколько раз натыкался на топляки и лопасти винта гнулись. Пётр был далеко, и повлиять на ситуацию не мог. Его механики пошли своим путём, они сделали винт страшно массивным. В результате мощность и без того не очень большая ещё упала. Только ведь и это не помогло, кораблик налетел на мель, причём, каменистую, и вал согнуло и винт покорёжило.
Пётр Дмитриевич осмотрел вытащенный на берег пароходик и стал думать. Напрашивалось два решения. Первое, это сделать шаг назад и заменить винт колёсами. Может быть, не зря предки гоняли по рекам колёсные пароходы. Это потом понастроили плотин и гидроэлектростанций, сейчас мелей хватало. Топляками же Волга просто кишела. Кто виноват? Понятно, князь Пожарский. Он все леса уже на Руси извёл на строительство городов на Волге и Белой, да на отопление зимой этих городов. Плывут и плывут всё лето плоты по рекам.
Ладно, виновного нашли, теперь нужно решить, что делать. А делать решили с механиками следующее. Во-первых, строить два парохода. Первый будет с колёсным движителем. Второй чуть усовершенствуем, сделаем винт чуть повыше и закроем его в ящик из прутьев. Только это ведь не все беды. В цилиндре при разборке двигателя осенью обнаружили серьёзный задир. Первый цилиндр был отлит из меди. Подумали, поприкидывали, и отлили почти все запчасти из чугуна. Как раз накопилось прилично изношенных и сломанных рельс.
Пока механики точили, строгали, подгоняли и собачились, Пётр решил переговорить с самыми опытными кормщиками. Как не посадить корабль на мель? Оказывается, товарищи запоминают ориентиры. Ну, не дебил ли? Ведь на реках в будущем будут бакены, а, следовательно, и бакенщики. Ладно, стальные тонкостенные буи сейчас ещё не изготовить, а если и удастся сделать, так всю Волгу им утыкивать – разоришься, да и разворуют. Железо пока очень дорого. Но кто мешает, эти ориентиры установить на берегу в виде, скажем, большого креста. Увидел крест, значит, напротив него мель. И попробуем сделать бакены для указания фарватера деревянными. Мели постоянно меняются, поэтому за бакенами нужно следить. Получается, что надо напротив мелей организовывать деревеньки и селить в них бакенщиков. Они же потом будут и фонари зажигать на бакенах. И тогда можно плыть не только днём, но и ночью. Хотя бы без парусов и вёсел, просто спускаться по течению. За ночь корабль и сам несколько десятков километров преодолеет.
Ясно, что есть закавыка. Татары, башкиры, ногаи, калмыки и прочая нечисть, в том числе и волжские казаки, эти деревеньки будут грабить и даже вырезать, а молодых и здоровых пейзан обращать в рабов. Получается, что просто деревеньки не получится. Нужна крепость, гарнизон, снабжение. Нужны деньги. А ведь в прошлом году и так в минус ушёл. Ещё одно смущало. Проплывая по Волге на теплоходе в конце двадцатого века, генерал Афанасьев поражался пустынностью её берегов. Почему эти плодородные земли пустовали? Не было народу, чтобы их заселить? Холодные зимы с метелями? Вечные ветра, так как нет лесов? Отсутствие топлива зимой?
Что ж, нужно сажать леса. Забьём это в план на следующий год. Кресты как ориентиры тоже поставим. Ну, и попробуем хотя бы по одной крепости у этих крестов и по одной деревеньке в год строить. Мориски с гугенотами едут и едут. В той истории на Волге даже немецкая республика существовала со столицей в городе Энгельсе. Пусть у нас будет французская и мавританская республика. Да и про немцев стоит подумать. Там в Европе голод, война и эпидемии, наверное, не мало желающих найдётся оказаться от всего этого подальше.
До кучи заменили поршня и цилиндры и на паровозах (трамваях). Их теперь три стало. Один, как и раньше возил людей из центра Вершилово до промзоны и обратно. Второй маршрут появился только осенью 1626 года, он соединил цент Вершилова с Нижним Новгородом. Маршрут был длинный, больше двадцати километров, и по нему каталось два паровозика. И не трамвай даже, а целый поезд. Сам паровоз, два вагона пассажирские и платформа для грузов.
Рельс чугунных хватило ещё и десяток километров проложить от Нижнего Новгорода в сторону Гороховца, ну или Владимира. До Гороховца около девяноста километров, Пётр надеялся, что в этом году удастся дотянуть железнодорожный путь до этого городка. Подготовка и зимой не прекратилась. Шпалы делают. На один километр пути нужно 1840 шпал, то есть на девяносто километров чуть ли не 170 тысяч шпал. Дофига. Всей Руси целую зиму корячиться. А ведь их ещё пропитать надо. Креозот из дёгтя и каменноугольной смолы сейчас целый завод перегоняет. Чаны для пропитки шпал из меди отлили.
С одной стороны всё замечательно, а вот с другой. Сколько такая дорога железная будет стоить. Точно можно разориться. Пришлось князю пойти на непопулярную меру и с первого января проезд до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Вершилова сделать платным. Одна копеечка. Не обогатишься. Но хоть немного денежек набежит и желающих просто «прокатиться» поубавится и чуть может инфляция снизится.
Глава 7
Событие девятнадцатое
Анри Бенни сидел на корточках перед печкой у себя в дому и подбрасывал дровишки в топку голландки. За перегородкой плакал его первенец названный в честь деда Симоном. Малышу уже исполнилось три месяца. Опять есть, небось, захотел. Как в них только влезает столько? Едят и едят каждые несколько часов. Но крики маленького Симона и подбрасывание дровишек в печь не отвлекли Анри от не дававших покоя мыслей. Вроде бы и решил уже всё, а голова, будь она неладна, опять думает, а правильно ли он поступил. Не упустил ли эту русскую жар-птицу?
Из зачумлённого Парижа поздней осенью, почти зимой они выбрались почти без происшествий. При этом совершенно неожиданно и у сестры жизнь наладилась. Один из изобретателей, что уговорил Анри перебраться в Вершилово, студиоз недоучка из Сорбонны, положил глаз на вдову, да и сладилось всё у них. В Кале их даже священник обвенчал. Теперь у сестры фамилия Мариотт. Зятя Анри зовут Жан. Интересная с ним история приключилась, когда приехали они в Вершилово и встретились с князем Пожарским. Нового родственника Бенни о его семье практически не расспрашивал, так узнал, что отец его Симон Мариотт – глава коммуны в местечке Тиль-Шатель, что в Бургундии, чуть к северу от Дижона.
Князь Пётр Дмитриевич же при упоминание Бургундии и фамилии нового жителя Вершилова изумлённо поднял глаза и стал детально выспрашивать обо всех родственниках. Оказалось, что у Жана есть младший брат Эдм Мариотт, который родился в 1620 году, мать, урождённая Екатерина Денизо и три сестры – Дениз, Клод и Екатерина. Сёстрами и родителями Жана Пётр Дмитриевич не заинтересовался, а вот о брате пару вопросов задал. А потом сказал загадочную фразу: «Наверное, он и есть». И предложил зятю написать приглашение всей семье перебираться в Пурецкую волость.
Недавно и приехали все, кто же откажется переехать в Вершилово. А вот самому Анри Пётр Дмитриевич предложил недавно в эту самую Бургундию перебраться. Вольное графство Франш-Конте Бургундия чем-то приглянулось князю Пожарскому, и он туда уже несколько человек отправил. Там нужно было купить ферму или даже замок, если получится, и начинать обустраиваться. Скупать земли у крестьян и разорившихся дворян, нанимать крестьян, организовывать производство. Богатеть. И в любом разговоре с местными подчёркивать, что в Пурецкой волости люди живут гораздо богаче, не голодают, не болеют почти, и нет там ни какой войны. А всё потому, что герцог Пожарский очень мудрый правитель. И это не враньё ведь. Это чистейшая правда. Вот сейчас в Бургундию отправлялся десяток ветеранов вершиловского полка. Все они получили от Государя императора Михаила Фёдоровича грамоты на дворянство. В Доле в банке Взаимопомощь им выделят деньги на приобретение земли, ферм, замков, кто чего пожелает. Предложил князь Пожарский возглавить эту экспедицию как раз Анри и дворянство тоже пообещал.
И не решился Бенни, сын совсем кроха, да и боязно начинать снова с нуля в незнакомой стране. Тут уже и друзья и родичи. Тут на самом деле лучший город мира. А дворянство и богатство? Ну, по-другому разбогатеет. Сейчас тем более Анри в школу во второй класс для взрослых пошёл. Закончит школу, может в институт Силикатов поступит, зять поможет подготовиться. Потом, глядишь, и одним из руководителей на фарфоровом заводе станет.
Нет. Правильно он отказался. Пусть, кто посмелее пробуют графами да боронами становиться. Нас, как сам Пётр Дмитриевич говорит, и здесь неплохо кормят.
Событие двадцатое
8 января 1627 года скончался схимона́х, или схи́мник Иона. Известие об этом прискорбном событии добралось до ушей князя Петра Дмитриевича Пожарского только 13 февраля. Добралось, избрав вестником аж самого патриарха Филарета. Не тривиальный вестник. Хотя ведь и событие не из последних в Российской империи. Монашество, а потом и схиму перед смертью принял один из членов Семибоярщины князь Иван Михайлович Воротынский младший. Тот самый Воротынский, что был вместе с Михаилом Романовым претендентом на русский престол, но шестнадцатилетнему Мишутке проиграл. Интриги. Отроком легче управлять.
Вообще, никто это время пока семиборщиной не называл. Позднее, получается, термин выдумали. После смерти Воротынского осталось из семи бояр трое: князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский (в 1606 году пожалован в бояре Лжедмитрием I), (его жена – Анастасия Никитична Романова сестра патриарха Филарета), боярин Иван Никитич Романов (боярином товарища сделал всё тот же Лжедмитрий) и боярин Фёдор Иванович Шереметев (и этого боярином сделал самозванец).
Пётр только закончил пароходные дела и занялся доработкой первых винтовок. А тут всё колокола грянули. Пришлось идти умываться и встречать Его Святейшество. По правде сказать, дела к патриарху у Петра Дмитриевича были. Во-первых, у него чесались руки показать хоть кому-то добытые во Франции святые реликвии. Зря что ли люди мучились? Сейчас все привезённые сокровища находились в запертой на множество замков и засовов отдельной комнате дворца. Там даже постоянный пост находился, стрельцы из самых преданных и опытных менялись каждые два часа. Что хранится в запертой комнате никто кроме десятка Шустрика и самого князя не знал. Во-вторых, Пётр, награждая людей привёзших священные реликвии, отправил 118 Патриарху Иерусалимскому и всей Палестины Феофану III, письмо с просьбой наградить Саньку Гамова орденом Святого Гроба Господня. Отправил и задумался. А почему на Руси нет своих церковных орденов. В двадцатом веке этих орденов русская православная церковь множество напридумывала. Был среди них и Орден Преподобного Сергия Радонежского.
Генерал Афанасьев его даже видел. Как-то был приглашён на одно мероприятие в Киев, по поводу его освобождения от фашистских захватчиков, и Президент Украины Янукович Виктор Фёдорович был тогда награждён им. Тот самый Янукович, что и был причиной случившихся потом с Украиной бед и несчастий. После Рождества Пётр и попытался по памяти нарисовать этот орден. В целом ничего сложного. Монетный двор его отчеканил, а ювелиры доработали. Вот князь Пожарский и хотел передать патриарху два десятка коробочек фарфоровых с этими орденами. Ни чем мы Иерусалима и Ватикана не хуже.
Оказалось, что и Филарет прибыл с подарком. На освободившееся место в Боярской Думе выбрали Петрушу. Боярская Дума, в отличие от «Думы» в оставшемся в прошлом будущем, законов не принимала. Она просто была совещательным органом при царе. По всем делам выносилось решение в следующей форме: «Государь указал и бояре приговорили» или «По государеву указу бояре приговорили». Ещё это было место, откуда «черпали» воевод в самые ответственные города Руси. Петру сидеть и утверждать указы Государя, было просто некогда, а отправляться воеводой в Архангельск или Казань, вообще бред. Тогда зачем? Это и спросил у патриарха Пётр.
– Ты же, Пётр Дмитриевич, сам Мишутке присоветовал новых бояр не плодить. Только князь Воротынский не просто боярин, а самый первейший. Его место не может пустовать. Считай, что двух зайцев и убили. И место занято, и никого лишнего не возвысили. Хоть и не очень мне понятно, почему достойных людей нельзя Государю в совет выбирать. Оплот это царства.
– Это оплот смуты. Две трети заседающих в Думе побывали и при Васили и при Лжедмитрии. Они же и Владиславу корону Руси сосватали. Какая это опора? Опора вот здесь, в Вершилово, учится. Опора это те на кого рукой опереться можно. На нонешних же попробуй опереться. Перенесёшь тяжесть на руку, что на опоре лежит, а там пустота. К врагу опора переметнулась. Тот больше пообещал. И Государю императору говорил и вам, Ваше Святейшество, скажу нужно уменьшать количество людей в Думе и возможности её ограничивать. Нужно законы принимать и жить по законам, а не «по старине».
После торжественной литургии 15 февраля в соборе по случаю Сретения Господня или принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями и награждения новым орденом боярина князя Петра Дмитриевича Пожарского и никому неизвестного десятника Александра Фомича Гамова, Пётр пригласил Филарета в тайную комнату и показал Святые Реликвии.
– Что же ты натворил, Петруша?!! – синеющими губами прохрипел Филарет, схватившись за сердце, когда осознал, что же он такое видит в неярком свете керосиновой лампы.
– Восстановил справедливость, – пожал плечами Пётр.
– Теперь ведь король Людовикус войной на нас пойдёт, а может и ещё каких государей с собой уговорит отправиться «покарать татей», – чуть отдышавшись, и не переставая креститься, прошептал патриарх.
– Не простое это мероприятие, на нас войной идти. Франция сейчас со своими гугенотами воюет, да с Англией. И потом, откуда им известно станет, что реликвии у нас? Я всё так организовал, что все должны на англичан подумать. Мы же пока подождём. Ну, а даже если и прознают, что у нас хранятся, так мы скажем, что купили у англичан. Пусть между собой воюют.
– А если всё же на нас пойдут войной? – не успокаивался Филарет.
– Ваше Святейшество, вы даже себе не представляете, как много нужно французов, чтобы вершиловский полк одолеть. Ну, приплывут они к Риге или Нарве на десятке кораблей, ну высадят, несколько тысяч мушкетёров со смешными шпажонками и десяток пушек, что стреляет один раз в час. Никто назад не вернётся. Только до этого доводить нельзя. Вы никому об увиденном не говорите. И я не буду. Подождём. А через десяток лет скажем, что купили у англичанина. Они конечно попросят вернуть. Только мы скажем, что купили за сто миллионов золотых рублей. Пусть если смогут, то выкупят.
– Страшный ты человек, Пётр Дмитриевич, боюсь я тебя, – перекрестил и Петра патриарх.
– Напрасно, Ваше Святейшество, я за Россию и за Государя, сто Франций с землёй смешаю.
Событие двадцать первое
Командор Мишель де Нойрей спешил. В этом году второй рейд до Ла-Рошели непростительно затянулся, и это грозило целой кучей проблем в ближайшем будущем. Обычно второй рейс с переселенцами два его корабля заканчивали в самом начале зимы в Риге. Дальше уже подготовленные сани доставляли переселенцев до Смоленска, где они пересаживались уже на ждущий их обоз из Вершилова. Удобно. Не нужно каждый раз скупать лошадей и повозки. Не нужно организовывать охрану. Не нужно заботиться о пропитании. Всё сделали за тебя. Тут надо отдать должное князю Пожарскому и барону Ротшильду. Как жаль, что во французской армии таких интендантов не было.
Этой осенью Мишель отплыл на своих кораблях из Риги в начале ноября. В Северном море почти сразу попали в шторм. В результате на «Красном Льве» сломало грот. Пришлось возвращаться. Почти три недели потеряли. И дальше неприятности продолжились. При проходе Зундского пролива в районе острова Сальтхольм многострадальный «Лев» столкнулся в тумане с небольшим датским судном. И утопил его. И сам чуть не утонул. Другие бы моряки, наверное, бросили тонущий корабль и попытались спастись на лодках, но недавно сменившие бывшую французскую команду русские парнишки были сделаны из другого теста. После трёх с лишним часов борьбы с водой корабль удалось довести до Копенгагена и выбросить на берег.
Потом ещё два месяца ремонта и разбирательства с датчанами, кто виноват в происшествии. После Рождества всё же отплыли. Только видно провидение решило все несчастья, из возможных, предоставить командору. Когда уже думали, что завтра будем в Кале, в районе Дюнкерка на них напали эти самые Дюнкеркские каперы. Голландцы, по мнению Мишеля, были лучшими моряками Европы. И это было не только его мнение. Все, кто так считал, просто ничего не знали о русских. Когда к двум кораблям под флагом с Андреевским крестом бросилось сразу три корабля, русские не запаниковали. Они спокойно зарядили свои странные маленькие пушки и стали ждать. Потом прогремел залп. Что удивительно, дыма почти не было, по этой самой причине, де Нойрей целиком насладился результатами этого залпа. Два каперских корабля взорвались изнутри, разломились и затонули за считанные минуты. Чем стреляли русские? Уж точно не чугунными ядрами. Гранатами? Тогда что в этих гранатах?
Третий корабль бухнул своими пушками в ответ и окутался, как и положено дымом, и… Не выплыл из этого дыма. Русские пареньки успели перезарядить пушки, навести их на последнего врага, и послали его догонять собратьев по несчастью в погружении на дно морское. Почти полная и бескровная победа. Почти. Три ядра с голландца всё же долетели до несчастного «Красного Льва». Одно разорвало парус на фок-мачте и сломало фор-стеньгу. Второе пробило корпус в районе ватерлинии. А третье попало в штурвал и чуть не убило рулевого. Парнишка выжил и даже ранений не получил. Только сильно зашибся.
Пришлось в Кале в третий раз вставать на ремонт. И ведь даже и на этом несчастья не закончились. Восставших протестантов поддержал английский король Карл I, выслав им в поддержку флот из 80 кораблей под началом своего фаворита Джорджа Вильерса, 1-го герцога Бекингема. В июне 1626 года Бекингем организовал высадку 6000 солдат на Иль-де-Ре, чтобы оказать помощь гугенотам. Однако, хотя остров являлся укреплением протестантов, его жители не присоединились напрямую к восстанию. На острове Рэ англичане попытались взять штурмом небольшой форт Святого Мартина, но были отбиты. Небольшим французским лодкам удавалось осуществлять снабжение форта, несмотря на его блокаду королевскими войсками. Со временем у Бекингема кончились деньги и поддержка, в его армии начались болезни. Последний штурм также был отбит, причём с большими потерями. Армии пришлось остаться на кораблях.