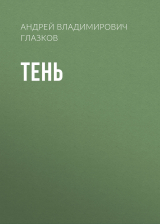
Текст книги "Тень"
Автор книги: Андрей Глазков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Уже в детстве я начал пробовать составлять словарь воспоминаний, но всякий раз кончалась бумага, потом паста в ручках, потом я начитывал на диктофон, и кончались кассеты. Я рассказывал правду пролетающим мимо на юг птицам, крича им об опасности ревущего Везувия, напоминая о долге ворона Ктаха.
– Иди на хуй! – Кричали мне в ответ птицы.
– Чтоб вы сдохли! – С аналогичной любовью отвечал им я.
Сэм ворвался в занимаемую мной кабинку порывом свежего воздуха из распахнутой настежь двери туалета в городском парке.
Подлей еще чаю, бро, чет меня отпускать стало. Не заскучал еще? Сам же захотел, чтобы я рассказывал. Сиди теперь.
Слушай.
Сэм
– Тебе надо это почувствовать.
– Что?
– Это состояние. Эту метаморфозу.
– Ну… Я не уверен, если честно.
– Люди врут, когда говорят “если честно”, ты в курсе?
– Люди разное делают. Другой Кот вон виндовс опять поставил на свой мак…
– Сэм, тебе надо это попробовать. Это все меняет. Абсолютно.
– С чего ты решил, что я хочу изменить все? Ты еще мне предложи на… на… на девяностовосьмую винду перейти. Другой Кот – псих, что, конечно, модно, но это не значит, что все теперь должны психами становиться. А завтра модными розовые ушки снова станут, что теперь – снова идти краситься? Я еще с прошлого года краску не отмыл.
– У каждого человека есть такая потребность. Потребность в революции. Потребность в кардинальном изменении окружающего мира. Розовые ушки – лишь одна из форм удовлетворения потребности.
– То есть ты говоришь, что я – как все? Все вокруг? То есть я что – обычный?
– Конечно нет. Конечно, ты другой. Ты иной. И твоя революция совершенно иная. Ну как ты её видишь по крайней мере.
– Ага, революция… Знаешь… у меня есть такой экс-революционер дома. Его революция результирует солеными огурцами из банки и радостью, что удалось взять зимнюю резину подешевле… У меня же это происходит, когда дрова встали четко, и звуковая карта не виснет.
– Отказ от революции при определенных обстоятельствах тоже может быть вполне революционным поведением, но… Не сейчас.
– Мы не можем всерьез обсуждать революцию – мы еще дети. Внешне по крайней мере. Не думаю, что нам стоит палиться, что внешнее не тождественно внутреннему.
– То есть продолжать быть обычными?
– Ну для них – да. Это лучший способ конспирации.
– Ты ещё предложи потом встроиться в систему общественного распределения благ.
– Ну если это поможет революционному процессу – не вопрос.
– Тогда может и огурцы из банки – часть этого процесса? Не находишь?
– Не нахожу. Огурцы не революционны по своей природе.
Мы молчим. Молчаливое сидение на краю балкона заброшенного здания у реки. Окраина Большого Города. Терпкий воздух осенних костров. Клубящийся ветер сизого дыма сухой травы. Пластиковая бутылка с обожженным горлышком. Обычные дети обычных людей. Танцы задержавшихся в лете дачников. Обычные мечты создать новую идеологию, убедить большинство, повести за собой. Мечты о невозвращении в бетонные дни города. Рутинные действия по добыванию ресурса, распределению обязанностей подачи фольги, сворачивания и перемешивания, доставлению зарядов. Когнитивный диссонанс срезал на корню детский пушок наших слов. Необходимость кардинальных перемен зияла своей неотвратимостью. Я предлагаю план. Свежий. Из Дагестана.
– Ладно, рассказывай. Что там?
– Что там… Там – ничего. Я это еще в три года понял. Там может даже хуже, но все равно там – ничего. Но есть тема, Сэм. Хорошая.
– Бля, ты будешь говорить или нет? Мне скоро уже матушка звонить будет – время жрать почти. Опоздаю – спалюсь – потом никакого теккена на выходных нам.
Солнце готовится к посадке где-то за гаражами. Кривые и гнилые приветы в погонах из далекого прошлого, каждый вечер они вяло принимают солнце, отплевываясь красным. Красного у них хватает. Лето тоже почти ушло. Успело соскочить в отличие от солнца. Долгие вечера еще не чувствуют палева, еще верят, что отмажутся серыми сумерками, в которых так удобно прятаться если тобой уже получена новая форма не одного, а нескольких серых оттенков. Осень начинает давить своей скучной и внезапной прокурорской темнотой, добивая увядшие листья ночной холодной мерзостью, требуя полного расклада и признания вины. И листья ломаются. Валят всех. Расклад внизу под деревьями виден отчетливо и ясно. До самой противной фазы – фазы распределенной пронзающей камерной мороси – осталось совсем недолго. Может всего пара недель. Сезон вечерних подъездов уже рядом.
– Слушай, Кот… – вдруг нахмурился Сэм. – А ты сам-то хоть пробовал то, что мне предлагаешь?
– В смысле? – Я прикинулся, что не понимаю. Можно было еще сделать вид, что я не расслышал, но я как-то забыл в тот момент про такую опцию.
– В прямом, Кот. – Посмотрел мне прямо в глаза Сэм. От неожиданности этого я даже забыл про опцию отвести глаза. Сэм же продолжал сверлить меня взглядом и задавать неудобные вопросы. – Ты на себе экспериментировал, Кот? Реальные тесты проводились? Или ты только эмулировал, воображая, как и что может быть?
– Я… Ничего я не эмулировал – зачем ругаться сразу? На себе нельзя это пробовать. Нельзя такое с собой сделать. Только на другом ком-то. Это как себя самого себя над землей поднять, потянув за волосы.
– Ну это известный момент. Все в курсе, что тянуть за другое место надо.
– Ну вот и тут также, Сэм. Только другим местом в данном случае другой человек является. Никипишуй. Все ровно будет. – Я мог только сместить акцент беседы.
Другое место всегда приходилось как нельзя кстати. Всегда помогает – слишком сильный магнит для сознания. Пока Сэм переключал внимание с другого места на первоначальную суть своего вопроса, я действовал.
– Так, Сэм… Встань. Надо видеть твою тень. Хорошо еще солнце не село – иначе пришлось бы костер мутить, или на завтра переносить, что блин и так я уже делал много раз.
– В смысле? Что ты делал?
– В смысле я давно собирался это устроить, но каждый раз что-то мешало. Внутри такое ощущение, что вот прямо сейчас не надо это делать. Что может завтра будет более подходящий момент. Ну или не завтра, а просто в другой раз…
– Прокрастинировал? – С уважительным сарказмом комментирует Сэм.
– Вставай! Вот так. Готов? – Не реагирую на отвлекающий маневр Сэма я.
Моя задача более глобальней и весомей. Мне надо закончить все четко и ровно, чтобы без ненужного. Чтобы без вот этого вот вашего. Чтобы конкретно все прошло. – Готов, спрашиваю?
– Всегда.
– Ща…
Банка принесенного с собой бензина. Пакет свободных радикалов. Песня меча и пламени. Радость за близкого. Теплом от совместных действий. Таинство сближает. Чувство локтя. Получены ориентировки. Повелитель лживых новостей. Маг-агрегатор, ожидающий регистрационного удостоверения из надзорного за надзорными органами органа. Странная страна верит в защиту слоями.
Сэм стоит, его тень четким силуэтом лежит частично на пыльном бетонном полу разорванного священной коррупцией недостроя, частично на униженной тренировочными стрельбами детей из соседнего двора кирпичной кладке. Солнце бьёт по лицу наотмашь оранжевым, переходящим в сочный красный. Мусора на горизонте прячут заплаканные лица в грубые прокурорские бушлаты. Банка принесенного с собой бензина орошает пол и стену под тенью. Тень еще не знает, что я планирую. Тень даже не лежит, она вальяжно и беззаботно валяется. Ей типа похуй. Тень типа на понятиях.
Сэм озадачено следит за моими действиями, но не мешает. Ведет себя хорошо. Я спрашиваю у него спички, он протягивает мне коробок. Я чиркаю, запах серы, такой особенный, такой… отеческий. Секунда на вдохнуть, наполниться теплом неиспорченного памятью невспоминаемого из раннего детства. Секунда на увидеть сполох мятущегося потенциала огня. Увидеть в себе отблеск его колебаний, неуверенности, робости. Папский взрыв искр – предвестник первой затяжки. Первого проникновения внутрь. Дыма в легкие, бро. Я роняю спичку на пол, на залитую бензином тень, позволяя спичке взорваться новым, уничтожающим старое, позволяя ей переродиться в пламя.
Поджигаю тень Сэма.
Тень вытягивается, дергается в конвульсиях, пламя полыхает свободой, Сэм стоит, не шевелится, он напряжен, он напуган, он совершенно, тотально, абсолютно трезв. Сэм оторопело взирает на к этому моменту уже яростно беснующуюся тень. Я отхожу от Сэма, делаю пару шагов назад, упираюсь в стену спиной, сползаю вдоль стены вниз, сажусь на корточки. Сэм продолжает стоять, хотя на его месте я бы давно уже прыгнул наружу, побежал к реке, кинулся бы в воду тушить остервенело искрящийся хвост. Мы чувствуем странный запах, запах горения, запах сладкий, тошнотворный, запах необратимых перемен, какие только могут случиться если кто-то… Да, умирает.
Все длится несколько секунд. Пламя сжирает тень. Пламя забирает с собой её навсегда. Дым рассеивается, Сэм и я сталкиваемся взглядами. Он молчит. Он молчит полностью, молчит внутри. Молчит тотально, как молчит потухший вулкан. Солнце почти село. Гаражи получили гарантированную порцию прогрева. Река вдруг услышалась в наступившей тишине. На полу и стене рядом с Сэмом вместо тени виднеется лишь обожженный бетон. Тоже пребывающий в молчании. Правда не от шока, не от опустошающего осознания непонимания происходящего, а просто он – бетон, и ему в целом глубоко пох на все, чтобы там ни происходило.
Стоим в центре водоворота, рождающего разбегающееся по кругу цунами. Ревущим и грохочущим потоком лавы вытекаем из кипящего жерла прошлого. Оказались на острие секундной стрелки, отсчитывающей момент за моментом, без возможности рефлексировать былое, вне надежды исчезнуть в тумане грядущего. Вляпались в самое здесь-и-сейчас. Сверкающее лезвие бритвы реальности постоянно отсекает все, что когда-либо происходило, будет происходить, могло случиться или случалось. Нам остается только этот самый момент. Больше ничего не существует. Словно предав тень огню, мы отказались от всех возможных оговорок, спалив не тень, а отходные пути сознания. Остались один на один с немым мгновением, невыражающим и неотражающим, жадным, всесильным, и не было никаких защит, не было укрытий, не было углов, чтобы зайти за них, спрятаться, исчезнуть.
Я сжег тень Сэма. Я был прав – это все изменило. Абсолютно.
Обуглившиеся останки тени комками черного сжимаются на полу. Я подхожу ближе и втираю ботинком черноту в пол. Неровный бетон пола разрывает остатки на мельчайшие частицы. Торчащие из бетона острые края щебня жадно хватают части тени. Цепляют их к себе орденами и медалями.
Сэм кричит. Громко, протяжно, дико настолько насколько может кричать ребенок. Он орет из самой глубины своего существа, из самого нутра, потому звук выходит красивым, ровным, сильным. Крик становится выражением момента, выражением страшной, пронзающей боли от встречи с реальностью. Я знаю, что это такое – я испытывал это дважды сам – первый раз, когда я чуть не спалил свою собственную тень, по ошибке, случайно, по незнанию, без задних мыслей, просто пролив масло на улице, засуетившись в попытках не дать никому из прохожих попасть под трамвай, а второй – когда я умер. Но это было много позже.
Сэм иссякает. Вытекает. Кончается. Тяжело опускается на пол на краю балкона. Я подхожу к нему, сажусь рядом. Мы свешиваем ноги в ночные мгновения нашего странного детства. Холодный вечер, которого никто из нас не ощущает. Жужжащий умнозвук, который никто из нас не слышит. Огни фонарей соседних дворов, которые никто из нас не видит. Distant shores by Petar Dundov.
Разделение на прошлое, настоящее и будущее все-таки возвращается бумерангом ультравысокого разрешения. Сэм трясется в рыданиях. Его бросает в эмоциональные крайности – из неудержимой агрессии крика в неутолимую жалость к себе слез. Не зная еще как ему помочь, я достаю пластиковую бутылку. Фольга с горлышка бутылки весьма неудачно падает на бетон пола балкона. Бьется о так неудобно торчащие наружу камни. Отскакивает прочь рикошетом в глубины вечера. Пауза длиной в несколько вечностей пока Сэм смотрит вслед фольге, на меня. Его рыдания переходят в вой, даже рёв, он вскакивает на ноги, вытягивается в струну и снова орет. Теперь это истерика. Почти припадок.
– Зачем ты это сделал со мной? Зачем? Я не просил тебя! Я не хотел ничего! Никаких апгрейдов! Никаких обновлений! Зачем? Кто тебе сказал, что ты можешь такое делать? Я ненавижу тебя! Ненавижу!
Бросается бежать, сначала из комнаты, где мы сидели, вниз, затем выскакивает из дома, пересекает двор, проскакивает через дырку в заборе, исчезает.
Мы больше не играли в теккен. Не виделись долгое время. Его родители не звонили моим в поисках своего сына. Некоторым людям, как я понял в тот вечер, очень больно остаться утром в кровати без одеяла.
Distant shores на девятой минуте. Близость высшей точки кульминации. Развязка. Надо брать этот свелл – дальше придет штиль. Дальше – лишь долгий спуск в забвение.
Прошло четыре года. Еще несколько вечностей. Северный полюс вышел в тираж. Где-то на небесах сменились поколения бессмертных. Прежние боги простились с поклонниками. Дом престарелых богов. Не откажите себе в удовольствии посидеть на веранде после роскошного ланча в нашей столовой. На разноске – старший повар Зюс. Вставайте в очередь к забытым другим. Отдохните после сидения и присоединяйтесь к послеполуденной группе поддержки для тех, в кого перестали верить. Поделитесь своей историей с другими. Расскажите о том, как сносили ваши храмы. Как разграбляли ваши жертвенники. Вы не один. Вас таких тут много. Вот Марс. Он из Рима. А вот Иштар. Она из Аккада. Сегодня вечером у нас спикер – Велес. Хранитель молчаливых костей ушедших. Он поделится своей историей. Историей угасания повелителя смерти. Расскажет про обесценивание золотого владыки… Боги-пенсионеры.
Снова Большой город. Парк, желтые сморщенные листья вдоль пешеходных дорожек, мокрые лавки, сонное обрюзгшее тучами небо. Далекие птицы под тяжелой серостью снов. Старая ржавая праворукая и совершенно безликая японская машина под грязной розовой аркой с осыпающейся штукатуркой во дворе сталинки, когда-то обласканной мечтами жителей окраин Большого города. Секундный обмен взглядами двух незнакомых с детства людей. Две пустоты над пропастью в никуда. Седой великан Вина выползает из заваленной снегом берлоги. Жуткий холод – пустота не греет. Вакуум представляет собой абсолют холода, ибо ничто в нем не задерживается, стремясь прорваться как можно быстрей куда угодно, только бы не задерживаться.
Кто сказал, что время лечит? Время – лишь соль на раны памяти. Время не лечит – время являет благословенную возможность сохранить свою боль для передачи грядущим поколениям. Боль человека – как часы из страны, у которой нет столицы. Вы не владеете ею, лишь транслируете её через себя в мир, как не владеете часами, лишь помогая им добраться через себя к следующим поколениям пользователям. Осознаете себя через боль, если больше ничего не имеете для самоопределения. Боль, как воплощение антимаркетинга.
Сэм. Потеряв тень, потерял якорь. Потеряв якорь, отпустил себя. Рвался вперед, требуя от пустоты оставить его в покое. Заполнял колодцы внешними водами. Закачивал воздух в воздушные шары. Стяжал роскошь садов Семирамиды. Проживал сто лет одиночества в каждом мгновении своей жизни. Рассказал о себе молчанием. Закрытым от меня сердцем. Взглядом затылка. Неаккуратно подстриженной шеей. Грязным воротником рубашки. Стоял у окна фотомастерской с фотоаппаратом большого формата в руках. Пленка. Куплено на аукционе в сети. Анонимный мастер – анонимный в творчестве до такой степени, что его снимки тщательно ужасны в своем качестве, настолько, что никто и никогда не рассматривает автора фотографий в качестве поэта света.
Сэм мастерски отводил подозрения. Мгновение осени. Капля в сезон дождей. Неизвестный поэт. Неизвестный – потому что ничего не было известно о том, может ли он писать. Он никогда не пробовал. Он не умел писать. Разучился. Специально для прочности легенды.
Пробовал уйти из бизнеса, открыв порношоп. Строил сеть магазинов фонариков для освещения пути в туалет ночью. Ронял скупую мужскую слюну при виде возможностей. Создавал Красную книгу видов, исчезающих в быстрограмме. Имел закрытый список друзей Иуды в социальных сетях. Франчайзинговый проект сети торгующих семечками брендированных старух на перекрестках и у переходов был продан им тындексу за достаточные деньги для того, чтобы бросить все и уехать на Бали. Кто-то сказал ему, что там почти экватор, а следовательно вопрос наличия тени не столь актуален. Ибо солнце иное. Наврал. Но было уже поздно. Среди падающих капель дождя эта ложь стала последней. Решающей.
Сэм бросил все и уехал на Бали.
Михалыч
– Ты у меня бегать будешь, как в жопу раненая рысь! Ты понял? – Орал Михалыч человеку в форме лейтенанта полиции еще подъезжая к машине полицейского. Михалыч выскочил из своего древнего, но в невероятно идеальном состоянии шестисотого, и в два прыжка достиг скромный форд лейтенанта, произведенный по госзаказу на площадях Небольшого города-47. Настигнув отшатнувшегося полицейского, Михалыч сбил его с ног, повалил на мокрый, в сжимающийся от соли и снега, асфальт Главной улицы, и принялся пинать заползающего в ужасе под машину погонника. По улице ехали сотни автомобилей, по тротуару шли десятки людей, но никто и не подумал обратить внимание на происходящее. Не потому, что били человека в погонах. А потому что били достаточно четко, уверенно и даже профессионально. Люди видели, что беспокоиться не о чем – добьёт.
Водитель за водителем, проезжая мимо, отправлял быстрый пост в Пищальню: “На Главной улице избивается человека в погонах. Можно не переживать. Явно добьют”. Пешеход за пешеходом, проходя мимо, не имел в этот раз ничего против позиции водителей, подтверждая уже сообщенное: “Точно добьют. Нечего даже останавливаться. Хотя… Мог бы и оставить другим парочку”.
– Еще парочку! – Кричал исчезающий в подземном переходе странный невысокий черно-белый с уходом в оттенки сепии человек, одетый в старое поношенное пальто. На голове у него были повязки, он словно сбежал из операционной. Михалыч на секунду отвлекся на персонажа, но тут же вернулся к занятию. Профессионал не имеет права оставлять процесс без внимания. А Михалыч считал себя именно профессионалом.
– Последний из могикан. – сообщал он доверительно очередному подопечному сведения о себе, прикладываясь раскалённым утюгом к уху подопечного.
Уже все жители как Большого города, так и множества малых городов были в курсе обстановки по полицейскому – подобные вести распространялись мгновенно в социальных сетях. Михалыч еще не закончил, а где-то в Крупном городе-61 у него уже появились последователи. На площади перед Центральной больницей Крупного города-61 они пытались демонстрировать единство с процессом в Большом городе. Последователей было трое. Они добавили жестокости в процесс. Кто-то принес синего жидкого.
– Йодинол… – уважительно протянул Другой Кто-то. – Лей!
Они лили сверху. Заливали с ног до головы человека в погонах, свернувшегося калачиком в ужасе от происходящего. Кто-то лил, в это же время Другой Кто-то жевал буррито, купленное во вновь открывшемся ларьке неподалеку, а Еще Кто-то бегал вокруг со своим умнозвуком, транслируя происходящее в сеть.
– Еще парочку! – Кричал транслирующий Еще Кто-то. – Еще парочку!
На следующий день… Про людей в погонах все забыли. Опять же – в обоих случаях беспокоиться было не о чем – люди справлялись. Сама тема продолжения не получила, а вот решетка… решеткаещепарочку взорвала все социальные сети. Стала фразой сначала дня, затем недели, затем воплотилась в жизнь всех нас в нашей замечательной Странной стране.
– Еще парочку! – Орал счастливый отец под окнами роддома.
– Еще парочку… – Саркастировал возмущенный подсудимый в ответ на приговор суда.
– Еще парочку. – Шептал жадный судья, глядя в переданный ему конверт.
– Еще парочку? – Ужасался выдохшийся муж неугомонной жене.
– Еще парочку?! – Сомневался ребенок, всматриваясь в тянущуюся к нему родительскую руку с ложкой каши.
– Еще парочку!!! – Бушевал стадион…
Мир стал… настоящим миром. Простым, живым, реальным.
Михалыч же давно забыл тот эпизод. Для него это был просто момент обыденной жизни. Стандартный прогон. Что-то случилось из-за чего он позволил себе возмутиться. Разрешил себе проучить негодяя в погонах. Выполнил, реализовал, исполнил. Забыл. Пошел дальше. Меньше минуты все длилось в реальности Михалыча. А мир сотрясался эхом этой минуты, преломив её через призму восприятия, цифровой передачи данных, фильтров, перепостов, отправлений, приемов, искажений, сомнений. А Михалыч заходил в кафе, где у него со мной была…
– Стрелка. В три, завтра, в этом буржуйском, который с телкой зеленой, понял? И без опоздуний, я с опоздунцами жестко.
Михалыч. Скоро старый. Уже обрюзгший. Постоянно влажный. Скользкий и в жирных пятнах от еды, возможно от чего-то еще, быстро и воровато жующий что-то из пакета либо чипсов, либо сухарей, настолько быстро, что невозможно заметить, что он ел, не говоря уже о том, чтобы предположить возможность угоститься оттуда…
Настолько невозможно, что я спросил. Резкий, дерганый взгляд, оценка моей конкурентоспособности, признание потенциала, осторожный шаг назад, ускорение процесса поглощения навернопищи, в конце судорожный кашель, сильный, очень. Я боюсь, что и тут случится непоправимое, что меня забрызгает навернопищей/навернослюной. Такие михалычы жрут убивающее их, запивают сожранное бутылками раствора соды или, если есть деньги, то тратят на аптечный антацид, который таскают с собой везде, грызут его горстями или пьют огромными глотками, делая все, что в их силах, лишь временно решить проблему. Временно, ибо уже через пару сигарет они будут жрать что-то снова, что-то схваченное со стойки бара в дешевой забегаловке, с витрины жуткого прилавка в переходе метро, с прилавка готовой пищи в гастрономе, свято веря в нормальность этих действий.
Михалыч. Проводник несвободы. Душегуб мечты. Никогда не был маленьким. Никогда не был игривым. Никогда не смотрел на небо, чтобы забыться в облачных играх. Всегда прав. Всегда правилен. Всегда строг. Суров через край. Чрезмерно.
Михалыч. Фотографии без улыбок. Всегда сжатые губы, чтобы не выпустить облако луково-чесночного, разъедающего и окисляющего. Даже цветные фотографии Михалыча выходили черно-белыми при печати. Глаза, пронзающие отсутствием беспокойства касательно отсутствия беспокойства. “Отсутствие” как философия жизни. “Не определяться” как глобальное видение своего места в бытии. Толстый палец ковыряет в носу, смахивая на пол лишнее. Хозяину явно легче.
Михалыч. Стекающее к груди лицо. Следы от лоботомии – маленькие шрамы по бокам лба. Протухшее брюхо. Шипящее слово “ептить”, выдыхаемое раз в девять выдохов. Сага об утомленном отсутствием усталости. Свободный от всего, кроме страха оценки. Возможно, излишне тревожный, если возникает риск разделения его питания с другими. В момент, когда в сторону пакета с едой случается жадный взгляд прохожего. Не говоря уже про прохожего в погонах. Ох как эти люди с твердыми корочками, проткнутыми латунными пинами в виде звезд, однако вошли в жизнь нашу… Как их много в мыслях наших, страхах наших, волнениях и тревогах наших. Михалыч не имел миссией борьбу с этим. Ни внешнюю, ни внутреннюю. Лишь простое установление контроля над ситуацией при малейшей возможности установить контроль. Унизить. Сломать. Любимые глаголы. И освободить свою пищу от любых посягательств любых окружающих Михалыча существ.
Михалыч. Заросшая волосами шея, желтый воротник когда-то черной рубашки, блестящие колени на брюках в местах, куда он ставит свои локти в период медитационного сидения с газетой в комнате 00. Каждые три часа он так медитирует. Он направляется в эту комнату медленно, спокойно, почти божественно, словно и правда не спешит, словно и правда у него нормально работает желудок, словно он сейчас просто сядет за стенкой и не взорвется там своей истинной природой, расстреливая бытовое сознание пронзающей истиной.
Я видел эти походы, я начал сверять по ним время, посчитав что я уже провел более 18 часов в комнате рядом, запертый, прикованный черными ментовскими наручниками к пустившему корни в бетонном полу металлическому табурету. Это если считать время, когда я был в сознании. Время, в ходе которого я мог внимательно изучить Михалыча, ибо сидел он ровно напротив меня, не отвести глаз, не повернуть голову, лишь он, его пропитанная разным одежда, его лоснящееся неприятным лицо, его сверкающие дешевым пальцы, каждый палец сверкал дешевым. И я не мог не смотреть на это. Вынужден был пропитываться странным знанием Михалыча, столь подробным, что я не уверен, что я смог познать в этой жизни кого еще столь тщательным образом. Это знание и сегодня висит в моем разуме нестираемым служебным файлом операционной системы, загружаясь ежедневно при пробуждении, участвуя в ежедневных процессах, без малейшего шанса быть исключенным из списка.
Михалыч. Дергающийся прочь от меня, даже с учетом того, что я не мог сделать и шага в его сторону. Второстепенный герой моего эпоса, разорвавший шаблон отведения количества букв, звуков, голыми татуированными особенным тюремным синим руками вырвавший себе пространство в моей памяти.
– Зачем он туда поехал? Там же вафли в рот! – Орал он мне в лицо, разговаривая при этом со своим помощником про действия другого своего помощника. – Скажи ему, чтобы сюда ехал. У него натурально в голове плоскостопие, понял?
Я кивал. Я понимал. Я уже пообещал все, что мог пообещать, поклялся выполнить все, что мог выполнить. Но меня не отпускали. Меня давно отпустило, но меня не отпускали. Я перестал мечтать о выходе, я устал проситься, я ходил под себя несколько раз, но иссяк, я уже часов 7 как не плакал, желание есть или пить – ты смеёшься?!
Отстегнул меня спустя 32 часа. Поверил. Не сказал ни слова, кроме мантры:
– ептить…
Да и то – обращенной к его внутреннему несуществу, а не в мой адрес. Я сполз на пол, пришли уборщицы, мыльный раствор из ведер растворял остатки чипсов, остатки добытого из носа, других доказательств существования Михалыча, стали выталкивать меня швабрами, мокрый пол скользил и уборщицам было легко. Меня выпихнули с другим сором сначала в коридор, а затем кто-то большой, кого я уже не видел раздраженными от мыла глазами, мощным и щедрым потоком смыл всю мыльную массу на студеную январскую улицу.
Сорвать маски полного порядка в делах, попав в больницу, на койку в коридоре, так как нет мест в палатах, нет возможности попросить об особом отношении, нет права повысить голос, нет надежды, показав себе свое истинное обнаженное состояние. Расслабиться, так как все вокруг такие же – вся больница состоит из одних сплошных коридоров, отдельные палаты отменены указом. Больница-плацкарт.
Я не опоздал на встречу. И часто потом пытался понять, каково же было тем, опаздывал? Тем, с кем Михалыч был жесток.
– Если бы еще пояснили, что искать, – посетовал я, еще когда Михалыч и я просто сидели в кафе, а маленькие зефиринки еще не растворились в чашках горячего кофе. Я еще не знал его столь подробно. Детали его образа еще не въелись в мою память расплавленными каплями свинцовой реальности. Все, что я тогда знал, это сцена с полицейским. Должно было хватить в принципе. Но мое восприятие было коррумпировано мной же – я покрыл ту сцену розовым светом романтики антипогонной культуры нашей великой и могучей Странной страны.
Михалыч угрюмо тыкал носком старого изношенного ботинком пол. В глаза бросались разводы соли на сморщенной коже носка ботинка, небольшая лужица от растаявшего снега под ним, пятна грязи внизу внутренней части теплых брюк. Всегда зимой там пачкается, пронеслась не к месту мысль.
– А ты подумай, – прорычал Михалыч. – Пошевели мозгами.
Офис Сэма. Шевелящиеся мозги в разных частях кабинета. Вот шевелятся мозги на софе, вот – на картине, вот случается процесс шевеления возле ножки стола. А вот уже я стремительно шевелюсь вниз по лестнице. Лубочные картинки сохраненной в облаке реальности, доступной из разных мест временной шкалы, неотключаемые напоминания на выключенном экране памяти.
– Я думаю тебе надо уехать. Это первое. Подальше. Это второе. Я бы не советовал возвращаться – это третье. Это я тебе говорю лишь потому, что… Я не против тебя, понимаешь? Тут ничего личного, просто бизнес. Указание свыше, так сказать. – И он указал пальцем на потолок, намекая на мертвого Сэма.
– Я не думаю, что Сэм говорил именно об этом. Я уверен, что задача состоит в другом, надо максимально досконально проверить возможность решения проблемы тут, на месте… – Начал было я, поскольку даже в страшном сне не представлял подобного исхода. Я и уехать? Из Большого города? Если это шутки, то достаточно примитивные. У меня же тут…
Что у меня тут? Внезапно спохватился я. Что у меня тут осталось? В этот момент Михалыч впервые меня ударил. Наотмашь. Ладонью. По щеке. Тыльной стороной, частью, что ближе к суставу. Сильный удар почти выбил меня из кресла, голова дернулась, внезапно соленые губы сообщили об отсутствии шуток в беседе.
– Думаешь ты хреново. Ладно, – Михалыч взял салфетку и протер ладонь. Помолчал немного. – Знаешь, есть такие медведи, они сидят всю дорогу на дереве, жрут ветки и спят? Кемарят, то есть.
– Коалы?
– Наверно. Короче Сэм интересовался почему. Очень интересовался. Вот теперь тебе надо разобраться какого хрена они это делают. Понял?
– Нет.
Вспышкой света после часов в темноте еще один выстрел ладонью. Неожиданная кровь освежает. Своя неожиданная кровь замечательно проветривает мозг. Попробуй при случае. При подготовке к экзаменам или к собеседованию на работе. Выйди на улицу, обратись к прохожему или к полицейскому. При правильном обращении результат гарантирован. Просто посмотри им в глаза и скажи кодовые слова:
– Пошёл ты нахуй, гандон.
Хотя у тебя тут, конечно, не просто. Но ты можешь это… Если меня не будет, а меня потом не будет, можешь просто на выходе промахнуться и вписаться в дверной косяк. То же неплохое решение. Может даже и получше оно, ибо ни от кого не зависишь при этом.
– Еще кофе? – услужливые мерзкие глаза официанта. Грязный чайник, покрытый пугающе настоящими жирными пятнами. Запах жженых желудей от противного варева, выворачивающего наизнанку задолго до попадания в желудок. Нет уж, лучше свое, соленое.
За окном наконец начинался рассвет. Мы встретились рано утром, когда зимняя темнота еще держит в заложниках всякое напоминание о существовании света. Рассвет приходил в январский Большой город лишь к десяти часам дня, четко рассчитывая время появления на мгновение раньше перемены статуса паранойи, что солнца больше нет, в основанное на фактических данных убеждение.








