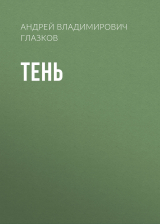
Текст книги "Тень"
Автор книги: Андрей Глазков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
"поезд двестишестьсятьыый Магадан – Южно-Сахалинск отправляется со ого пути ьей платформы!"…
Бумс-бумс-бумс-бумсссс-бумс-бумс-бумс-бумсссц-бум-бум-бум-бум…
Я в клубе! Стол, стул, бутылка воды с газом, стакан с выжатым лимоном, полная пепельница старых, вонючих окурков.. Липкий пол – подошвы ботинок липли к чему-то разлитому под столом неприятно так, вызывая отвращение и злость..
Я в клубе… Техноромантика жесткого андеграунда, темная приезжая молодежь, разбитая цветными лицами городских жителей голубого, зеленого, лилового, желтого оттенков, нарочито грубая одежда, нарочито черное, неприятно белое, антипотребление, антиценности, антиподы, антифоны… Я когда-то был близок к ним, но не выдержал, сломался, влияние яркой антисексуальности вытянутых в салонах волос, глянцевых лиц, восковых тел, жеманных манер, картинных образов, стремящихся к лучшим образцам показного отрицания почти унаследованного благополучия…
Я в клубе. Contain by Plastikman. Бит прирастал агрессией, на фоне черного звучания эхо далеких ударов гигантских пластиковых конструкций, бьющихся на ветру. Словно гигантские трещотки в нереальном утопическом мире зазеркалья они схлопываются, возвещая о пришествии глашатаев очередной антивести… Тихая дискотека. Мы танцевали. Мы двигались в электронном угаре. Все были в наушниках – диджеи и танцующие. Никакой другой акустики не предусматривалось. Никто кроме нас не слышал звук. Для стороннего наблюдателя звук отсутствовал полностью. Дискотека для глухих наоборот. Клуб на улице. В самом центре Большого города, в Большом переходе к Большой улице и Большой площади. Ради мероприятия разогнали торговцев пластиковым счастьем из подземных ларьков. Сегодня тут нельзя купить по низкой цене чехлы для иностранных умнозвуков, нельзя уточнить у продавца стоит ли брать силиконовый сейчас или может пока подождать до выхода новой модели, сегодня тут нельзя получить на руки коробку с чехлом, такую настоящую, пыльную, залапанную чьими-то заочно неприятными руками… Нельзя… Как же хотелось все это сделать именно сейчас… Грустный смайлик висел над душой, роняя мне на плечи слезы дополненной реальности.
И я вот вижу его/её – в глубине сцены, за всеми танцорами, за аппаратурой, за светом стоит либо охранник, либо менеджер, либо кто ещё, либо просто стоит, либо просто тень… чья-то одинокая, брошенная тень. Осколок личности.
Она/он стоит и на фоне общего куража являет собой воплощение жесткой истины невозможности спасения в эйфории, отсутствия эйфории, её нереальности, её лживости. Неясности. Стальной серости привычных мыслей. Трусливой продажности классический идей мытаквсегдажилиивытакдолжныжить. Ржавого предательства внезапно обретенных скреп. Навязчивости ранее неизвестных идей, но вдруг ставших чем-то всегда существовавшим. Не обращает на меня внимания. Видит других она/он, тянется к ним, исчезает в них…
Что я тут, черт побери, делаю? Почему я должен это слушать? Кому нужна эта странная булькающая давно вышедшая из моды музыка?
"поезд двестишестьсятьыый Магадан – Южно-Сахалинск отправляется со ого пути ьей платформы!"..
Взрыв промежуточно-попсового техно, древний минимал отступил, приход критической массы звучания, приемлемого для руководства Большой страны, кульминация трека, тема, подтема, перкуссия, басы, бит, свободные радикалы помпезных иллюзий о величии, все вырвалось наружу в едином энергетическом порыве, диджей на четыре бита убрал бас, потом вернул, смолкло все внутри, лишь жесточайший вынос на поверхность из потрясающей глубины сна, тонкая высокая скрипка посреди черноты растворения мира, выкидыш ненайденного из недельной комы отсутствия мыслей об ином, из бессознательного бреда о смерти какого-то Майтрейи….
Стоп! Сэм умер?! Слава богу…
Я окончательно пришел в себя.
Я в клубе, на вечеринке…
В правой руке я сжимал револьвер, в левой – саквояж с миллионом долларов.... Или наоборот?
Украдено в Детройте.. Но кому какое дело? Да хоть в Чикаго. Да хоть… Нет, там я бы не рискнул воровать.
Сэмплы в голове звучат уже переведенными, отредактированными, одобренными, с проставленными акцизными марками. Они научились фильтровать музыку в момент её передачи слушателю. Задействовали для этого вездесущие столбы сотовой связи. Прикрутили к каждой несколько десятков дополнительных транзисторов, кодировка, декодировка, прием-передача, разложение на составные части, внедрение цифровых подписей в генотип каждого отдельного трека. Конечно, за всем этим стояла компания чьего-то ребенка. Конечно все тендеры были проведены согласно требованиям законодательства. Все проверки показали отсутствие показаний. Свободные правила рынка. Небеспокоитьакционеров. Выступить с заявлением-опровержением может себе позволить лишь виновный, соответственно все упреки следует оставлять без внимания. Нереагироватьнапроискикупленныхзадармавраговгосударства. Лишь бешеные боевики подпольного несоглашательства не соглашались с происходящим, пытаясь что-то говорить миру об истинной сути, пробуя организовывать протесты. Их били. Много. Сильно.
А мы смотрели на колыхающуюся суету наглого жира политиканов, на скользкую беготню лоснящихся тревожным потом подручных, на мерцание важных мигалок тайных пупенмейстеров, и занимались своими делами. Продолжали торговать. Ненадкусанных сторон пирога тогда хватало на всех – каждый успевал откусить себе свежий кусочек.
Сначала люди употребляют, потому что все хорошо. Им хочется праздновать. И они знают, что когда праздник – можно позволить себе лишнего. Чего-то запретного, так как в праздник границы допустимого раздвигаются. И тогда мы выходим на сцену. Тогда мы торгуем. Много. Успешно. Славно.
Бывает, что все плохо. Что проблемы и кризис. Что люди несогласны. Возмущены. Взбудоражены. Сами или кто-то им помог – не важно. Ведь когда люди несогласны… Когда они давят в себе протест, или когда его давят другие… Когда протест рвется наружу… Чем больше протеста, тем больше расстройства. Чем сильней фрустрация – тем выше продажи. Спроси правды у продавца в соседнем с твоим двором ларьке, если не веришь на слово знакомому барыге.
Да, тут в горах нет ни ларька, ни двора, ни тем более магазина… не понимаю куда ты бегаешь ночью, если вдруг… Если вдруг надо срочный вопрос задать знакомому продавцу. Ну придется верить тогда мне на слово. Да, иногда я злой, но лишь когда не могу совершить спонтанную покупку нового силиконового чехла для умнозвука.
–
Я вышел на улицу. Это было просто сделать – лишь снять наушники и сдать их человеку-корзине. Он убирал их прочь, проглатывая, но не сплевывая, как не поступал кто-то другой в какой-то другой истории.
Ночь, действительно уличный клуб, “Осенние пятки”, основан курителями зеленого чая, таксист озадаченно сообщил дату:
– Да уже, это, неделя, как после нового года…
Мы ехали по морозному Большому городу, ехали вроде домой, но какой в этом был смысл? Вспоминая ситуацию с Сэмом, я приходил к убеждению, что дома может быть опасно. Попросил таксиста остановиться в квартале от дома.
У подъезда тоскливо дежурили отставные проститутки. Продажной любовью больше не пахло долгими зимними ночами – холод сбивал ароматы напрочь. Девочки и мальчики, освещая надеждой темноту улицы, а также стоящее рядом с мусоропроводом что-то бочкообразное в большом синем парике с пламенеющими алыми тенями под глазами, видными даже за километр в затхлой темноте прожженного салона такси. Вглядываясь в нашу сторону, они успели заметить наше приближение, несмотря на то, что, поворачивая на улицу, водитель выключил фары по моей просьбе. Профессионалы..
Но в моей квартире кто-то был. Колеблющийся свет электрической лампы не позволял увидеть четко посетителя, не позволял определить один ли он был, но… Пауза в моем разуме позволила осознать снегопад… Нежные большие хлопья медленно падали на землю. Тихо и красиво. Непревзойденное великолепие падающего снега. Музыка давно ушла из меня, ничего не мешало воспринимать покой темной ночи, красоту страха, охватившего меня при виде света в квартире, тени в ней. Непрофессионалы.
Но что-то надо было делать. Разумеется, это было совершенно непросто. Я не понимал откуда у меня деньги, мой ли в руке ствол, в моих ли он руках, мои ли это руки, я ли это. Решать же более сложные задачи – куда ехать, что делать – не представлялось возможным… В такие сложные жизненные моменты я всегда поступал одинаково – ехал на вокзал и садился на первый поезд.
Разумеется, были нюансы, не без этого. Дело в том, что я боялся самолетов и электричек. Самолетов – из-за высоты, электричек – из-за электричества.. подход не подводил никогда, даже когда поезд шел в Соседний город 14, где была конечная станция дороги… В такие моменты я к поезду добавлял маршрутку и ехал дальше. В горах у меня было несколько схронов с велосипедами, так что при необходимости скрыться было очень даже легко.
Но в ту ночь…
Сейчас поезд казался слишком очевидным решением – я не хотел быть очевидным и подумал об автомобиле.
Машину мне так и не нашли. Более того – её еще и не вернули. Но я не переживал. Такое случалось, и я был готов. Не могу сказать, что у меня постоянно воровали их, но скажу лишь, что уже три года как мои машины отказывались страховать от угона.
Я четко понимал, что выхода в поезде в Соседний город нет, под каким бы номером этот город не проходил. Вдруг у себя под ногтем указательного пальца я нашел листок с напечатанным телефоном и написанным от руки словом – михалыч – почерк Сэма. Сэм – любитель Твин Пикса. Запихать мне под ноготь записку, будучи наглухо мертвым при этом… Я вспомнил черные очки, отражение в них, вопрос и задание....
Я виделся с Михалычем! Стало полегче. Вспомнил предательский выстрел в висок. Стало похуже. Ни одно из воспоминаний не решало вопрос – откуда взялись деньги. Поставил тумблер в положение безразлично. Помогло.
Таксист включил магнитофон. Кассета щелкнула и зашипела пленка. Plasticine by Plastikman. Темная ночь наполнилась мягким свистом древнего acid house…
Связанность дальнейших событий ставит меня в тупик – но тогда я видел четкую взаимосвязь между музыкой и прекрасной высокой блондинкой, медленно подходившей к такси… Волосы – платиновые, шикарно раскинутые на шиншилловой шубе, круглое ясное лицо, тонкие брови, никакой косметики, лишь румянец от мороза на щеках, а губы – просто полные, блеск гигиенической помады, сочные и свежие, глаза – томные, глубокие, карие, искренние…
Снег падал на нее, но мне казалось, что таял он раньше, даже не долетая до нее, ибо жар исходил от её широкой улыбки, потрясающих ямочек в уголках рта, свет ровных четких зубов разрезал строгость ночи, такая внезапно милая, невероятно близкая и дорогая, замедленные кадры ее движений, вот поднимает руку, аккуратно поднимает волосы, потом резкое синхронное движение руки и головы, волосы восхитительным облаком на мгновение заполнили мир, элегантно упав на шубку…
В такие мгновения исчезает эго, безудержный бег мыслей останавливается, нет никого, лишь восторг и внимание, абсолютное, переполняющее, бесконечное… Просветление так близко, нужно лишь просто прекратить пытаться осознать миг остановки осознания… Умереть, иными словами.
Прошла мимо…
– На вокзал едем, Константин? – спросил меня таксист. Единственный человек в мире, который меня так называл. Даже мои родители, кажется, родили меня лишь потому, что была возможность меня звать Кот.
– Да.
– Опять?
– Ну… Похоже.
– Когда был молодым, я делал все подряд, чтобы в старости было что вспомнить. Теперь я старый, но я ничего не помню… Ты вот тоже активной жизнью живешь.
– Хотите сказать, что придет время и мне покупать себе такси?
– Ну тебе вряд ли это светит, с учетом твоей везучести. Хотя я не слышал, чтобы машины такси воровали.
– И я не слышал.
Молчание. Снег. Воспоминания о блондинке растаяли как память о тёплых летних днях.
– Можно вопрос, Макдональд Карлович?
– Валяй.
– Он… Как бы правильней выразиться… Личного характера.
– Ну попробуй. – напрягся водитель.
Макдональд Карлович в разговоре предпочитал проактивность – считая, что чем больше он говорит, тем меньше у слушателя шансов управлять беседой. А как настоящий водитель Макдональд Карлович не любил отдавать руль другому.
– Скажите, у вас бывает, что вы… Я не уверен в правильности выбора слов, но все же… Что вы не чувствуете себя частью человечества?
– Это как?
– Ну, другими словами, если, вот вы ездите по ночному городу, много людей постоянно видите, но всех урывками, мимолетно, даже если это постоянный клиент…
– Вроде тебя?
– Вроде меня. И вы как бы в контакте с ними, но в тоже самое время они все как-то совершенно далеко от вас.
– Ты про одиночество что ли?
– Видимо да.
– Так бы сразу и сказал, что ты вокруг да около. Есть такое. Никуда от этого не деться. Я вообще тебе, Константин, так скажу. Человек всегда одинок. Это еще с Адама. Он вначале один был, помнишь? Это потом ему бабу сделали, понял? Но сначала он был один. Мужик – он завсегда один.
– Вы хотите сказать, что одиночество – первично?
Таксист помолчал – скорее для приличия, чем взаправду. Также для приличия он почмокал губами – словно действительно раздумывал над ответом, словно не планировал тему и развязку заранее. Лгун и курильщик.
– Я хочу сказать, что даже в самолете сначала на себя надо маску надеть, а потом уже другими заниматься. Одиночество необходимо для выживания. Какой смысл всех спасти, а самому сдохнуть? Тут уже эгоизм начинается. Спасенным даже некого поблагодарить будет, сечешь?
– Оригинально. Выходит, что ничего плохого нет в одиночестве?
– Ну ты же не ищешь оправдания наличию двух ног у себя, так?
– Нет.
– Вот и одиночество нечего оправдывать. И виниться нечего из-за него тоже. Хотя если прям до конца разбирать это, я те так скажу. Никто не одинок.
– Это как?
– А вот так. Такой парадокс жизненный, Константин. Человек и одинок, и не одинок. Он всегда один, но у него всегда он сам есть.
– То есть я сам у себя?
– Ага. Это как тень. Собственная тень, которая никуда не девается.
– А если… Если тени нет?
Таксист резко ударил по тормозам, машину занесло на заснеженной дороге, но умелые руки водителя быстро вернули её на место. Он строго посмотрел на меня через салонное зеркало.
– Это как “если тени нет”? Кто такое придумает в здравом уме? Ты еще скажи, что баба за рулем – нормально. Понаехало идиотов… Хипстеры блять…
Последние тени улетающих воронов выцветшими ошметками детских фотографий прочь из города, где прошло почти все. Почти все прошло. Я смотрел на закончившийся для меня мир, зная, что сюда я точно уже никогда не вернусь, хотя бы по той причине, что даже спустя всего несколько часов в моем теле сменится достаточное количество клеток, чтобы считать меня иным. Мир не смотрел на меня. Мир был слишком занят собой, своими событиями, спешками, суетами, чертов эгоист. Мир устраивал демонстрации, манифестации, праздники, распродажи, фестивали, мир кутил, кричал, ездил, употреблял наконец, что хотел, как хотел и когда хотел. Мир рождался и умирал. Ему было не до меня. Ей было не до меня. Мир был не только мужчиной, мир был и женщиной, мир был многолик, многопол, многомер. Мир был и продолжался без меня. И я продолжал и продолжал мыслить эту мысль, ибо слишком больно было это для моего эга – видеть проявление другого эга в этом ужасном противном холодном зимнем мире, которому, да, совершенно правильно ты сейчас думаешь, которому было не до меня, в тот самый момент, когда я уезжал из него на вонючем грязном ржавом поезде в компании с человеком, имени которого я не помнил, не помню, и так и не рискнул уже никогда спросить.
Давай чаю, старый. Что-то поднакрыло меня…
школа
* * *
Школа же еще бывает в детстве.
У меня была, не избежал я этого формирующего опыта.
Школа… концентрированный досуг рассеянных квазилюдей.
Учитель труда. Высохший на солнце огрызок человека. Сморщенные цели пожухлого мастера токарного станка. Железный воздух школьной тюрьмы для нас был хрустальным воздухом свободы для этого невысокого, сдавленного жизнью с родителями примера-того-что-не-надо-делать-со-своей-жизнью. Лоцман, показавший неправильный курс, очень ценен, если он ведет корабль врагов.
Запах ацетона – вот моя основная ассоциация со школой. Там постоянно что-то красили. Еще помню, что мать прислала мне почтой один новенький носок (тогда только отошла мода на детские “чулки”). Старушка-процентщица из соседнего подъезда за десять копеек в день водила меня в школу.
Во внутреннем дворе – галдящая толпа школьников, орущие родители, плачущие медсестры, взвод солдат, двойной круг оцепления. Кажется, пьяный сторож провел нас в класс через черный ход – точно не помню. Но как хорошо я помню этот резковатый и устрашающий запах свежевыкрашенных парт, запах свежего ацетона, там было еще что-то, но…. Там была осень. Красивая, яркая, сочная, душистая. Иногда дождливая, иногда солнечная, иногда светлая и просторная, в ней могли поместиться все – летние, зимние, собственно осенние и даже весенние мгновения. Они проливались жарким полуденным золотом, покрывались утренней хромированной коркой на лужах, обрушивались вечерними серыми графитовыми потоками, прорастали глупыми полуденными зернами малины второго сбора. А когда это великолепие, это празднование природы происходило, я сидел в школе. И ни капли не жалел, что пропускал столь безумное почти психоделическое веселье, ибо…
Бро… Такая тема… Я как сейчас вижу первую учительницу – высокая, красивая, опять же блондинка, опять же полные алые губы, которые не портило даже покрытие дешевой советской помадой, огромная сочная грудь, просто подавляющая своими размерами все сомнения о моей сексуальной ориентации. Вот кто формировал моё эротическое представление о женщинах, вот кого я снил ночами в нестройных детских фантазиях, еще без секса, я тогда еще не знал, что делают с женщинами в снах после того, как их разденут, мне хватало лишь представлений о том, что мы лежим голыми где-нибудь на диком пляже необитаемого острова, брошенные судьбой в пальмовую тень неизвестности… робинзоны любви… пятницы нежного петтинга… Правильная политика подбора кадров в школах – залог успеха полового воспитания юного поколения. Запиши себе где-нибудь на ладони. Нацарапай ногтем на внутренней стороне бедра.
Со следующего дня начали заниматься неизвестно чем (как, собственно, и в детсаду), только – все вместе и все одним и тем же. Закорючки у меня не получались, в косую линейку я не вписывался. Букварь нравился картинками – их можно было тюнинговать, дорабатывать, пробуя выражать себя иным, некоммерческим способом.
Именно в школе у меня появились первые конкуренты. Я продавал по 20 рублей грамм. В коридорах орали:
– Ты что, дурак, делаешь?
– Ты же рынок валишь, казел!
– Я напишу в ФАС…
В итоге я нашел выход. Я перешел на другой уровень и стал поставлять товар продавцам. Стало намного проще. Количество дней, начинаемых с перестрелок в розовых лучах восходящего солнца, снизилось в разы. Да и зима уже началась. Перевели часы, и темнота стала держаться почти до полудня. Я вышел из тесных рамок пропахших аммиаком и хлоркой школьных туалетов. Занял свою отдельную кабинку. Начал "подниматься". И мое одиночество стало расти, оно обрело реальные очертания, приняло какую-то форму… кажется треугольник, хотя… иногда думаю, что кривой параллелограмм, с трудом вписанный в круг – вот верное выражение тех дней.
– Кот, мне двадцать.
– Кот, до завтра, дай десять.
– Кошара, ну ты это, чо… Ну… Ага?
– Брателло, чувачок, ты мой близкий, если чо.
– Кот, ты – лучший!
Они приходили, звонили, слали сообщения, интересовались, участвовали, беспокоились, поддерживали, угождали. Все, что есть у обычных людей, было и у меня. Только я был вторичен, все эти тревоги, благодарности, участия адресовались не мне. Товару. Я был той самой некрасивой подружкой, которую, если ты девочка, надо брать с собой, потому что так спокойней родителям.
– Оля, ты где? Ты с кем?
– Папа, не беспокойся, я с Ленкой.
– Ленка?
– Которая с тем пятном на лице. – Слышен голос помогающей отцу матери.
– Не засиживайтесь допоздна – завтра всем на работу. – Заканчивал свои обязательства по участию в воспитании ребёнка отец и отправлялся в холодильник за следующей бутылкой пива.
Но сложное было в другом. Сложное было в суровых битвах за школой с конкурентами в опте. Другой уровень битв. Любой бизнес – жестокий, мой был смертельным. И он не становился таковым со временем, он был таким с самого начала. Неизбежность схватки купировала страх перед ней. Всегда легче, когда нет выбора – не так ли? Именно выбор убивает ум наличием возможности совершить ошибку. Когда выбора нет – нет и ошибки. Ты просто идешь вперед, так как других путей просто нет. Красота.
Медведь – так его называли. Сонный, тяжелый, грузный, потный мальчик. Его выставлял против меня Сопля. Сопля не рисковал выходить сам, Сопля был первым кем-то у кого появился кто-то для прикрытия. Потом таких я встречал много, потом я знал, что надо сразу бить в прикрываемого, чего бы это не стоило, но тогда, будучи ребенком, не имевшим опыта битв, опыта стратегических инициатив, опыта ходов конем через головы противников, да еще эти слова, услышанные как-то совершенно случайно: «Кот? Он очень сильный. И умный», сказанные пусть и не самой красивой девочкой в классе, но… сказанные. Вслух. Другой девочке. Я вышел на задний двор против Медведя без капли сомнения в своих силах. И…
И был раздавлен правдой превосходства веса над силой, умом, прочими непроговоренными вслух достоинствами меня как… нет, к сожалению, не как человека, лишь как мальчика. Но я стремился. Уже тогда я рвался к равноправию в том числе и в половом отношении. И позволил себе слезы. Позволил себе крики. Позволил себе истерику. Все навязываемые обществом девочкам модели поведения подходили мне идеально. Почему нет? Почему я должен был ограничиваться сухим мальчишиским плевком Медведю в затылок? Почему я должен был ограничивать себя исключительно мужскими туалетами, если в женских было просторней для торговли? Нет гендеру, особенно если это мешает бизнесу.
Медведь сопел надо мной, я сопел под ним, Медведь не мог двигаться из-за своего веса, но и я не мог двигаться по этой же причине. Я оказался даже не на асфальте, а в одной из ям на асфальте, чувствуя правой лопаткой прохладную влагу на дне ямы. Медведь вжимал меня в яму, вдавливал, его веса было достаточно, чтобы сделать эту яму еще глубже втирая меня в нее все сильней и сильней. Тогда я совершил один из своих самых ярких и мощных поступков в жизни. Самых горячих и неисправимых. Самых отчаянных и бесконечно красивых в своей непередаваемой спонтанности.
Когда лицо Медведя после каких-то его сопящих телодвижений оказалось над моим лицом… я его поцеловал. Не в щеку, не в лоб, не в носик. Я поцеловал его в губы долгим сочным поцелуем. Я не был ему мамой в тот момент. Я был пьяной некрасивой девкой с дискотеки, жадной до мужика до бесстыдства, до потери рассудка, до тотального отрыва в самой неприглядной форме. Я всосался в Медведя, разрушая его еще формирующуюся картину мира, выкидывая все условности в длинный мусоропровод жизненного опыта.
Медведь взвыл. Раненый медведь – страшный зверь. Но целованный мальчиком Медведь… В миллион раз страшней.
Камера сверху над распластанными на асфальте телами. Одно тело лежит на другом. Мы видим спину мальчика и торчащие из-под нее руки другого ребенка. Камера резко взмывает в небо. Одновременно со взлетом камеры мальчик, что находится сверху, вскидывает голову вверх, демонстрируя камере всю глубину своей глотки, откуда резкой струей брандспойта вырывается страшный рев, оглушающий всех вокруг, выкидывающий камеру еще выше в небо, сбивающий её с правильной траектории полета, вышвыривающий картинку кувырком в никуда, в итоге на асфальт.
Медведь был раздавлен, разбит, уничтожен немедленным смехом окружавших нас представителей школьной рассады. Молодые и перспективные, одинаково агрессивные и трусливые, они стояли вокруг в надежде на крутое шоу, и они его получили. И они на него реагировали. Все. До единого. Медведь же… Он мог потерять все, даже сознание, но он не мог потерять ощущение аудитории, ибо аудитория – это все в школьной жизни. То, как другие школьники видят тебя, определяет кто ты и что ты в школе. Я свой выбор сделал еще до схватки – у барыги нет никого кроме покупателей. Медведь же пришел неопределившимся, что определило его проигрыш. Он пытался отскочить от меня, пытался плеваться, пытался продолжать нападать, но все его действия вызывали лишь смех.
– Кидается… Наверно мало ты его целовал, Кот, надо было больше.
– Злой какой… Плохо ты, Кот, целуешься.
Крики и смех – все, что было уготовано теперь уже бывшему Медведю, которого теперь чаще именовали Медведицей… Медведь позже перевелся в другую школу, ушел из толпы Сопли, но весть среди школьников распространяется быстрей. Кто-то снимал нас и вел прямую трансляцию в книгелиц, кто-то пересылал кому-то фото самого сложного для меня и Медведя момента.
Через одно из окон школы на нас смотрел будущий ночной портье Паша, тогда еще просто “Павел Александрович” и завуч нашей школы, но уже тогда остро реагирующий на нестандартные способы взаимоотношений… Он следил за трансляцией на своем умнозвуке, делал снимки экрана, ухмылялся своим мыслям, глядя на экран, нажимая “отправить” на специальный адрес электронной почты специальной комиссии специального органа специального учреждения.
Перед тем как бросить меня и уйти прочь, Медведь таки двинул меня головой об асфальт. Сильно и беспощадно. Вложил максимум ненависти в мой адрес в это движение. Тщательно протер асфальт моим лицом. Бросил меня лежащего. Ушел не оборачиваясь. Мужлан.
Все ушли. Я был один. Я был брошен. Но я не страдал – вот что меня всегда удивляло, когда позже я возвращался в снах или на сессиях к этому эпизоду своей жизни. Для меня сегодняшнего одиночество в тот, наверное, самый первый сознательный период жизни было реальным стимулом стремления к старику Яхве. Я представлял его где-то там, на облаках, еще до акта создания, когда ничего кроме самого бога не существовало, вся эта вечность отсутствия существования – вот кому явно было известно, что такое одиночество. В своих фантазиях я несся туда, куда-то за радугу, хлопал старика по спине и радостно дергал за бороду.
Медведь… Надо было про него рассказать сейчас. Важно, потому что, понял? Чтобы не кипишевал потом, понял?
Одиночество… Именно одиночество дало мне толчок к началу познания Истины. Я заплатил слишком большую цену старшекласснику Пете, чтобы он поставил меня на раздачу в начальных классах, и мне приходилось ценить то, что я приобрел в итоге… Новое положение среди учеников и принесло мне это ощущение – ощущение одиночества. Но я не сразу принял его. Я пытался переломить ситуацию, я устраивал распродажи, я делал грандиозные скидки тем, кто мне нравился, с кем хотел бы дружить, кого хотел выделить из толпы одноклассников, к кому хотел бы как-то приблизиться. Но именно эти жалкие попытки отдаляли меня от них еще сильнее. Как я уже говорил им не нужен был я…
Ведь можно увертываться, пытаться убежать, покинуть этот странный подлунный мир, возвращаться назад, в пустоту нерожденных форм, огней тысячелетней тоски, что сковывает движения бредущих во тьме веков путников праздной тайны жизни… и тем самым обострять страдания нерожденных душ. А можно послушать мягкую, медленную китайскую, ну или (на крайняк) армянскую флейту, сидя в вишневом саду весной, наблюдая за мерцанием падающих розовых лепестков, внять зову молчаливой истины хлопка одной ладони, не сопротивляться и двигаться в унисон с посланной тем самым хлопком тишиной. Пусть поначалу тяжело, со скрипом, но – ВПЕРЕД… что может помешать двигаться? Можно и вернуться в обыденным идеям наличия седого старца на облаках, спасаясь в пошлых фантазиях о его заботе о нас. Интересно какой системой управления бизнес-процессами он пользуется? Что он думает об облачных технологиях обработки данных? Какие формы статистического анализа стали обычаем делового оборота там у них наверху?
– Гавриил, где недельный отчет по Коту?
– Ээээ… Ща.
– Что ща? Должен были вчера сдать!
– Да тут он где-то – на стол вам клал.
– Господи, ну как с такими работать?
– Шеф, вы опять сами с собой разговариваете…
Но… Мои ночи наполнились немалым количеством свободного времени, я проводил его, таскаясь по глухим дворам моего прошлого, по безлюдным улицам обезличенных пуштунских городов, выжженных кипящим июльским песком Кандагара, стучась в заколоченные проемы в заборах, я старался верить в то, что кто-то еще хочет общаться со мной просто так… Не ради неуверенной попытки взять немного по низким дооптовым ценам, а просто, т.к. ему нравится со мной общаться…
Как только человек начинает осознавать себя, он становится одиноким. Чем выше поднимается сознание, тем глубже ощущение одиночества.
Барыге же одиночество противопоказано… А меня так тянуло в шкаф. Но не покупали мой товар в Нарнии, бро. Там народ больше на психоделиках сидел. Если ты – правитель и хочешь, чтобы все думали, что ты – лев, король, падишах, лорд, то людей надо кормить соответствующим образом соответствующими веществами. Будут переться и не будут вопросы задавать. То, что самый сильный психоделик, это страх – отдельный разговор. Но на этой херне целые регионы живут, если чо. Да, кстати когда этот момент был осмыслен на государственном уровне, то многое изменилось… практически все. И опять же – позже об этом.
Именно ощущение неистового одиночества дает стимул к объединению с клиентами. Ты вдруг понимаешь, что не можешь жить иначе. Перестаёшь быть собственником своего товара и отдаёшь его людям… Спасение в том, чтобы отдавать товар не бесплатно… И ты выводишь компанию на рынок. Проводишь IPO. Про тебя пишут в глянцевых журналах для глянцевых директоров. Кто-то берет с тебя пример, т.к. ты уже не соплежуй в подштанниках, брошенный в опороченную домыслами Павла Александровича яму на заднем дворе школы, а серьезный чувак в дорогом галстуке, поднявшийся до возможности сбрасывать других в любые возможные ямы. В том числе и Павла Александровича. Но даже при этой всей популярности, ты вторичен. Люди будут звонить тебе независимо от того нравишься ты им или нет, согласны они с мнением Павла Александровича о тебе или нет, есть у них вообще какое-либо мнение о тебе или нет. Они звонят тебе, потому что у тебя есть чо взять.
"В пустоте, да не в обиде" – так любил говаривать мой второй гуру Ринпоче. Гуру носил чудную серую бороду a la ZZ Top, его глаза светились искренним состраданием к шравакам, но цель его была проста – переоборудовать европейский Диснейленд в огромный ашрам справедливого бога Анубиса. Но после очередного банкротства парка приставы продали Диснейленд без торгов людям в белых балахонах… Оформили как отступное, чтобы сэкономить на налогах. Французы удивительно консервативны в своей жажде наживы. Гуру пытался судиться, писал в антимонопольные комитеты, требовал изучения антикоррупционной составляющей. Наивный. Умер, не прожив осознания размера уплаченной госпошлины за рассмотрение заявления.








