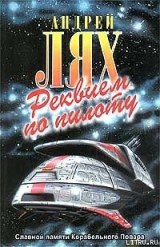
Текст книги "Реквием по пилоту"
Автор книги: Андрей Лях
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Рамирес Пиредра был гангстером, или, проще сказать, бандитом. Еще он был авантюристом высочайшего класса и, кроме того, – вместе с Лемке, Джентильи, Сталбриджем и прочими – видным деятелем франко-итальянской и международной мафии. Словом, все, что излагалось о нем в документах Скифовой папки, которую так и не дочитал Эрликон, было чистейшей правдой.
Главную особенность его натуры Скиф тоже назвал Эрлену, но тот, к сожалению, обратил на это мало внимания, а зря: именно сей причуде было суждено во многом изменить судьбу нашего пилота.
Известно, что сознание – лишь тонкая пленка над пучинами подсознания, которое эту пленку колышет, морщит и даже иногда прорывает. У Пиредры этой пленки не было вовсе. Создавая Пиредру, мать-природа – Гея, Деметра, как ни назови, – решила странно пошутить: выпустить в свет человека, лишенного способности сознавать самого себя, без всякого посредника столкнуть мир телефонов и космических кораблей с изощренностью первобытных инстинктов.
Любой человек многие вещи делает автоматически, не думая. Пиредра так делал все. Не хочу создать превратного представления, будто Рамирес был клиническим идиотом. Если он и был идиотом, то гениальным. Да, мышления у него не было, будто решение любой комбинации и ситуации он находил мгновенно, так, что казалось, он знал ответ заранее, или по некоему вдохновению – тот логический мостик рассудка, который соединяет мотивацию и поступок, у него отсутствовал с рождения.
Естественно, в этот раздел утрат сознания попали все морально-этические условности: честь, совесть и прочие, и тот незанятый уголок личности, который они формируют, был отдан мимикрии – Рамирес без усилий становился кем угодно и когда угодно: верил во всех богов, в зависимости от необходимости, и клялся любыми идеологиями. Перевоплощения его изумляли. Возможно, в нем погиб величайший актер, которого когда-либо давала миру Каталония.
С другой стороны, плата за эти мудреные отклонения была велика. Пиредра был музыкальным виртуозом, играл на любых инструментах, но понятия не имел о нотах. Он говорил на всех европейских языках и сленгах так, что кто угодно принимал его за соотечественника, но читать и писать было для него проклятием. Всю жизнь он гонялся за деньгами, но считали их для него жена и подручные, потому что от цифр ему становилось дурно. Странно представить себе личность, вооруженную столь парадоксальным способом общения с действительностью, и невольно хочется спросить: как же он вообще жил?
Хорошо жил. Пиредра был жизнерадостен, ибо размышления не отягощали его, а могучая интуиция, подлинно звериное чутье, превосходно заменяла ему интеллект. Там, где других подводил расчет, Рамирес не ведал промахов, поскольку отродясь ничего не рассчитывал; поведение его было непредсказуемо, алогично и неоднократно ставило в тупик и уголовный мир, и органы юстиции многих государств. Ущербность обернулась талантом, и кто знает, что могло бы выйти из Пиредры, получи он другое воспитание.
Воспитанием Рамиреса никто, собственно, не занимался. Его отец, Хорхе Пиредра, – контрабандист, пьяница и картежник, родом из Валенсии, тучный, коренастый и черноволосый – не дотянул двух месяцев до рождения сына и скончался во время какого-то выяснения отношений от традиционного крупнокалиберного заболевания. Произошло это обыденным образом, в парикмахерской, и мыльная пена густо перемешалась с разными иными веществами. Мать Рамиреса, Изабелла Сфорца, – дама родовитая, высокая сухопарая блондинка и, между прочим, дипломированный авторитетный эксперт-технолог – вскоре присоединилась к своему супругу. Увы, позднее материнство не пошло ей впрок. Союз их был фантастичен, загадочен, хотя и регистрирован и в церкви, и в мэрии. Как бы то ни было, дело обернулось так, что домом Рамиреса стали улицы Барселоны.
От матери Пиредра унаследовал необычный светло-каштановый цвет волос, да и вообще, он больше пошел в родню Сфорца – ростом, худобой, удлиненным овалом лица. Рамиреса, несомненно, можно было назвать красивым, но красота его была неопределенной, незапоминающейся, разве только глаза – какие-то желтые, взгляд их постоянно ощупывал собеседника и, казалось, хотел влезть в душу, независимо от того, смеялся Рамирес в эту минуту или грустил.
Нельзя сказать, что Пиредра с детства был совершенно брошен на произвол судьбы. Люди, возле которых он рос, относились к нему по-своему неплохо и сначала научили играть на гитаре, а потом и всему остальному. Десяти лет Рамирес оставил за спиной родную Коста-Дораду и половину Средиземного моря и неисповедимыми путями очутился в Калабрии, где сделался любимцем весьма могущественного клана Валлачи. Оттуда, собственно, и берут начало его приключения.
Что и как он делал? В мире, поделенном на сферы семейного бизнеса – профсоюзы, проституция, игорные дома, контрабанда оружия, производство и доставка наркотиков, продажа наркотиков, – Рамирес не занял никакой конкретной ниши, не прибился ни к какой стае. Он предпочитал быть волком-одиночкой – пришел и ушел, везде и нигде. Договор – организовать, убить, уговорить, привезти – исполнение, деньги и – прощайте. Такая методика требует неизменного везения, и оно у Рамиреса было в достатке. Главное – стать настолько своим, чтобы не вызвать и тени сомнения. Входя в любое новое общество, поначалу Рамирес только слушал и запоминал. Память у него была феноменальная, не было случая, чтобы он затруднился процитировать стихотворение, услышанное мельком десять лет назад. Он впитывал информацию и терминологию, все тончайшие нюансы и оттенки, кто здесь главный, кто оппозиция, на кого ориентироваться. На это время у него были две излюбленные маски: рубаха-парень, которому все нипочем, и недотепа интеллигент – блюдо, что не все любят, но все едят. И не было такой компании, где он не был бы почетным членом – от Латинского квартала до биржи наемных убийц в Палермо.
Иллюстрацией может послужить один курьезный эпизод. Как-то раз, унося ноги из очередной перепалки, Рамиресу пришлось смешаться с группой студентов. Дело было в Бомонте, в Штатах. Он попал на экзамен по какой-то экономике и просидел в аудитории минут сорок, слушая вопросы и ответы, после чего встал и сам отправился отвечать. Для него не существовало разницы в понятиях знать и чувствовать, говорил он в полемичной манере, дольше остальных, не очень даже глядя на преподавателя, и получил высший балл. Позже, в беседе со следователем, профессор признал, что незнакомый студент произвел самое благоприятное впечатление нестандартностью подхода и глубиной владения материалом.
Что же, после этапа овладения материалом, согласно методу Пиредры, наступала заключительная фаза – как правило, весьма лаконичная. Вслед за действием всепроникающего и всесокрушающего обаяния в ход шли деньги, обман, взрывчатка «си-16» или же универсальное разрешение любого конфликта – благословение Пьетро Беретта.
Да, интуиция может многое. Но, лишенная последующего осмысления, она, как ни грустно, остается бесплодной. У Пиредры отсутствовал дар творчества. Он не создал ни собственного синдиката, ни новой ветви подпольного бизнеса; несмотря на свои музыкальные таланты, не придумал ни одной мелодии. Подобно Гарринче, Рамирес знал блистательный, но единственный финт – вклиниться в чужую струю, выхватить куш и выйти сухим из воды. Иссякала струя – вместе с ней иссякал и Рамирес, одаренность его всегда носила некий паразитарный уклон.
Приходится признать, что эксперимент матери-природы принес довольно скудные результаты. Феномен бессознательного человека выродился хотя и в крайне удачливого, но в целом заурядного бандита. В итоге всех махинаций и душегубств в возрасте шестидесяти семи лет Рамирес бесславно окончил свои дни – через год после войны, летом, на тридцатом этаже отеля «Мексикана», Англия-VIII, его застрелила красотка Фонда – робот-хранитель в ту пору уже опального маршала Кромвеля. Похоронили Пиредру там же, неподалеку, в Глостерфилде, на маленьком католическом кладбище. Возможно, кто-то из старых экскурсоводов и припомнит, что где-то здесь похоронен известный гангстер, но точно указать его могилу вряд ли кто-нибудь возьмется.
Однако ставить точку в этой истории было бы рано. Сорок лет спустя после выстрелов в «Мексикане» Эрих Скиф приступил к своим исследованиям и вступил с Рамиресом в весьма своеобразные отношения, не поняв которых нельзя понять и того, что произошло с Эрликоном. Сейчас речь пойдет о научной работе, читать о ней всегда скучно, и я не обижусь, если вы просто пролистаете эти страницы. Итак —
Скучная интерлюдия ПРОГРАММА, или Как Скиф Пиредру воскрешал Скифа произвела на свет мало кому известная технократическая цивилизация, прекратившая существование задолго до начала всех наших событий. Судя по некоторым данным, там была предпринята попытка спасти мир путем сотворения бога из машины, для чего и были созданы четыре необычайно совершенных и компактных искусственных интеллекта. Судьба двух неизвестна, а двое дошли до людей, посаженные на антропоидную основу; один из них и есть Скиф. Это, разумеется, не имя, а номенклатурный псевдоним, имя же – Эрих Левеншельд – также выбрано абсолютно произвольно; точный возраст известен, пожалуй, только ему самому, и это, несомненно, только к лучшему, поскольку, как известно, вечность – звук не для земных ушей.
В прошлом его масса черных и белых пятен, но мы начнем нашу историю с осени 421 года, когда Скиф появился на Земле – в полном смысле слова неизвестно откуда, – он приехал выступать в качестве второго адвоката Гестии в нашумевшем тогда Хэмпстедском процессе. Ничего выдающегося с ним в это время не происходит, после Хэмпстеда Скиф перебирается в Ганно-вер, затем – в Крайстчерч, где получает степень доктора исторических наук и остается работать в местном университете на кафедре истории религии до 428 года. Вероятно, уже в это время он был связан с разведкой, но сказать об этом что-либо конкретное трудно, да это и не столь важно. На данном этапе для нас гораздо интереснее совсем другой человек.
Его звали Отто Бранчевский. По отцу немец, по матери поляк, родился в Англии, а жил и работал в Канаде, как раз в начале двадцатых годов. Если Скиф в ту пору – безвестный сотрудник захолустного университета, то Бранчевский в исторической науке фигура весьма заметная и колоритная, правда, с несколько скандальным оттенком – то ли гениальный маньяк, то ли хулиган. Бранчевский ратовал за введение математики в исторические исследования, выстроил на этот счет серию остроумных концепций и в одной из них приводил многоэтажную формулу взаимодействия гипотетического экспериментатора и экспериментального исторического процесса. Эта формула в графике разворачивалась в зубчатую кривую, названную кривой Бранчевского, или синусоидой Бранчевского.
И формула, и все построения долгое время оставались математическим курьезом, человечество вспомнило о них много лет спустя после смерти автора концепций, а в те времена мимо них прошли, ибо ни опровергнуть, ни доказать справедливость утверждений ученого не было никакой возможности.
Но вернемся к Скифу. Война и послевоенное лихолетье увели его далеко от науки и одновременно выдвинули в первые ряды невидимой касты разведчиков-универсалов. Связи именно тех лет позволили ему впоследствии создать собственную резидентуру в Западных секторах – даже в имперском Генеральном штабе практически всю войну просидел кто-то из людей Скифа.
В этих секторах Скиф пробыл довольно долго – почти до середины пятидесятых. Организация Института Контакта, равно как и признание идей Бранчевского, прошла без него. Позже стало принято считать, что Скиф стоял у самых истоков контактных дел. Нет, не стоял. Без него был построен и десять лет просуществовал на холмах Стоунбрюгге знаменитый «дом в тысячу этажей» из стали и зеленого стекла. В сыром августе шестьдесят третьего в структуре Института был создан таинственный оперативно-тактический отдел, будущее Четвертое управление, и среди зелени Контактерской деревни впервые сверкнула лысина Скифа.
Разведка бывает разная – военная, политическая, техническая и еще бог весть какая, целый мир направлений и специальностей. Но в Контакте разведать – это еще полдела. Знание – сила, сказал родоначальник научного мировоззрения и был совершенно прав: за временем знания наступало время силы, и это было время Скифа. Он предложил использовать схемы Бранчевского как ключ не только к оценке, но и к воздействию на ход развития иных миров, чем, кстати, еще больше отграничил разведку от контрразведки и положил начало бесконечной межведомственной склоке. Как бы то ни было, но политику, да и всю жизненную направленность других государств и цивилизаций следовало направить в желательное для Земли русло, определяемое Мировым Советом, и, напротив, не дать отклониться в направлении, угодном, например, Англии-VIII или тому же Стимфалу. Для этой цели у Скифа были дипломаты, агенты влияния, научные центры, институты, независимые эксперты и так далее, и в качестве последнего довода – подчиненная руководству управления группа быстрого развертывания «Дельта».
Много чего было за прошедшие годы, и вот теперь управление подходило к сорокалетнему юбилею. Беспристрастно оценивая перспективу, Скиф понимал, что рано или поздно придется уходить. Специфика профессии такова – на каком-то этапе знания и опыт начинают работать против тебя. Слишком больших авторитетов а таком посту не потерпит никакое руководство, ибо с определенной отметки опасность их начинает превышать пользу. Но Скиф, просчитывая ситуацию далеко вперед, не сомневался, что предвидение и то мастерство, с которым он владеет механикой своего ремесла, позволят ему еще долго оставаться хозяином положения и получать удовольствие от разрешения проблем Контакта, которые ему доверило человечество. Так Скиф делал ход за ходом, заставляя служить то науку политике, то политику науке, как вдруг…
Вдруг, как сказал классик, на этой шахматной доске, точнее, за этой шахматной доской, появилась еще одна, невиданная фигура.
Точную дату открытия Программы назвать невозможно, хотя бы уже потому, что неясно, что за такую дату считать. Однако можно достаточно уверенно предположить, что события начались зимой шестьдесят девятого года. В это время Скифу пришлось составлять программы интраобсчета по воздействию на группу каких-то планет – скорее всего, для слушателей внутренней академии ИК. Случайно или не случайно оказалась в этом списке Земля, теперь уже никто не узнает, но вот попала, а компьютеру безразлично, что считать, и распечатка графика по Земле оказалась у Скифа на столе вместе со всеми остальными.
Впервые в жизни Скиф не поверил собственным глазам. С оранжевой координатной сетки на него смотрела кривая Бранчевского.
Мгновенье он пробегал ее взглядом, затем встал и в два шага очутился у дисплея. Здесь у него начался довольно сумбурный диалог с компьютером – мыслительные операции в мозгу у самого Скифа занимали миллионные доли секунды, основное время уходило на передачу, так что за двадцать с лишним минут он успел нагородить пропасть разных диковин. Скиф менял программы и языки, вводил по Ледингу и Кормаку, добавлял самые немыслимые коэффициенты – все в надежде отыскать ошибку. Ошибки не было. ЭВМ послушно растягивала кривую, чудовищно сжимала и переворачивала, но с железным упорством не переставала утверждать: цивилизация Земли находится под неослабным и непрерывным воздействием неведомого внешнего экспериментатора.
Отключившись от компьютера, Скиф вернулся за стол, опять взял график и для начала изобразил на нем квадратик, а потом не торопясь принялся рисовать вокруг всевозможные стрелки и цифры. Квадратик означал некую трибуну, с которой Скиф мог бы громогласно объявить о своем открытии, а стрелки – варианты последующего развития событий. Вариантов всего набежало четырнадцать, и двенадцать из них явственно вели к финалу самому плачевному, и дальше за этим финалом начиналось уже что-то абсолютно невообразимое. Так зародился великий обет молчания вокруг Программы, переросший затем в атмосферу строжайшей секретности, окутавшей все позднейшие исследования.
Не позволяя себе никаких эмоций, Скиф сделал следующий ход, который иначе как научным подвигом не назовешь: он разработал собственный комплекс специальных программ и пропустил через компьютер всю более или менее достоверную историю Земли. На это у него ушло два года, и в итоге получилась удивительная разведсводка за период в четыре тысячи лет. Вынырнув из хаоса всех этих доверительных границ и чисел до и после запятой, Скиф почувствовал себя одновременно озадаченным и уязвленным.
Неизвестная сила – пора уже назвать ее Программой – действовала, во-первых, с непонятной целью, во-вторых, на восхитительном, по-библейски примитивном уровне и, в-третьих, необычайно артистично. ОНИ не применяли ни полей, ни излучений, ни экстрасенсорной чертовщины. Было так: появлялся обыкновенный человек и совершал поступок, и вся особенность только в том и заключалась, что человек этот ни по каким законам тогда и в том месте не мог ни возникнуть, ни знать того, что он знал. Для профессионала, каким и был Скиф, это значило, что пускай пока и теоретически, но Программу можно поймать за руку. В Скифе заговорил одновременно и ученый, и разведчик, и еще некое чувство сродни ревности – ему претила мысль предоставить право еще какой-то инстанции распоряжаться человечеством.
На подступах к новой игре Скиф проделывает еще один колоссальный по объему труд – составляет Антологию Загадочных Случаев, открыв счет знаменитой Синей Папки. Таинственные личности Программы, предположил Скиф, должны и появлягься таинственным путем или уж, по крайней мере, оставлять след каких-то необычных обстоятельств. По такому случаю он перекопал необъятные архивы ИК, что тем, несомненно, пошло на пользу – до сих пор многие считают наиболее крупным достижением Скифа «архивную реформу».
Естественно, довольно скоро он натолкнулся на легенду о Базе Предтечей – предмете вожделения нескольких поколений довоенных авантюристов – и, листая документы, не без удивления убедился, что База – это отнюдь не плод хмельной фантазии капитанов-дальнобойщиков, а реально существовавший объект, построенный ныне исчезнувшей цивилизацией. Именно в материалах по Базе Скиф впервые встретил запоминающееся имя: Рамирес Пиредра – единственного из людей, кто побывал на Базе трижды, и не только побывал, но однажды неведомо как погрузил ее на баржу и увез в неизвестном направлении.
Это что еще за тип, подумал Скиф, отчетливо уловив в этих перипетиях душок Программы. В тех же архивах нашелся ответ более чем исчерпывающий – плод кропотливой работы разноплеменных полицейских служб занимал многие увесистые тома. Прочитав их, Скиф заключил, что бандит был редкостного и таланта и везения, и что такого никогда не вредно иметь под рукой.
Так на рубеже семьдесят третьего года план «Программа» зародился в очередной раз. К этому времени Скифу уже было известно достаточно, чтобы предпринять попытку взглянуть на искомую сверхъестественность вблизи. Он не боялся, что его опередит кто-то из коллег, поскольку постоянно был в курсе всех исследований, способных составить ему конкуренцию, и видел, что в ближайшее время опасаться нечего. Скиф рассчитал и учел все возможное и приступил к делу.
Однако дело он замыслил неподъемное. Люди. Вот проблема. Где их взять? Выделить из управления? Вербовагь со стороны? Лишь чрезвычайно далекий от жизни человек может думать, что существуют какие-то агенты, или агентурные звенья, или просто имеющие соответствующую подготовку люди, которые могут предпринять какие-то шаги вне поля зрения хотя бы одного из многочисленных затененных зубастых ведомств. Можно сманеврировать деньгами. Труднее – информацией и связями. Но найти группу нигде не задействованных и неподотчетных профессионалов – задача технически неосуществимая.
Но даже техника была в этой ситуации не главным. Главной оставалась научная сторона. У Скифа были все основания предполагать, что многие из ныне живущих людей внесены в своеобразный «реестр Программы» и, следовательно, любая акция с их участием свела бы на нет чистоту эксперимента. Выходило, что нужны люди, которые бы не только на сегодняшний день ни в каких списках не значились, но как бы и вовсе не существовали. Казалось бы, полный тупик. Но Скиф знал выход.
Запись личности, или мнемограмма, как это почему-то именовали, известна еще со времен беспутного отца современной нейрофизики Ричарда Барселоны. В Центральном фонде хранилось немало пленок и кристаллов, хранящих память о генотипе, уме и характере разных знаменитостей, но бессмертие по-прежнему упрямо не давалось в руки. Индивидуальность отказывалась стопроцентно воспроизводиться, и возрожденный гений никак не желал продолжить свою уникальную сущность, проявляя, напротив, тенденцию к деградации и нежизнеспособности. Поэтому из морально-этических соображений эксперименты были запрещены и все подступы к ним перекрыты с мудрой тактичностью Но на всякого мудреца довольно простоты. Скифу был ведом потайной лаз в казематы этой неприступной крепости. История связана с именем все того же отца-основателя. Дик Барселона (настоящее его имя так и осталось неизвестным, во всех работах и документах он подписывался старинным детским прозвищем) на своем бурном, но удивительно долгом жизненном пути – девяносто два года отпустила ему судьба, это звучит феноменальным рекордом, учитывая тот образ жизни, который он вел, – собственноручно создал в разные годы не менее сотни записей. Они считались научными реликвиями – что-то вроде микроскопа ван Левенгука – и хранились в архивах Института нейрофизики. Директором этого Института была МэриэтДарнер, мать Эрлена Терра-Эттина, с которой Скифа связывали давние и близкие отношения. От нее Скиф знал, что записи эти, несмотря на древность, благодаря хитрому множественному дублированию и дьявольскому искусству Барселоны, мало того что во многом превосходят современные, сделанные на новейшей аппаратуре, но еще и являются действующими. Вполне естественно, что однажды сей перечень экспонатов оказался в руках у Скифа.
Список был необычайно пестрым. Проститутки, коммивояжеры, коллеги-ученые, воры, люди вообще без имени – похоже, титан экспериментировал на всех, кто попадался под руку. Охватив их всех одним взглядом, Скиф поднял свое кресло на дыбы, покачался на задних ножках и даже засмеялся. Семь записей из ста, с различными промежутками, были произведены с Рамиреса Пиредры, все того же гангстера, и первая галочка тут же встала напротив его фамилии.
Скиф недаром держал в памяти весь до последней запятой перелопаченный им архив – формула дальнейших действий сложилась практически без усилий. Помедлив самую малость, Скиф рассадил еще трех птичек – эти люди, по его плану, должны были обеспечить выход Пиредры на контакт с Программой.
Почему именно Рамирес? Потому что, во-первых, он был мастером своего дела – об этом говорил его послужной список, а во-вторых, Пиредра умело и удачно рисковал. Этой способности, столь порой необходимой, Скиф, при всех его качествах, был, увы, начисто лишен и знал об этом.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Дальняя дорога разделяет кассету, пусть даже и с самой совершенной записью, и живого резидента, правящего бал в пекле событий. Для того чтобы по закодированной бог весть когда информации произвести на свет реального человека, необходим комплекс размером с небольшой завод, стоить он будет как хороший авианосец, да и плюс к тому, чудо сие надо сотворить в полной тайне как от врагов, так и от друзей. Не все сошло гладко, и, произведя свои манипуляции, Скиф породил немало версий и догадок в ГАЛБЕЗ – спецподразделении криминальной полиции. Будучи об этом осведомлен, Скиф методично заносил в память координаты всех тех, кто мог что-то видеть, слышать и припомнить, и, едва приступив к своим обязанностям, свежеиспеченный Рамирес Пиредра отправился в турне с этим Скифовым каталогом в кармане.
Поэтому, когда комиссар Бартон, кое-что сопоставив и сообразив, бросился задавать вопросы, то не смог найти практически ни одного из вероятных свидетелей. Это-му-де оставили наследство, и он уехал его получать, второй перебрался на работу в другой город, а третий просто вышел однажды отправить письмо, да так до сих пор и не вернулся.
Для любопытного читателя расскажу, что многие из этих пропавших обрели успокоение в опорных бетонных блоках различных инженерных сооружений, в виде сульфатов и нитратов унеслись прочь по городским канализациям, навеки соединились с атмосферой в мусоросжигалках – об иных же история вообще умалчивает.
Конец скучной интерлюдии Писать о Рамиресе – задача неблагодарная. Безнадежное занятие – рисовать пустоту, сказал Цвейг; не менее безнадежно изображать характер там, где нет ни характера, ни мысли, а есть лишь жадность, осторожность и неистребимый оптимизм. Получается какая-то история болезни, но без Рамиреса в моем рассказе обойтись никак нельзя.
Пиредра вступил в пятое послевоенное десятилетие, будучи в полном восторге. Свобода. Деньги. Рядом незаменимые подручные – Хельга и Гуго Звонарь. Время прибрало и друзей и врагов, и нет нужды попусту растрачивать обаяние и патроны. Рамирес жмурился, будто сытый кот на солнце, земля и небо, сев за сдвинутые рояли, грянули рэгтайм.
Над трупами и бетономешалками первого Скифова задания Рамирес пролетел с легкостью мотылька – он вовсю наслаждался жизнью, и сам факт существования и деятельности доставлял ему живейшее наслаждение. Однако долго порхать Скиф не позволил. Пиредра водворен в тюрьму, отнюдь, впрочем, не утратив веселого расположения духа, в тюрьме его снабдили самыми настоящими документами, и таким образом он родился уже вполне официально, затем началась подготовка к первому контакту с Программой.
Скиф вычислил пробный камень. Это был человек по имени Асгот Грюн, и работал он в английском посольстве на Гестии. По всем расчетам, он был той самой «фигурой запрещения», которая должна была открывать реакцию воздействия. Скиф предполагал, что у Грюна имеются какие-то инструкции программного руководства. Эти бумаги, кассеты или уж что там Скиф желал видеть на своем столе.
В налете на особняк Асгота участвовали трое: сам Рамирес, Звонарь и еще никому не известный друг Звонаря. Подобно Монморенси, Гуго обладал способностью мгновенно обрастать знакомствами с самыми невероятными личностями, готовыми за него в огонь и в воду. Мероприятие прошло с успехом, Рамирес прекрасно продемонстрировал свою даровитость и самобытность, Скиф получил, что хотел, и незамедлительно выложил пятьсот тысяч, отдав одновременно приказ быть наготове.
Звонарь со своим непонятным другом забрали причитающуюся им долю, спрятали пистолеты и без лишних слов пропали с горизонта, а Рамирес отправился домой. Правое крыло у его «Мерседеса-280» было сорвано вместе с фарой, так что вся анатомия торсионной подвески глядела наружу; какая-то смятая железяка вспахивала в протекторе неровную борозду; рукав костюма Пиредры отсутствовал полностью, да и от рубашки на руке уцелел только драный фестон, залихватски развевающийся на ветру, точно вымпел, являя всему свету мохнатое гангстерское запястье с браслетом электронных часов. Грюн довольно решительно выразил свое недовольство – зато на сиденье возле Рамиреса лежал заветный чемоданчик, содержимое которого сулило передышку и широкий выбор поля деятельности. Словом, жизнь была прекрасна.
Домой. С момента второго рождения Рамиреса прошел год, и за это время у него появился дом – на Земле, в Париже, купленный Хельгой, неизменной подругой Пиредры, на деньги Скифа. Дом этот свободно можно было назвать дворцом, и там как раз происходил то ли бал, то ли прием, окна сияли огнями. Когда поздно ночью через заднюю калитку в него вошел Пиредра, заросший густой черно-синей щетиной, все в том же драном наряде, с чемоданчиком, он по подземному кирпичному коридору направился на кухню, где немедленно запустил ложку в первую же попавшуюся кастрюлю, ибо зверски хотел есть.
Минут через десять в пустынную кухню с царящим в ней гастрономическим разбоем вошла необычайной красоты дама в мехах, похожая на Снежную королеву. Это и была Хельга, великолепие ее вечернего туалета существенно отразилось на бюджете ИК. Окинув ледяным взором супруга, в тот момент более всего похожего на нищего бродягу-итальянца. Снежная королева сказала:
– Идем.
– Сейчас, доем, – ответил Рамирес.
– Брось свои глупости, – посоветовала Хельга.
Рамиреса ожидал удар, от которого он потом не мог оправиться всю жизнь. Глядя на колыбель с младенцем, он в недоумении спросил:
– Что это такое?
Хельга пропустила этот идиотский вопрос мимо ушей:
– Я назвала ее Ингебьерг. В честь бабки.
К тому факту, что у него есть дочь, Рамирес так и не привык последующие двадцать восемь лет. Родительские чувства в нем так и не пробудились, что-то не сработало в той системе инстинктов, которая управляла его эмоциями и поступками. Ингебьерг навсегда осталась для него лишь дополнительной зоной уязвимости и беспокойства, а значит – страха и раздражения. Впрочем, это никогда и никому не приходило в голову – Рамирес делал все, что положено делать любящему отцу, и эта маска удалась ему не хуже других.
Любопытно, что Инга, повзрослев, сохранила дружеские отношения именно с отцом, в то время как с матерью у нее все более нарастало охлаждение, перешедшее позднее в острую неприязнь. Между тем Хельга была человеком примечательным.
Жизнь авантюриста трудно назвать монотонной, но назвать однообразной можно вполне. Начиная лет с двенадцати Рамирес постоянно повторял один и тот же отработанный фокус – пришел, обманул, забрал; предприятия его отличались друг от друга лишь географией да величиной ставки, и даже воскресение из мертвых, сколь ни парадоксально, ничего в этой схеме не изменило. Иное дело Хельга. Она знавала такие перевороты и метаморфозы, которые и не снились ее двумерному супругу.
Хельга Торбергстуен – Хельгой Хиллстрем она стала, приняв шведское подданство, – появилась на свет в Норвегии, в Олесунде, городке, с незапамятных времен ставшем и остававшемся провинцией. Здесь она росла и в семнадцать лет завоевала первый приз на конкурсе красоты – видимо, сказалась ее стопроцентно скандинавская внешность – у членов жюри взыграло патриотическое чувство. Образ жизни ее до этих пор вполне скромен и добропорядочен – примерная дочь почтенных родителей.








