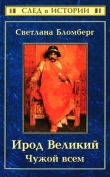Текст книги "Мой старший брат Иешуа"
Автор книги: Андрей Лазарчук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Андрей Лазарчук
Мой старший брат Иешуа
От автора
Роман написан на основе перевода так называемого «Китирского кодекса», выполненного профессором Анатолием Павловичем Серебровым, с разрешения переводчика и с единственным условием: избегать прямого цитирования. Это условие выполнено полностью.
Первоначально я намеревался внести в текст романа и биографию А. П., и историю поисков кодекса, и коллизию его утраты и компрометации. Однако после первых же десятков страниц от этой мысли пришлось отказаться, так как история эта выглядела слишком неправдоподобной. Поразмыслив, я решил отложить написание биографии А. П. Сереброва, включающей, разумеется, детективно-приключенческий сюжет, развивающийся вокруг «Китирского кодекса», на какое-то время, лучше всего до тех пор, когда имя этого замечательного ученого будет возвращено в научный оборот.
Итак, при написании я имел на руках фотокопии самого кодекса, перевод кодекса на русский язык, около двухсот страниц комментариев А. П. к переводу и его предсмертное письмо ко мне, приводить которое я считаю излишним. Где находятся оригинал кодекса и его имитация сейчас и какие инструкции получили те люди, которые, я надеюсь, будут добиваться научной публикации, мне неизвестно.
Мои сердечные благодарности поэту и писателю Даниэлю Клугеру, который уже не в первый раз приходит мне на помощь, и Руслану Хазарзару, чей фундаментальный труд «Сын человеческий» помог мне сориентироваться во многих реалиях древности. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем, желающим не только верить, но и знать.
И, конечно, отдельное спасибо Иосифу Флавию.
Еще несколько слов от автора.
Об именах и географических названиях. В рукописи они, как правило, приводятся в непривычном для нас виде, а именно: греческими буквами воспроизводится звучание имени либо названия; иногда бывает трудно понять, о чем или о ком идет речь. Есть случаи, когда имя одного и того же человека в одном месте написано так, как оно звучит по-еврейски, в другом – как по-гречески, в третьем – скорее всего, по-арамейски. Я говорю «скорее всего» потому, что точной фонетики арамейского не знает никто. Если учесть, что кодекс написан на одном из диалектов лаконского (спартанского) языка, который в произношении отличался от общегреческого койне весьма значительно, то понятно, насколько тяжело было иногда разобраться, кто или что имеется в виду.
Я постарался везде, где это не мешает восприятию, это непривычное написание сохранить. С другой стороны, в зависимости от контекста пришлось применять наряду с арамейской и еврейскую форму имен, и греческую, и привычную нам орфографию, принятую в русском синодальном переводе Библии (например, Элишбет – Элишева – Элисбет – Елисавета; Иешуа – Йешуа – Иэсус – Иисус). В описываемое время точно так же применялись различные формы одного и того же имени: еврейская космополитичная знать говорила по-гречески и называла детей греческими именами (совершеннейший аналог России девятнадцатого века, только вместо греческого был французский), простые горожане и крестьяне говорили на арамейском и использовали арамейские формы имен и названий, священнослужители – древнееврейские. Римляне же всех именовали на свой латинский манер; грамотные люди их понимали.
В рукописи есть персонажи, которые именуются попеременно то на греческий, то на арамейский манер. Дабы избежать лишней путаницы, я оставил им только по одному имени.
Хасмонейская династия – Хасмонеи в рукописи именуются только Маккавеи и Маккаби (есть оба варианта написания). Причина этого мне неизвестна, но я решил так и оставить.
Еврейский календарь, как я понял, использовался прежде всего для определения религиозных праздников, а сирийско-македонский – в повседневном обиходе.[1]1
Сирийско-македонский календарь
диос – ноябрь
апеллай – декабрь
аудинай – январь
перитий – февраль
дистр – март
ксантик – апрель
артемисий – май
дасий – июнь
панем – июль
лаос – август
гарпей – сентябрь
иперберетай – октябрь
Еврейский календарь
В Библии встречаются только семь пришедших из Бабилонии названий месяцев еврейского календаря: нисан (приходится обычно на март—апрель), сиван (май—июнь), элул (август—сентябрь), кислев (ноябрь—декабрь), тевет (декабрь—январь), шват (январь—февраль) и адар (февраль—март). Названия остальных месяцев – ияр (апрель—май), таммуз (июнь—июль), ав (июль—август), тишрей (сентябрь—октябрь) и мархешван, или хешван (октябрь—ноябрь), – иногда с обозначением их порядковым числительным появляются наряду с уже перечисленными только в рукописях первого века до н. э. – первого века н. э., в частности в свитках Кумрана.
Сутки делились на 24 часа, а час – на 1080 долей. Начало суток считалось с конца заката, когда край солнца исчезал за горизонтом.
[Закрыть] То есть когда в тексте упоминается праздник, называется еврейский месяц, а когда рядовая дата – македонский. Римский счет месяцев и лет в рукописи не встречался ни разу.
Довольно часто даты событий, приводимые в рукописи, отличаются от тех, которые имеются у Иосифа Флавия. Разница невелика и составляет один-два года в ту или другую сторону. Я сохранил датировку, которая дана в рукописи («от воцарения Шимона Маккаби», т. е. от 142 г. до н. э.), и решил больше доверять датам, приведенным там, нежели Флавию – тем более что Флавий довольно своеобразно использовал летосчисление «от первой Олимпиады», называя месяц, но не называя год (скажем, «в мае такой-то Олимпиады» вместо «в мае первого-второго-третьего-четвертого года такой-то Олимпиады»).
Климат в Средиземноморье в те времена несколько отличался от нынешнего: температуры были ниже, дожди шли чаще. Видимо, сказывалось то, что Сахара имела площадь в несколько раз меньшую, чем сейчас. Благодаря этому земледелие повсюду было неполивным, и пшеницы и ячменя собирали по два, а во многих местах и по три урожая. Впрочем, именно в описываемое время климат начал довольно резко меняться к худшему: начинались те подвижки, которые вскоре привели к Великому переселению народов.
Собственно, это все, чем я хотел бы предварить книгу. Благодарю за внимание.
Глава 1
Одарил или наказал меня Господь тем, что каждое утро я просыпаюсь двенадцатилетней девочкой, а каждый вечер умираю старухой, забывшей счет своих лет? Наверное, все же одарил в милости своей, потому что я ведь и есть на самом деле старуха, что забыла счет прожитых лет. А видеть встающее солнце и петь, встречая его, – дано не всякой старухе, и даже самой счастливой из старух.
Я пережила уже всех, кто был со мной тогда, и своих детей, и детей моих близких. Кто-то шепчется за спиной, что я проклята на вечную жизнь и что я не одна такая… Чем дольше жизнь, тем больше слез и потерь, а из радостей – только память.
И еще вот эта одна: я могу видеть по утрам солнце, и я могу петь.
Потом и солнце заволакивает волнистой мглой, и лишь по краям этой мглы, этого косматого пятна цвета зимнего моря остается что-то живое. Впервые мне вот так загородило взор, когда храмовые стражники приволокли меня на гору и велели опознать в распростертом на камнях убитом человеке моего брата, а я смотрела и не могла понять, что такое происходит со мной. Куда бы я ни обращала взгляд, пылающая лиловым пламенем ладонь с короткими загнутыми когтистыми пальцами не давала мне увидеть ничего из того, что должно было быть передо мной…
Толпа вопила и требовала, а я молчала. Потом они бросились.
Говорят, меня спасли римские солдаты,[2]2
Здесь и далее, когда речь идет о римских солдатах, римском лагере и т. п., следует иметь в виду, что регулярных римских войск, легионов, в Иудее не было вообще, а развернуты были только вспомогательные войска, набираемые из местного населения; организация их и вооружение не отличались от римских, но язык использовался туземный; также другими были и регалии. Расквартированные в Иудее и в частности близ Иерушалайма части комплектовались преимущественно самарянами и декаполийцами, говорившими на греческом.
[Закрыть] но этого я уже не помню совсем. Когда я очнулась, то подумала, что идет какой-то веселый праздник. Я слышала радостные песнопения. На самом деле было тихо и страшно. У меня выпали все волосы, а кожа легко собиралась в обширные тонкие складки. Без сознания я пролежала почти два месяца. Никто не верил, что я выжила, и говорили, что восстала из мертвых и что это не чудо, а черное злое волшебство.
С тех пор я так и осталась тонкой, как лучина, волосы на мне не росли нигде, а видела я лишь то, что творилось сбоку от меня, и ничего, что творилось впереди.
Дети мои боялись меня и с трудом сдерживали крик, когда мама побуждала их войти в комнаты, занимаемые мною. Потом мама плакала. Она думала, что я не слышу. Но я все слышала.
Мы снова жили в нашем старом доме в Еммаусе.[3]3
В рукописи используются как греческий (Еммаус), так и арамейский (Хаммат) варианты написания названия; мы используем только первый, как более привычный, дабы не создавать путаницу.
[Закрыть] Я боялась, что дом развалится – так скрипели, трещали и пьяными голосами пели половицы и балки. Но дом выдержал, он выстоял до той ночи, когда и нам пришлось бежать от убийц. Я уже могла ходить и что-то нести.
Я росла в этом доме – с восьми лет и до одиннадцати. Тогда он был огромен.
Дом был огромен, а свет светел. Он пронизывал дом косыми лучами. Отец был велик и добр. Руки его пахли смолой многих деревьев. От мамы пахло молоком. На руках она все время держала маленького Зекхарью, а он плакал. Потом он перестал плакать, а плакали все вокруг, и я плакала тоже.
Тетя Элишбет была выше мамы, а волосы ее, теплые и волнистые, светились, выбиваясь из-под траурной головной повязки. Волосы у мамы были темные, очень длинные, она подбирала их гребнем. Но все равно мама и тетя были очень похожи, и все говорили, что они похожи как родные сестры, старшая и младшая, а не как тетка и племянница. У тети Элишбет был сын Иоханан, а мужа ее велел убить безумный царь Ирод, мучимый духами зла; духи же смогли войти в него потому, что он втайне поклонялся нечестивому богу и хотел заставить всех нас поклоняться ему. В честь убитого мужа тети Элишбет родители и назвали моего брата. Таков обычай. Но брат тоже умер.
И тогда мы остались вдвоем с Иешуа.
Иешуа – мой старший брат. Он старше меня на два года. Иоханан еще старше, чем мой брат, но мне с ним легче и проще. Жалко, что тетя Элишбет живет далеко, и они могут бывать у нас нечасто.
Я много раз слышала, что где-то на небесах Иешуа и Иоханана перепутали родителями, отдали не тем. Потому что Иешуа светлоглазый и светловолосый, как тетя Элишбет, и светловолосым был ее убитый муж, а Иоханан смуглый, черноглазый, и волосы у него почти черные и торчат во все стороны, а наша с Иешуа мама темноволосая, глаза у нее карие, а на лице много веснушек, поэтому даже во дворе дома и в саду она прикрывает лицо, как женщины кенитов, а если она не будет прикрывать, то лицо станет совсем черным. А у отца волосы седые и лицо всегда загорелое, потому что он часто ездит в Сирию, а потом из Сирии с караванами. Там он выбирает лес и привозит сюда, чтобы строить дома. Поэтому у нас большой просторный дом с густым садом и много слуг и рабов. Глаза отца прячутся под густыми седыми бровями и сидят очень глубоко, и совсем нельзя рассмотреть, какого они цвета. А когда я спросила его, может ли так быть, что Иешуа отдали не тем родителям, он вздохнул и сказал, что да, наверняка не тем.
Детство – это когда ты можешь задавать любые вопросы без тени страха.
Здесь, в Еммаусе, у мамы родились Иосиф и Яаков. А еще позже – мне исполнилось одиннадцать лет, и мы уже жили в Кане – Шимон и Иегуда.
Последней родилась сестра Элишбет. Ее тоже назвали по недавно умершей. Отец наконец-то смог баловать детей столько, сколько хотел – и ее, и внуков. Жаль, это счастье длилось не так долго. Страшная болезнь поразила его кости. Острые осколки, похожие на иглы рыб, выходили через множество язв. Я сидела с ним рядом, держала за руку и меняла мокрые тряпки на ногах. День и ночь. И снова день, и снова ночь.
Он многое рассказал мне тогда. Многое, но не все. Может быть, потому, что всего он и сам не знал.
Я уже не могу отделить в моей памяти воспоминания собственные и рассказы других людей; узнанное мною наверное и то, о чем я догадалась из намеков и умолчаний. Я не была во многих городах, о которых буду рассказывать, и не видела тех знаменитых и славных, от которых нам нет покоя; да и саму возможность видеть я потеряла весьма рано. Какая разница? Все это живет во мне, и я просто не хочу, чтобы оно умерло вместе со мной. Оно слишком горячо. Оно до сих пор слишком горячо и слишком болит.
Глава 2
Отец мой, Иосиф, богатый лесоторговец, овдовел на пятом десятке лет. Моровое поветрие в одну зиму унесло его сына Иешуа, беременную сноху Эглу, дочь Алдаму и жену Рахель. Все они умерли у него на руках, хотя он молил Всевышнего забрать лучше его и оставить их жить на земле, но Всевышний либо не услышал – много таких молитв долетало до него той зимой, – либо считал, что Иосиф еще будет нужен Ему здесь, внизу.
Говорили, что прежде Иосиф был суров и вспыльчив. Теперь это стал совсем другой человек: кроткий, добрый и богобоязненный. Он роздал многое из своего имущества и земель, купил мужей двум самым расторопным рабыням, обильно жертвовал Храму. Он говорил, что начинал жизнь простым бродячим плотником – и простым бродячим плотником он ее закончит. Может быть, он действительно избавился бы от всего своего имущества, но вмешалась тетя Элишбет со своим мужем Зекхарьей, старшим священнослужителем Храма. Зекхарья, добродетельный саддукей, сумел убедить Иосифа, что праведно приобретенным богатством человек только славит Бога, а тетя Элишбет взяла в свои руки устройство его жизни.
У нее была племянница, дочь ее двоюродной сестры, по имени Мирьям, в пять лет оставшаяся без матери и отданная отцом, Иоакимом, владельцем тучных стад из богатой деревни Кохба, на воспитание в Храм, на Женский двор. Иоаким был щедрый жертвователь, и род его принадлежал к знати колена Левитова, и что заставило его отказаться от взращения дочери дома, не знает никто. Впрочем, может быть, им двигала только забота о ней, потому что девушки, выросшие при Храме, всегда находили себе в женихи священников, или наследников царских родов, или других достойных.
Мама очень не любила вспоминать проведенные на Женском дворе годы, а когда я однажды по глупости попыталась настаивать, она побила меня по щекам. Я вся в слезах и в страшной обиде стояла и не знала, как мне теперь жить и видит ли эту несправедливость Предвечный, она обняла меня, заплакала вместе со мною и прошептала: «Вот я и рассказала тебе все».
На пятый год ее жизни при Храме пришло известие о смерти Иоакима. Тогда ей сказали, что он просто умер. Потом до нее дошли слухи, что отца убили разбойники. И только когда она уже была обручена с Иосифом, моим отцом, дядя Зекхарья под большим секретом рассказал, что Иоаким был замешан в заговоре против царя Ирода – и, когда его и двух других заговорщиков попытались схватить, они заперлись в доме и зарезали друг друга ножами, чтобы не попасть живыми в руки палачей.
Возможно, это был так называемый заговор Александра и Аристобула, сыновей Ирода от Мариамны, последних из рода Маккаби; заговор этот якобы длился несколько лет и провалился только из-за трусости царевичей, которые за нее и поплатились в конце концов сами. Но это мог быть и другой заговор, реальный, случившийся в близкое к тому время. Слишком много людей хотели убить царя-вероотступника, и уже слишком многих хотел убить он сам.
Потом мне с разных сторон рассказывали, что заговор мариамнитов с самого начала плелся под постоянным контролем потаенных людей Ирода и потому был раскрыт удивительно вовремя. Вместе с сыновьями Ирода казнь или тайную смерть приняли больше ста мужей только в Иерушалайме; сколько же погибло всего людей, не знает никто. Для Ирода – так считали почти все – это был всего лишь повод расправиться с теми, кто его ненавидел, сломить сопротивление как саддукеев, так и фарисеев – и позволить язычникам вновь строить свои храмы и капища в стенах Иерушалайма. Ради этого-де он не пощадил и родных сыновей…
Я уверена, все было иначе. Значительно проще – и, наверное, страшнее. Но об этом в свое время.
Итак, когда смерть пришла за Иоакимом, пожертвования от него Храму прекратились, что не удивительно. Не без помощи Зекхарьи Мирьям оставили при Женском дворе, но теперь она должна была жить вне Храма, а лишь приходить днем и учиться – учиться послушанию и рукоделию, манерам и танцам, умению управляться на кухне и содержать дом в порядке и законе. Это было маленькое счастье, выросшее из большого несчастья: теперь маме не нужно было оставаться в постылых спальнях, а можно было выйти из ворот, пройти по мосту, потом два квартала налево – и вот уже дом Элишьи, троюродной ее сестрицы, другой племянницы тети Элишбет. Не имевшая своих детей Элишья, которой в ту пору минуло двадцать лет и муж которой, именем Йоэль, служил в войске царя и был мастером колесниц, а потому дома появлялся редко и ненадолго, только рада была этой нечаянной обузе. Они устраивали веселые шумные игры, иной раз вовлекая в них служанок, и помногу разговаривали как равные сердечные подруги перед тем, как уснуть.
Тетя Элишбет всякий раз, как приезжала в Иерушалайм, навещала племянниц. Удивительно ли, что разговоры всегда так или иначе сводились к ничем не заслуженной бездетности и тети, и племянницы; и обе они убеждали маму, что у той обязательно все будет в порядке, потому что Господь милостив к невинным.
(Будто бы они сами были в чем-то виноваты!)
А потом шло обсуждение самых нечестивых и языческих способов зачать и отяжелеть…
Так прошло несколько лет. Маме исполнилось четырнадцать, и это был предпоследний год ее обучения. Тогда-то и произошло несчастье с Иосифом, и тетя Элишбет взяла в свои руки устройство его новой жизни.
Даже Элишья пришла в ужас и содрогание от идеи тети: все-таки Иосиф был почти старик, а Мирьям только-только выходила из поры детства; она была еще и миниатюрной, а потому выглядела младше своих лет. Но время показало, что тетя Элишбет была мудра и проницательна, и лучше всех на свете разбиралась в людях: все составленные ею пары жили счастливо, а мои родители оказались самой верной, самой любящей и самой счастливой парой из всех тех. Не было на свете никого, кто мог бы сравниться с ними в гармонии, мудрой уступчивости и взаимной поддержке; и что было для одного, то же было и для другого. Двадцать два года они прожили вместе, и только малость этого срока омрачила их жизнь; только это.
Глава 3
Хотя Мирьям и была единственной наследницей своего когда-то богатого отца, оказалось, что приданое ее не слишком велико. Как разузнал Зекхарья и нанятые им судейские служки, большую часть своего достояния Иоаким либо продал, либо заложил незадолго до смерти; куда делись вырученные деньги, можно было только догадываться. Один из его домов сгорел, а другой забрали как имущество преступника, и поделать с этим хоть что-то не было никакой возможности. Оставались не очень большие, но плодоносные виноградники в Галилее и старый дом при них; там жила семья арамеев-арендаторов, бежавшая от кого-то из самой Рас-Шамры на юг; Иоаким назначил им очень скромную плату в пятьсот динариев в год – меньше, чем оплата двух простых работников, – и они вносили ее охотно и предупредительно; по оценке, дом и виноградники стоили четыре тысячи драхм, и арендаторы готовы были в любой час внести эту сумму. Помимо этого, людям Зекхарьи удалось выручить две тысячи динариев по старым долговым запискам Иоакима, а потом выяснить и доказать в суде, что нечестные пастухи присвоили себе его овец; это принесло еще почти столько же. За вычетом доли, полученной наемными служками, приданое Мирьям составило шесть с половиной тысяч драхм – то есть меньше двенадцатой части того, чем когда-то владел Иоаким.[4]4
Денежные и имущественные расчеты были в то время весьма сложны, поскольку на территории Иудеи существовало одновременно несколько денежных систем: римская (аурии, динарии, сестерции), старая хасмонейская, вплетенная в греческую (драхмы, оболы, халки), собственно иудейская (шекели, пруты, лепты, причем шекель был не монетой, а лишь мерой веса серебра); имели хождение также драхмы Тира и Сидона. В силу скорее традиции, нежели удобства, земля и недвижимость оценивались в драхмах, труд и товары – в динариях, храмовый налог – в шекелях. Шекель равнялся одной тетрадрахме или четырем динариям; стоимость же медных и латунных монет относительно серебряного номинала изменялась, и если при Ироде один шекель (тетрадрахма) стоил 384 пруты, то после низведения Архелая – 256 прут. Легко понять, почему так распространено, доходно и востребовано было ремесло менялы.
[Закрыть]
Но вряд ли это хоть сколько-нибудь интересовало Иосифа. Он попал под очарование Мирьям, и весь прочий мир утратил для него интерес, музыку и цвет.
Они обручились в двенадцатый день священного праздничного месяца Тишри, после Дня очищения и накануне веселого шумного праздника Кущей; саму же свадьбу назначили на весну, на месяц Нисан, на один из благоприятных дней по завершении Пасхи и Праздника Опресноков. Вот уже Иосиф в радости начал приглашать гостей…
Увы: начались тайные, но грозные события, в которые по воле судьбы оказались ввергнуты и мои родители.
Что бы ни говорили люди и что бы в сердцах ни сказала и я, а Ирод был поистине великим царем – пока не пришло к нему старческое безумие. Да и то сказать: а действительно ли старческое безумие это было? Немного позже я поделюсь своими сомнениями…
Царство его простиралось шире царства Соломонова, и Храм, воздвигнутый им, затмевал Храм Соломона – тот, что был чудом света, описанным в книгах. Доблестью своей Ирод сыскал расположение римских военачальников, и сам Гай Юлий Кесарь называл его своим другом. Благодаря этому народ наш почти миновали разрушительные войны, ведомые римлянами на границах Империи; а плата за мир и покой составляла мизерный динарий в год – ровно столько, сколько положено было платить за день работы наемному жнецу или сборщику винограда. При жизни Ирода его не раз попрекали этим динарием – а когда он умер, знатные фарисеи, шесть тысяч человек, на священном собрании постановили считать время его правления золотым. Задним умом оказались крепки фарисеи…
Нет, я несправедлива к ним. Они просто имели смелость высказать то, что думали многие другие. Думали – однако кротко молчали.
Чем же отвратил от себя Ирод евреев? Да только тем, что не гнал язычников, посещал их храмы и капища и даже восседал на почетных местах на чудовищных и бесстыдных многодневных игрищах, устраиваемых греками в честь их ложных олимпийских божков. Этого ему не простили, припомнив, а то и придумав и арабское происхождение, и подлый – едва ли не рабский – род, и содомские похоти в молодости: из-за них он якобы и отлучил от себя первую жену, Дору, мать Антипатра, и благодаря им же получил из рук своего любовника, римского полководца Антония, трон Иудеи, еще теплый от крови царя Антигона Маккаби. И много другого говорили про него и при жизни его, и после смерти. Злость людская всегда проточит себе путь, как вода, без дела стоящая за дамбой…
Есть ли правда в сказанном? Я не знаю. И никто не знает. Ложь и правда неразличимы ни на взгляд, ни на ощупь, и только долго прислушиваясь в темноте, можно понять, что звучат они чуть-чуть по-разному. И я думаю, что если бы можно было легко отличать правду от лжи, род людской иссяк бы задолго до потопа. Ложь подобна той тине и грязи, в которой ленивые рыбы, обитающие в прудах, переживают засуху страшной опаляющей истины.
Мирьям после обручения с Иосифом и ухода из Женского двора несколько месяцев жила в просторном поместье Зекхарьи под Ем-Риммоном, совсем маленьким городком между Хевроном и Бершебой, в двух днях пути от Иерушалайма. Согласно закону, она уже находилась на попечении будущего мужа и даже могла жить под его кровом, но тетя Элишбет не торопилась отпускать ее от себя, обучая мудрости и терпению.
Однажды все кончилось. Это было так: поздним вечером, слушая шум ветра и дождя в ветвях сикомор – с трех сторон могучие деревья окружали дом, закрывая его в знойные месяцы от палящих лучей, – тетя Элишбет и Мирьям при трех светильниках, разложив Книгу, беседовали о старине.
Надо сказать, что тетя Элишбет была ученая женщина, умевшая читать и на арамейском, и на языке священных книг, и на греческом, и на арабском, и на египетском, и на латинском; Мирьям, постигшая грамоту только арамейского и греческого, восхищалась ею.
– Тетя, – спросила она, задумавшись, – мне странно: почему даже нас, посвященных Всевышнему девственниц, не учили читать по написанному в книгах, а только велели запоминать слова, сути которых мы не знали? Они были так похожи на обычные, но если их услышать один раз, то невозможно понять. Мы повторяли и повторяли их, пока голова не начинала кружиться, а в сердце проникал страх, и чудился страшный смысл, который вот-вот и будет постигнут, вот порвется завеса, и я все увижу и все-все узнаю, но обязательно что-то случалось, что-то плохое, как будто я уставала и разжимала руки, и падала куда-то, и поэтому не понимала ничего. Разве нельзя учить священному языку так, как учат римской речи? Ведь было же иначе в старину: когда в царствование Иосии, сына Хаммона из рода Давидова, первосвященник Халкья нашел в Божием доме старинную книгу, слова из которой вызывали ужас и у него, и у писца Шафана, и у самого царя Иосии, который услышал их и разорвал на себе одежды, – так вот чтобы понять написанное, они отдали книгу женщине, пророчице Хулде, и только она смогла прочесть ее и перетолковать, и предсказать гибель Иерушалайму за то, что жители его отвергли Бога единого и кадят другим богам. То есть женщина знала тайные священные языки, которые были запретны для мужчин – почему же иначе сейчас?
Тетя Элишбет посмотрела задумчиво.
– Тебе приходят в голову опасные мысли, девочка моя, – сказала она. – Не стоит делиться ими ни с кем больше. Хулда – знаешь, кто была эта пророчица? Бывшая жрица храма Аштарет, что во времена Хаммона стоял у подножия Масличной горы. Иосия разрушил этот храм, чем заслужил любовь почитавших Яхве. Жриц же – кого прогнали, кого продали замуж. Хулде повезло, муж ее, Шломо, хоть был хром и изъеден оспой, оказался человеком добрым и незлобивым, а заодно и в меру способностей ученым; дед его был хранителем одежд великого царя Давида; муж этот позволял Хулде читать и египетские, и ассирийские, и персидские книги, а также книги народов, о которых иссякла память… И еще, девочка моя: никто ведь не знает на самом деле, что было написано в той книге, которую не мог понять ни один мудрец, и все лишь впадали в ужас при чтении ее. Хулда сказала лишь то, что от нее хотели услышать: Иерушалайм-де падет в прах из-за воскурений ложным богам… А что там было написано, я не знаю, и не знает никто.
– Ты думаешь, именно поэтому женщинам так неохотно позволяют учиться ремеслу чтения? Что многие из тех, древних, знали недоступное мужчинам?
– Старая память – самая страшная память, девочка. Никто уже не вспомнит, из чего взялся запрет, но сам запрет от этого становится только крепче. Мощь и беспрекословность заслоняют собой бессмысленность. Страшно лишь то, чего ты не видишь и не можешь понять.
Дождь и ветер в ответ на эти слова усилились, и вдруг словно ветка часто-часто заколотила в ставни из сосновых досок. На ставнях вырезаны были знаки, запрещающие злобному ангелу Паху, князю собак, и ночным демонам окрестных холмов заглядывать в окна и тревожить людей, – но женщины вздрогнули и разом посмотрели в ту сторону. И тут же погасли два светильника из трех.
Тетя Элишбет тронула колоколец, и появился хромой сторож Мафнай с копьем в руке.
– Сходи посмотри, кто там под окном, – сказала тетя.
Мафнай молча кивнул, исчез и через несколько долей вернулся.
– Госпожа. Там чужестранец, но он назвал твое имя.
– А свое?
– Его зовут Оронт.
– Оронт? – воскликнула тетя Элишбет. – Оронт? Зови же его и дай ему теплое платье переодеться!
Вскоре вошел, кутаясь в пушистый синий шерстяной плащ, мужчина невысокий, но статный, с блестящими глазами цвета старого янтаря. Гладкие щеки и подбородок выдавали в нем перса.
– Госпожа! – он поклонился. – Госпожа! – повернулся к Мирьям и поклонился еще ниже.
– Что-то стряслось, Оронт? – спросила тетя Элишбет. – Мой муж знает, что ты здесь?
– Он позволил и приказал мне приехать, госпожа. И да – стряслось.
– Я пойду в свои комнаты, – сказала Мирьям.
– Хорошо, – сказала тетя. – Я тебя позову, если будет нужно.
– Не уходи, госпожа Мирьям, – сказал ночной гость. – Тебе тоже доверена эта тайна.
– Какая? – спросила мама. – И кем?
– Мной, – сказал Оронт.
Придется специально рассказать об Оронте, иначе будет непонятно.
Понтий Пилат, римский префект Иудеи, приказал задушить его в тюрьме почти в те же дни, когда по приказу Ирода Антипы был убит Иоханан Очищающий; а появился Оронт при дворе Ирода Великого за два года до того, как царь взял в жены мать Антипы, Мальфису. Молодой перс пришел наниматься помощником дворцового садовника, но очень скоро стал главным садовником царя и его любимцем. Все росло и цвело в его руках, подчинялось воле и желаниям, по слову Оронта распускались цветы и начинали петь птицы, и даже бесплодные деревья начинали плодоносить. Но не только эти умения увлекли Ирода, а еще и запретные искусства волшебства и предсказания будущего, которыми новый садовник владел в совершенстве; великий же царь пока еще тайно, но благоволил гадальщикам и астрологам и часто поступал согласно их советам.
Но в конце жизни Ирод, на свое несчастье, отвернулся от Оронта…
Я помню его. Мне было три года, но я его очень хорошо запомнила. Я сидела у отца на коленях и смотрела на незнакомца с темным узким лицом и странными глазами, таких я не видела больше ни у кого, а потом я сползла под стол и споткнулась о тяжелый кожаный мешок. Я споткнулась, мешок упал набок и раскрылся, и из него покатились серебряные и латунные монеты. Их было много.
Оронт приезжал едва ли не каждый год, и каждый раз после его приезда мы собирали свой легкий скарб и перебирались в другой город, и наконец – мне исполнилось восемь лет – оказались в Александрии, шумной, прекрасной и величественной, а оттуда по морю отправились в Иоппию, а из Иоппии – в Еммаус. Это было возвращение домой.
Жестокий правитель Архелай накануне истощил терпение императора Августа и лишился почестей и государства. Нам ничто не угрожало…
Так казалось не только родителям, но и Оронту. Даже прорицатели ошибаются, когда речь идет о властителях.
Через несколько лет по совету Оронта мы уже большой семьей – на свет появились Иосиф и Яаков – переехали в Галилею и записались галилеянами. Там, в нашем доме в Кпар-Нахуме, я и видела Оронта последний раз. Иешуа ушел тогда с ним – чтобы вернуться только через семь лет…
Оронта казнили как парфянского шпиона. Судьи придумали это, чтобы извратить его роль в событиях, раскручивающихся вокруг Иоханана и Иешуа, и тем самым извратить сами события. Но я уверена, что камень, брошенный в темноте через плечо наугад, таки да, разбил драгоценный светильник. Как ни крути, а Оронт действительно был парфянским шпионом. Но не тем шпионом, который разузнает о числе колесниц и лошадей в войске и пересылает тайные записки своим командирам, а тем, который медленно и постепенно меняет склонности и предпочтения царей и первосвященников, рассыпает и собирает царства, начинает и заканчивает войны…
Я почти знаю это. Отец говорил голосом, пустым от боли, а я вытирала пот с его лба, щек и шеи и думала: как же так, ведь ты такой умный и такой хороший, а он даже ничего не скрывал и не прятал, и вы столько раз встречались и беседовали обо всем на свете, и ты так ничего и не заподозрил? Отец верил, что Оронт – тайный и доверенный слуга великого царя, и все. А я уже тогда знала, видела ясно, что – нет, не только.
Потом были тому и другие подтверждения.
…Вот этот человек и постучался холодным дождливым зимним вечером в ставень окна.