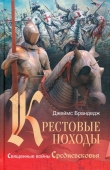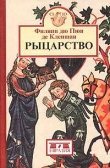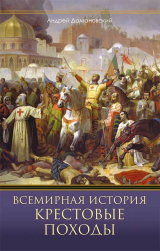
Текст книги "Всемирная история. Крестовые походы"
Автор книги: Андрей Домановский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Пожелания папы вкупе с повышенным интересом к его французской поездке сыграли свою роль, и проходивший в Клермоне собор, продлившийся с 18 по 27 ноября, действительно стал весьма представительным и самым крупным за все время понтификата Урбана II. В его работе, согласно свидетельству некоторых источников, приняли участие 14 архиепископов, 225 (по другим сведениям 250 и даже 300) епископов и более 400 аббатов. Даже минимально возможное число высокопоставленных клириков, точно засвидетельствованное официальными документами собора, говорит о его масштабности. Так, один из принятых в Клермоне документов подписали 12 архиепископов, 80 епископов и 90 аббатов. Ширившиеся слухи о неких судьбоносных решениях, которые должны быть приняты на соборе, привели в Клермон и многочисленных мирян – тысячи представителей знати и рыцарей, горожан и даже крестьян прибыли в город на время собора. Поскольку не было никакой возможности разместить в самом Клермоне столь значительное количество прибывших, они заняли прилегающую Клермонскую равнину, установив на ней сотни разноцветных шатров.
Главным на соборе стало обсуждение внутрицерковных вопросов, утверждение Божьего перемирия, отлучение от церкви французского короля Филиппа I за то, что он похитил жену графа Анжуйского Фулька IV. Лишь в последний день, 27 ноября 1095 г., после завершения заседаний собора папа Урбан II выступил на городской площади при громадном скоплении народа – клириков и мирян. Официальный текст речи папы, несомненно, предусмотрительно подготовленный заранее, не сохранился, и хронисты по-разному передают слова понтифика. Так, Фульхерий Шартрский вкладывает в уста Урбана II такие выражения: «О сыны Божьи! Поелику ми обещали Господу установить у себя мир прочнее обычного и еще усерднее блюсти права Церкви, есть и другое дело, и Божье, и ваше, превыше иных… Необходимо, чтобы вы как можно скорее поспешили на выручку ваших братьев, обитающих на Востоке, о чем те не раз просили вас». Ссылаясь на слова самого Иисуса Христа, папа призывал весь христианский народ Запада защитить страдающих собратьев по вере и освободить христианские святыни Востока, захваченные язычниками.
Необходимость выступить на защиту восточных христиан объяснялась тем, что их притесняют и унижают мусульмане, которые к тому же оскверняют христианские храмы и иные святыни. Историк Ордерик Виталий в «Церковной истории в XIII книгах, разделенной на три части», передает следующие слова из речи папы: «Турки, персы, арабы и агаряне овладели Антиохией, Никеей, даже Иерусалимом, прославленным Гробницей Христа, и многими другими городами христиан. Они вторглись с огромными силами даже в Греческую империю; обеспечив за собой Палестину и Сирию, подчиненные их оружию, они разрушали церкви и закалывали христиан, как агнцев. В храмах, где прежде христиане справляли божественную службу, язычники поместили свой скот, учредили идолопоклонство и постыдно изгнали христианскую религию из зданий, посвященных Богу; тиранство язычников овладело имуществом, предназначенным на священное служение; а то, что богатые пожертвовали в пользу бедных, эти жестокие властители обратили недостойным образом в свою пользу. Они увели в далекий плен, в свою варварскую страну, большое число верных, которых запрягают для полевых работ: ставят их в плуг, как быков, чтобы обрабатывать их тяжкими трудами землю, и бесчеловечно обременяют работами, которые отправляются животными и приличествуют более скотам, нежели людям. При таких беспрерывных трудах, среди стольких мук наши братья получают жестокие удары плетью, их погоняют рожном и подвергают всякого рода мукам. В одной Африке разрушено девяносто шесть епископств, как то рассказывается приходившими из тех стран».
Хронист Роберт Реймсский (Монах) свидетельствует, что папа не скупился на описание жестокостей, творимых мусульманами на Востоке: «…народ Персидского царства, народ проклятый, чужеземный, далекий от Бога, отродье, сердце и ум которого не верит в Господа, напал на земли тех христиан, опустошил их мечом, грабежом и огнем, а жителей отвел к себе в плен или умертвил поносной смертью, церкви же Божии или срыл до основания, или обратил на свое богослужение. Они ниспровергали алтари, осквернив их своей нечистотой, силой обрезали христиан и мерзость обрезания раскидали по алтарям или побросали в сосуды крещения. Кого хотели позорно умертвить, прокалывали в середине насквозь, урезывали, привязывали к рукам палку и, водя так, бичевали, пока несчастные, выпустив из себя внутренности, не падали на землю. Других же, привязав к дереву, умерщвляли стрелами; иных раздевали и, наклонив шею, поражали мечом, чтобы испытать, можно ли убить с одного удара. Что сказать о невыразимом бесчестии, которому подвергались женщины? Но об этом хуже говорить, нежели молчать». Эти описания заставляют вспомнить слова письма, будто бы написанного Алексеем I Комниным графу Фландрии, что подтверждает расхожесть на Западе представлений о зверствах, чинимых мусульманами над восточными христианами. Неважно, что эти обвинения в основном не соответствовали действительности, что сторонникам ислама приписывали то, чего они не делали, так как вполне толерантно относились к «людям Писания» – христианам. Главным было то, что этим страшилками безоговорочно верили, потому что хотели в это верить. Обесчеловечивание мусульман в проповеди папы римского стало мощным аргументом в пользу похода против нелюдей, от описанных бесчинств которых жестоко страдали собратья по вере.
Обоснование необходимости похода на Восток помощью Византийской империи, спасением местных единоверцев и христианских святынь дополнялось обещанием искупления, гарантированного каждому, кто отправится в священную экспедицию. Всем, откликнувшимся на этот страстный призыв, Урбан II сулил отпущение грехов и попадание в Рай. Идея отпущения грехов и обретения Царствия Небесного стала одной из ключевых, и затем папа не единожды возвращался к ней в своих многочисленных посланиях после Клермонского собора. «Если кто-то умрет во время экспедиции во имя любви к Богу и за своих братьев, – писал Урбан II в послании к испанским графам, – то пусть не сомневается в том, что, конечно, получит отпущение от всех грехов и благодаря милосердию Господа нашего обретет вечную жизнь». В письме к своим сторонникам в Болонье папа утверждал: «Вам также следует знать, что если кто-нибудь из вас примет участие в походе не ради жажды земных благ, а ради спасения ваших душ и освобождения Церкви, то будет освобожден от наказания за грехи, поскольку будет считаться, что он исповедал их целиком и полностью».
Немаловажными темами проповеди были и сугубо земные, можно даже сказать приземленные рассуждения об обретении участниками похода в Святой земле, сочащейся, согласно Святому Писанию, «медом и млеком», богатства и процветания. Папа римский прямо раскрывал экономические мотивы будущего предприятия, которое должно было прекратить феодальные распри на Западе: «Кто здесь горестны и бедны, там будут радостны и богаты», – обещал, по словам Фульхерия Шартрского, Урбан II. Это обещание должно было найти живой отклик прежде всего среди небогатого, мелкопоместного, а то и вовсе безземельного рыцарства, на массовое участие которого в походе и рассчитывал папа. Не менее действенным оказалось оно и для крестьян, страдавших от гнета сеньоров и из-за нескольких подряд неурожайных лет. Не оставались безучастными к нему и крупные владетельные сеньоры, желавшие приумножить свои богатства. Так религиозный экстаз, вследствие которого «глаза одних были полны слез, другие дрожали», умело дополнялся земными мотивами, вызывая всеобщее воодушевление.

Папа римский Урбан II на Клермонском соборе 1095 г. (миниатюра, XV в.)
«Бог так хочет!» (на сторофранцузском – «Deus lo vult!») – такими словами, как свидетельствует Роберт Реймсский, собравшаяся на площади толпа сопровождала каждый из страстных призывов папы. Наиболее рьяные тут же нашивали на одежду, на правом плече, красный матерчатый крест в знак того, что отныне они отмечены для участия в паломничестве с целью освобождении Святой земли. Позднее, с конца XII в., их стали называть cruce signati – обозначенными крестом, носящими знак креста, то есть крестоносцами. По словам хрониста Роберта Реймсского, к ношению этого символа призывал в своей речи сам Урбан II: «Кто даст обет Богу и принесет себя Ему в живую и святую жертву, должен носить на челе, на груди или между плеч Крест Господень. Всем этим они исполнят заповедь Господню, как она предписана в Евангелии: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною“[6]6
Евангелие от Матфея, 16:24.
[Закрыть]». Первым, преклонив колени перед папой и попросив его благословения на поход к Гробу Господню, обет паломничества (votum peregrinum) принял епископ Ле-Пюи Адемар Монтейльский – по словам хрониста, этот «человек высочайшего благородства, улыбаясь, подошел (к папе Урбану II), преклонил колено и попросил его разрешения и благословения на поездку». Адемар должен был выступить легатом – специальным полномочным представителем папы при крестоносном войске, о чем было объявлено уже на следующий день. Следует обратить внимание на то, что легат должен был стать духовным предводителем рыцарского войска и осуществлять общеполитическое руководство, тогда как вопрос о военном главнокомандующем специально не оговаривался. По всей видимости, предполагалось, что им должен был стать граф Тулузский Раймунд де Сен-Жиль, вставший во главе рыцарских отрядов. Показательно, что к походу не привлекались европейские монархи. Отчасти это было следствием конфликтов престола Святого Петра с германским императором и французским королем. Но в гораздо большей степени ставка на рыцарское ополчение без участия глав государств была развитием идеи папы Григория VII о «воинстве Святого Петра» (militia s. Petri), служащего непосредственно католической церкви или даже напрямую Иисусу Христу. Фульхерий Шартрский передает такие слова Урбана II: «Теперь должны стать воинами Христа (Christi milites), кто прежде был грабителем, теперь законно биться с варварами, кто прежде третировал братьев и родню, теперь снискать вечное воздаяние, кто прежде наемничал за мелкие гроши, теперь сражаться за удвоение чести, кто прежде силился во вред своего тела и души».
Общие, несколько абстрактные обещания обретения в Святой земле богатства и спасения для вечной жизни дополнялись и вполне конкретными, ощутимыми и весомыми гарантиями участникам похода со стороны католической церкви. Помимо прощения грехов и места в Раю, церковь обещала «воинам Христа» на время отсутствия на родине охрану их семей и имущества. Крестоносцы освобождались также от судебного преследования, им предоставляли отсрочку обязательных выплат по долгам, а то и вовсе их списывали. Кредиторам, осмелившимся нарушить эти предписания церкви, грозило церковное отлучение. На время похода объявлялся Божий мир, запрещавший феодальные междоусобицы в Европе: «Пусть же прекратиться меж вами ненависть, пусть смолкнет вражда, утихнут войны и уснут всяческие распри и раздоры!» – призывал наместник престола Святого Петра. Следовательно, появлялась еще и надежда на то, что оставленные без присмотра владения не будут прибраны к рукам алчными воинственными соседями, с которым приходилось издавна из-за них враждовать. Пропаганда похода, таким образом, была и эффективным способом направить воинственность рыцарей на Восток, установив мир на Западе. Папа призывал прекратить все междоусобные распри и установить в Европе прочный Божий мир. Хронисты с разными смысловыми оттенками пересказывают это важное обращение понтифика. Фульхерий Шартрский так передает слова Урбана II: «Так пусть же они отправятся на бой с неверными – бой, который стоит начать и который достоин завершиться победой, – те, кто до сих пор предавался частным и беззаконным войнам на великую беду для верующих! Пусть же станут они отныне рыцарями Христа, те, кто были всего лишь разбойниками! Пусть же они теперь с полным правом ведут борьбу с варварами, те, кто сражался против своих братьев и родичей!» Епископ Бальдерик Дольский отмечал, что целью провозглашенного папой похода на Восток было, помимо прочего, стремление «…удержать смертоносные руки от крови своих братьев и ради единоверцев противостоять чужим народам… Отвратительно протягивать грабительские руки к христианам; много лучше поднять меч против сарацин; и несравненно лучше явить любовь, отдав жизнь за своего брата (на Востоке)». Роберт Монах вкладывал в уста Урбана II призыв прекратить междоусобицы и совместно оправиться освобождать Святой Гроб Господень, а согласно Гвиберту Ножанскому, папа противопоставлял бесчестные войны между христианами справедливой войне с неверными, которая одна способна даровать Царствие Небесное: «До сих пор вы вели незаконные войны, убивая друг друга… Теперь мы предлагаем вам борьбу, ведущую к славе мученичества».
Датой сбора и выступления крестоносного воинства в поход назначили 15 августа 1096 г., день Вознесения Девы Марии, после сбора летнего урожая. Папа в своей речи настаивал, чтобы в поход отправлялись только опытные воины, отговаривая от участия женщин, стариков и инвалидов, детей и слишком молодых воинов, монахов и клириков. Хронист Роберт Реймсский так передает его слова: «Мы не повелеваем и не увещеваем, чтобы отправлялись в этот поход старцы или слабые люди, не владеющие оружием, и пусть никоим образом женщины не пускаются в путь без своих мужей, либо братьев, либо законных свидетелей. Они ведь являются больше помехой, чем подкреплением, и представляют скорее бремя, нежели приносят пользу. Пусть богатые помогут беднякам и на свои средства поведут с собою пригодных к войне. Священникам и клирикам любого ранга не следует идти без дозволения своих епископов, ибо, если отправятся без такого разрешения, поход будет для них бесполезен. Да и мирянам негоже пускаться в паломничество иначе, как с благословения священника».
Итак, 27 ноября 1095 г. сообществу христиан Запада, прежде всего воинам-рыцарям, был брошен призыв, которому суждено было на многие десятилетия определить историю Западной Европы и Ближнего Востока. Искусно объединив разнообразные мотивы и попав на подготовленную почву, он вызвал мощный отклик, породив феномен крестовых походов западных рыцарей на Восток. Следует отметить, что ни сам Урбан II, ни его современники не использовали понятий «крестовый поход» или «крестоносное движение». В средневековых источниках применяли термины iter («путешествие») или iter hierosolymitanum («путешествие в Иерусалим»), peregrinatio («паломничество»), expeditio («поход»), via sacra («священная дорога»), auxilium terre sancte («помощь Святой земле»), gesta («деяния») и другие. Одним из первых словосочетание «крестовый поход» употребил придворный историк французского короля Людовика XIV (1643–1715) иезуит Луи Мэмбур (1610–1686), автор исследования «История крестовых походов» (опубликовано в 1675 г.), после чего термин устойчиво закрепился в европейской исторической науке XVIII–XIX вв.
Глава 4. На Страшный Господень Суд! Крестовый поход бедноты (март – октябрь 1096 г.)
…как будто неслыханная глупость овладела этими безумствующими людьми, так как они, оставив надежное ради ненадежного, напрасно покидали место рождения, устремляясь… к земле обетованной, отказываясь от своего имущества и с вожделением взирая на чужое…
Эккехард Аурский. Об угнетении, освобождении и восстановлении Иерусалимской церкви
Пока государи Запада и рыцари, представлявшие, сколь трудной может быть экспедиция на Восток, готовились к походу, на призыв Урбана II откликнулась неимущая голытьба. Слова папы горожанам и крестьянам Северной и Средней Франции, Германии и Северной Италии донесли сотни христианских священников, проповедников, страстно уверовавших в идею похода на Восток и откликнувшихся на прямой призыв папы, ведь он сам, «говоря с присутствующими», призывал именем Христа передать слова его призыва отсутствовавшим. Уже на следующий день после знаменитой клермонской речи Урбан II встретился с епископами, призывая их вдохновенно проповедовать идею похода. Призыв подхватили и рядовые священники, многочисленные монахи, бродячие юродивые, призывавшие слушателей как можно скорее выступить в угодный Христу поход.
Наиболее известными среди таких добровольных пропагандистов были монах Робер д’Арбриссель и, в особенности, отшельник Петр Амьенский, прозванный за свой аскетизм Пустынником. Гвиберт Ножанский в хронике «История, называемая Деяния Бога через франков» сохранил яркое описание этого несомненно талантливого и любимого народом проповедника: «Происходя, если я не ошибаюсь, из города Амьена, он, как мы слышали, вел жизнь отшельника под монашеским одеянием… Он обходил города и села, повсюду ведя проповедь, и, как мы видели, народ окружал его такими толпами, его одаряли столь щедрыми дарами, так прославляли его святость, что я не припомню никого, кому бы когда-нибудь были оказываемы подобные почести. Петр был очень щедр к беднякам, раздавая многое из того, что дарили ему… Он носил на голом теле шерстяную рубаху, на голове – капюшон и поверх всего – грубое одеяние до пят; руки и ноги оставались обнаженными; хлеба он не употреблял или почти не ел, питался же рыбою и вином».
Проповеди падали на подготовленную почву. Искренняя, доходящая порой до фанатизма христианская вера, своеобразно преломленная в сознании живших в традиционном аграрном обществе необразованных крестьян, давно уже была основой их мировоззрения. Она определяла помыслы и направляла поступки, а главное, даровала надежду на избавление от земных страданий после смерти и, соответственно, рождения для жизни вечной в Царствии Небесном. В среде невежественных, но искренних в своей вере крестьян распространились многочисленные легенды о чудесных событиях, якобы предвещавших скорое начало войны с неверными. Их пространный перечень сохранился в сочинении аббата-хрониста Эккехарда Аурского «Об угнетении, освобождении и восстановлении Иерусалимской церкви». Небесные знаки – падения метеоритов, пятна на Солнце, лунные затмения, необычный цвет и движение облаков, иные удивительные природные явления – массовые отлеты птиц и бабочек, отметины странной формы на телах животных и людей – все шло в дело, все трактовалось в качестве предвестий великих свершений крестового похода. По словам хрониста, многие люди находили на своих телах и одеждах отпечатки изображений креста, появившиеся там непостижимым образом по воле Господней, что, по их мнению, несомненно свидетельствовало об их избранности для участия в войне Христовой против неверных. Были и те, кто специально выжигал изображения креста на лбу, выдавая потом получившееся клеймо за знак, оставленный небесным ангелом во время священного видения.
Петр Пустынник, неутомимо путешествуя зимой 1095–1096 гг. на ослике по французским городам и деревням, проповедовал идею обретения Царства Небесного через поход в Святую землю. Начав свой путь в Берри, он прошел всю Орлеанскую и Рейнскую области, Лотарингию и Шампань. Несомненно, он пересказывал благодарным слушателям многие из легенд о чудесных событиях, массово случавшихся во Франции в 1096 г., но главным его аргументом была грамота, по его словам, полученная им от самого Христа во время паломничества в Иерусалим. По свидетельству хронистов Альберта Аахенского и Вильгельма Тирского, якобы именно там Петр Амьенский имел беседу с патриархом Иерусалимским, который поведал ему о бедствиях христиан Востока, на что западный пилигрим посоветовал ему обратиться с посланием к франкам: народ Франции, добрые христиане, обязательно окажут помощь собратьям по вере. Во время молитвы в храме Гроба Господня Петра посетило видение, в котором Иисус призвал его следовать в Рим с призывом к папе помочь освободить священный город от неверных, поведав христианским народам Запада о страданиях христиан на Востоке. Исполнив повеление, Петр отбыл на снаряженном патриархом корабле на Запад и прибыл в Рим, где передал папе Урбану II послание и рассказал о многотрудной жизни Святой земли под гнетом мусульман. И уже после этого понтифик якобы проникся идеей организации крестового похода и созвал Клермонский собор.
Нехитрое повествование, несколько путанное и противоречивое в изложении двух хронистов, видимо, было таким и в изложении самого Петра, поскольку все или почти все в нем было выдумкой, за исключением, пожалуй, лишь предпринятого им паломничества в Иерусалим, во время которого он, скорее всего, так и не добрался до священного для христиан города. Однако повествование это, должно быть, производило поистине магическое действие, ведь согласно ему получалось, что отнюдь не римский папа был инициатором похода, а сам Христос, действовавший непосредственно через Петра Пустынника. Да и обращался он не к знати и рыцарям, а ко всем христианам, в том числе – и даже прежде всего – именно к беднякам, которым Иисус обещал даровать избавление от страданий и Царство Небесное. И пусть рассказ странствующего отшельника мог разниться в деталях от проповеди к проповеди, эта главная, определяющая общая суть оставалась, и потому ему безоговорочно верили.

Петр Пустынник указывает крестоносцам путь в Иерусалим (миниатюра XIII в.)
Анна Комнина, дочь византийского василевса Алексея I, оставила по этому поводу следующее свидетельство: «И выдумка удалась ему. Петр как будто покорил все души божественным гласом, и кельты начали стекаться отовсюду, кто откуда, с оружием, конями и прочим военным снаряжением. Общий порыв увлек их, и они заполнили все дороги. Вместе с кельтскими воинами шла безоружная толпа женщин и детей, покинувших свои края; их было больше, чем песка на берегу и звезд в небе, и на плечах у них были красные кресты».
Усилению религиозности крестьян и их веры в обретение спасения в Святой земле немало способствовала суровая жизнь в непрестанном труде, зачастую впроголодь. Банальное недоедание, а то и вовсе жестокий голод были неотъемлемыми спутниками жизни средневекового крестьянина. На рубеже тысячелетий, с 970 по 1040 гг., по меньшей мере 48 лет были отмечены неурожаями и голодовками, нередко побуждавшими крестьян срываться с насиженных, обжитых мест в поисках лучшей жизни. Голод и эпидемии поразили Западную Европу и непосредственно накануне проповеди Урбана II, когда, начиная с 1089 г., по крестьянам нещадно ударила очередная непрерывная полоса засушливых неурожайных годов, продлившаяся почти до 1095 г.
Зачастую крестьяне собирали свои скудные пожитки без надежды на возвращение домой, рассчитывая то ли осесть в освобожденной Святой земле, где, по их мнению, должно было наступить царство справедливости и изобилия, то ли и вовсе попасть прямиком на Небеса. Чтобы собрать средства, необходимые для похода, они с легкостью продавали за бесценок все, что не могли увезти с собой, поскольку не рассчитывали вернуться назад. Описывая царившие среди них настроения, аббат Гвиберт Ножанский отмечал, что «всё дорого покупали и дешево продавали, а именно: дорого покупали то, что нужно было для пользования в пути, а дешево продавали то, чем следовало покрыть издержки. В прежнее время ни темницы, ни пытки не могли бы исторгнуть у них того, что теперь сполна отдавалось за безделицу».
Вооружались крестьяне чем придется, преимущественно имевшимися в их хозяйстве орудиями сельскохозяйственного труда – топорами, косами, вилами, цепами и дубинами. Взяв с собой жен и детей, они грузили свой скарб на запряженные, за неимением лошадей, подкованными быками телеги и трогались в путь. В отличие от знати и рыцарей, которые «долго и мешковато подготовлялись к походу», крестьяне, не представлявшие трудностей похода, оказались легки на подъем – скудость имущества позволяла собраться быстро, а привычка довольствоваться малым и твердая вера в легкий путь под покровительством Господа порождала уверенность в том, что день грядущий в очередном новом месте по дороге в Иерусалим дарует и кров, и пищу, потому заботиться о них заранее не следует. Об охватившем всех безрассудстве, не оставлявшем места здравомыслию, ярко свидетельствует Гвиберт Ножанский: «Многие, не имевшие еще сегодня никакого желания пускаться в путь, громко смеявшиеся над теми, кто продавал свои вещи подешевле, и утверждавшие, что им предстоит жалкий путь и еще более жалкое возвращение, на другой день, по внезапному побуждению, отдав за ничтожные деньги все свое достояние, отправлялись вместе с теми, кого только что высмеивали».
Несомненно, помимо религиозного экстаза, во многих случаях причиной такой резкой перемены отношения к походу была обычная человеческая жадность, стремление не прогадать и не остаться не у дел тогда, когда другие вдруг разом сказочно разбогатеют и найдут для себя достойное занятие. В итоге получилось, что папа призывал к походу прежде всего владетельных сеньоров и рыцарей, преимущественно французских, а добровольные проповедники идеи крестового похода привели в движение несметные массы простолюдинов. План Урбана II предполагал выступление войска, состоящего из профессионалов – рыцарей, а поднялся весь простой народ. Масштаб движения был столь значителен, что церковь попыталась его ограничить, призывая отказаться от участия в походе детей, женщин, стариков и неопытных воинов и советуя мирянам перед принятием крестоносного обета получить благословение духовных наставников. Впрочем, эти призывы явно были не в состоянии пригасить всенародный порыв, тем более что отказаться от единожды принятого крестоносного обета было невозможно – за это грозило отлучение от церкви.
В итоге в марте 1096 г., как только стали проходимыми просохшие после сошедшего зимнего снега дороги, крестьянские массы пришли в движение. Первыми выступили в поход жители Франции, Фландрии и Лотарингии. По пути, вдохновленные их примером и страстными проповедями предводителей, к ним присоединились отряды из германских земель. Возглавили двинувшихся на Восток крестьян уже упомянутый проповедник Петр Пустынник, священник Готшалк и Готье Голяк (Неимущий), прозванный так из-за своей бедности рыцарь из Восточной Франции, а также ряд других предводителей преимущественно из небогатых рыцарей и проповедников. Позже вдогонку первым отрядам двинулись меньшие числом, но суммарно весьма многочисленные ватаги простонародья из Англии, Скандинавии, Испании, Италии.
Число отправившихся в поход было столь велико, что хронисты сравнивали их с бесчисленным песком морским, тучами всепожирающей саранчи или неисчислимыми звездами на небе. Хронист Вильгельм Мальмсбюрийский писал, что всего в походе приняли участие 600 тысяч человек, что является явным и существенным преувеличением. Судя по всему, их было несколько десятков тысяч, а суммарно, возможно, в движении крестьянского воинства на разных его этапах приняли участие существенно менее ста тысяч человек – мужчин и женщин, детей и стариков. Однако для Средневековья с его военными отрядами феодалов, насчитывавшими пару сотен воинов, и городами с населением в 2–3 тысячи человек это было поистине колоссальное полчище, настоящая орда. Оно не выглядело столь многочисленным вследствие того, что крестьяне шли не единим организованным войском, а проходили в разное время разрозненными ватагами по множеству параллельных дорог. Наиболее многочисленными, насчитывавшими по 14–15 тысяч крестьян, были два отряда, во главе которых стояли, соответственно, Готье Голяк и Петр Пустынник; группы численностью около 5–6 тысяч вели рыцарь Фульхерий Орлеанский и священник Готшалк. Имена десятков предводителей групп, численность которых едва переваливала за тысячу человек, история не сохранила, но они, несомненно, были и двигались вслед за основными отрядами, параллельно с ними или опережая их. Были и разбойничьи шайки по нескольку десятков человек, не упускавшие возможности поживиться под прикрытием масштабного благочестивого похода добром как паломников, так и жителей местностей, через которые они проходили. Хронисты согласно упоминают об участии в походе не только благочестивых набожных людей, но и «прелюбодеев, убийц, воров, клятвопреступников, грабителей».
Путь крестьян, собиравшихся по мере выдвижения в стихийные, плохо организованные скопища, которые сложно назвать отрядами, пролегал вдоль Рейна и Дуная по направлению к Константинополю. Географические представления их о направлении движения были крайне поверхностны, и они шли удобными путями на Восток, ориентируясь на восходящее солнце и расспрашивая о дороге местных жителей. По словам Гвиберта Ножанского, когда сидевшие в повозках дети «лицезрели попадавшийся им на пути какой-нибудь замок или город, они вопрошали, не Иерусалим ли это, к которому они стремятся…»
Отсутствие продуманной логистики похода дало о себе знать уже в пределах Западной Европы. Не имея средств для надлежащего размещения и, главное, обеспечения продовольствием, фанатично настроенные «паломники» рассчитывали бесплатно получить все необходимое от жителей земель, через которые пролегал их путь на Восток. Основанием для таких настроений была твердая уверенность в том, что долг всех христиан – принять посильное участие в отвоевании Святой земли. Уж если вы сами не готовы пролить кровь в войне с неверными, полагали выступившие в поход, то должны всячески помогать тем, кто взялся исполнить богоугодное дело. Между тем, более практичные христиане, не поддавшиеся фанатичному порыву, отнюдь не считали себя обязанными принимать и кормить многочисленных экзальтированных собратьев по вере только на основании того, что те бросили все свое имущество и двинулись на Восток.

Петр Пустынник ведет крестоносцев в Иерусалим (миниатюра XIV в.)
Сложившаяся ситуация привела к многочисленным погромам, которыми сопровождался путь крестьянских верениц на Восток. Начались они уже в Северной Франции и продолжились в Германии. Особенно пострадали еврейские общины, ведь евреев на волне религиозной пропаганды обвиняли в казни Христа, а насилие над ними трактовали чуть ли не как обязательную часть крестового похода, считая, что если на Востоке нужно бороться против «исмаилитов», то в Европе не менее решительно нужно истребить евреев. Раз нужно воевать с мусульманами, захватившими Святую землю Христову, то уж тем более необходимо бороться с теми, кто когда-то принял участие в казни самого Христа.
Так на пути к Иерусалиму и захватившим его мусульманам «паломники» подпитывали свой боевой дух, расправляясь с врагами поменьше, победа над которыми давалась не слишком тяжело и к тому же позволяла если не разбогатеть, то хотя бы обеспечить себя средствами для пропитания и дальнейшего движения на Восток. Волна еврейских погромов прокатилась по городам французских, немецких и чешских земель – Руану, Реймсу, Вердену, Шпайеру, Кёльну, Вормсу, Майнцу, Триру, Мецу, Регенсбургу, Праге и многим другим. Альберт Аахенский свидетельствует: «То ли в силу Божьей кары, то ли из-за помешательств они поднялись в духе жестокости против еврейского населения, набрасывались на эти города и убивали их жителей без пощады… утверждая, что это начало их подвига и их долг – бороться с врагами христианской веры». Доходило до того, что евреи предпочитали покончить жизнь самоубийством, а матери перед лицом неминуемой гибели собственноручно убивали своих детей, лишь бы те не попали в руки жестоких мучителей.