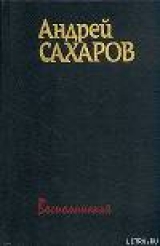
Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Андрей Сахаров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 62 страниц)
(Это было единственное обвинение против Вайля1. Адвокату Вайля Абушахмину впоследствии, к моменту кассационного суда, удалось раскопать почтовые документы, с несомненностью доказывающие, что ничего подобного не было. В регистрационной книге адвокат нашел запись об отсылке кофточки, но не обнаружил никаких следов того, что З. посылала что-либо в Новосибирск! В других делах КГБ действовало осторожнее, но тогда – в 1970 году – еще мало было опыта в подтасовках, ведь в сталинское время доказательств вообще не требовалось. По закону кассационный суд должен был отменить приговор ввиду «выявления новых обстоятельств» и назначить новое судебное разбирательство. Но кассационный суд вместо этого полностью игнорировал изыскания адвоката – это одно из наиболее наглядных доказательств беззаконности всего этого дела.)
Перед приговором ко мне в коридоре подошел прокурор. Он спросил:
– Как вам нравится процесс? По-моему, суд очень тщательно и объективно рассмотрел все обстоятельства дела.
Мне кажется, он искренне ожидал, что я выскажу восхищение судом и его собственной, прокурорской речью. Даже в глазах прокурора, знавшего, конечно, что я приехал как единомышленник подсудимых, я все еще оставался в какой-то степени «своим», а похвала московского академика была бы лестной. Однако я сказал:
– По-моему, весь суд – абсолютное беззаконие.
Он помрачнел и отошел в сторону.
Приговор – 5 лет ссылки каждому. Борю Вайля тут же в зале суда взяли под стражу – это было страшно. Но по советским меркам приговор был удивительно мягким – быть может, тут еще непривычное мое присутствие оказалось существенным. Перед приговором подсудимые произнесли свои «последние слова». Речь Пименова растянулась на три часа, была остроумной и глубоко аргументированной. Вайль сказал одну фразу:
«Граждане судьи, приговор определяет судьбу подсудимого, накладывает след на всю его жизнь, но он накладывает отпечаток и на души тех, кто его выносит, – будьте справедливы.»
Я уже собрался уходить из зала суда, когда ко мне подошла страшно взволнованная жена Пименова Виля. Она сунула мне в руки какую-то зеленую папку и прошептала:
– Спрячьте и пронесите вниз. Тут документы, которые освободят Револьта (это имя Пименова).
Потом выяснилось, что Пименов сумел передать ей почти на глазах у конвоя папку с обвинительным заключением, его выписками из следственного дела и «последним словом». При нормальном порядке вещей во всем этом не было бы ничего секретного или чрезвычайного. Но в наших условиях пропажа таких документов – действительно чрезвычайное событие, и действия Револьта и Вили, пожалуй, были не оправданными ситуацией и слишком вызывающими. В данном случае от больших неприятностей спасла меня моя еще сохранившаяся «неприкосновенность». Я сунул папку под куртку и прошел вниз мимо милиционеров, мимо группы наших, среди которых была Люся. Вместе со мной вышел молодой человек (доктор Апухтин), приставленный ко мне Валерием в качестве врача и телохранителя. Мы быстро доехали до вокзала и прошли в вагон электрички (почти пустой). Через несколько минут после того, как поезд тронулся, в наш вагон перешли из последнего Люся и ее, а вскоре и мой друг Сережа Ковалев. Они забрали у меня часть документов из папки и прошли дальше по ходу поезда. После я узнал, что сразу после моего ухода пропажа папки была обнаружена, всех находившихся в зале суда задержали, в том числе Вилю. За Люсей и Сережей, поехавшими на вокзал, устремилась погоня. Последний участок пути по перрону Люся и Сережа бежали бегом и успели вскочить в поезд за секунду до отхода, так что автоматические двери захлопнулись перед носом преследователей.
На другой день, чтобы замять скандал, было необходимо вернуть папку. Мне позвонил Валерий и сказал, что сейчас ко мне приедет дочь «известной вам особы, вы ее легко узнаете – очень похожи». Вскоре приехала дочь Люси Таня вместе с одним молодым человеком (опасались, что я побоюсь отдать ему папку как совсем мне незнакомому, а на Танином лице действительно запечатлелось, чья она дочь). Я отдал им папку, и к концу дня она была уже в Калуге.
* * *
За несколько недель до описанных событий Валерий неожиданно заехал ко мне (что с ним не часто бывало). Он принес составленную им «благодарность» в связи с освобождением из психбольниц по распоряжению свыше нескольких девушек и юношей, недавно помещенных туда по политическим мотивам (среди них была Ира Каплун, недавно погибшая в автомобильной катастрофе, и Вячеслав Бахмин, арестованный в 1981 году)1. Я подписал этот документ, хотя подумал, что власти могут счесть такую благодарность еще более обидной, чем протест. Затем он, сильно волнуясь, изложил на бумажке свои идеи относительно организации Комитета прав человека – как он писал, добровольной, независимой от властей ассоциации для изучения и обнародования положения с правами человека в СССР. О создании такой ассоциации он предполагал широко объявить – в частности, сообщить иностранным корреспондентам. Я отнесся к этому предложению с интересом, но одновременно с большими опасениями. Независимая ассоциация – это очень важно, это что-то совсем новое. На самом деле, не совсем. За год до того несколько людей организовали Инициативную группу по защите прав человека в СССР. Первым действием группы было обращение в ООН по вопросу нарушения прав человека в СССР. Затем группа делала открытые обращения (адресованные уже не в ООН, а к общественности) систематически. Я думаю, что именно образование Инициативной группы, вместе с началом издания «Хроники», явилось оформлением движения за права человека в СССР в том смысле, как оно известно сейчас во всем мире – в рамках закона, с помощью гласности, независимо от властей. Даже идея Комитета прав человека выдвигалась в какой-то форме Инициативной группой (ее членом А. С. Есениным-Вольпиным). Другими членами Инициативной группы были Г. Алтунян, В. Борисов, Т. Великанова, Н. Горбаневская, М. Джемилев, С. Ковалев, В. Красин, А. Лавут, А. Левитин (Краснов), Ю. Мальцев, Л. Плющ, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, П. Якир, А. Якобсон. Некоторые из них потом стали моими друзьями; многие сейчас в заключении.
Обо всем этом я не знал или знал настолько поверхностно, что забыл. Не это заставило меня отнестись к ценной инициативе Валерия с настороженностью. Во-первых, меня пугал предполагавшийся юридический уклон в работе Комитета – понимая важность такого подхода, наряду с другими, я не чувствовал, что это мое амплуа. Кроме того, и это главное, понимая, что гласность, обнародование выводов – самое решающее и неизбежное в деятельности такого рода, я опасался, что Комитет, в особенности благодаря своему броскому названию (что в его названии нет слова «защита», никто не заметит!), – привлечет слишком широкое к себе внимание, вызовет излишние «ложные» надежды у тысяч людей, ставших жертвой несправедливостей. Все это – письма, просьбы, жалобы – повалится на нас. Что мы скажем, ответим этим людям? Что мы не Комитет защиты, а Комитет изучения? Это будет почти издевательством!
Эти опасения я высказал Чалидзе в той первой беседе. К слову сказать, все они потом оправдались сторицей. Причем больше всего «шишек» упало на мою голову, писали в основном академику. В октябре наш разговор кончился ничем, но мысль запала мне в голову.
Сразу после моего приезда из Калуги меня вызвал к себе мой, тогда уже бывший, начальник Ю. Б. Харитон. Он передал мне просьбу председателя КГБ Андропова срочно позвонить ему. Я спросил:
– А почему, в таком случае, он сам мне не позвонит?
– Ну, у этих людей свои представления об авторитете и церемониалах.
Ю. Б. дал мне номер городского служебного телефона Андропова. Прежде чем позвонить ему, я зашел к Чалидзе, и тот сказал:
– К начальству не идут с пустыми руками. Если вы можете вернуться к моему предложению, Комитет прав человека будет хорошим фоном для разговора.
Валерий был, конечно, не прав (или слегка лукавил; Валерий написал недавно на полях рукописи, что сказанное им о пустых руках было явной шуткой – добавление 1987 г.). Я не шел к начальству, а меня попросил позвонить Андропов по каким-то своим «соображениям», и никакой «фон» мне был не нужен. Но я согласился тогда с Чалидзе. Комитет казался мне важным делом, и я решил пренебречь своими опасениями. Устав Комитета писал Валерий; эти игры меня не интересовали, я их с радостью предоставил Валерию, который занимался этим со вкусом.
Поначалу членов Комитета было трое – кроме нас двоих, еще друг Чалидзе Андрей Твердохлебов, молодой теоретик, незадолго перед этим ушедший из аспирантуры и работавший в Институте информации1. 4 ноября 1970 года мы подписали Устав – это дата организации Комитета.
В течение первых десяти дней ноября я неоднократно звонил Андропову по указанному мне Харитоном телефону. Дежурный неизменно отвечал: товарища Андропова сейчас нет (или – он занят), позвоните, пожалуйста, завтра. В конце концов мне сказали: больше не звоните, товарищ Андропов сам свяжется с вами (конечно, никто со мной не связался). Видимо, что-то изменилось в его планах относительно меня или с самого начала это была «игра».
Через неделю после подписания Устава мы объявили о создании Комитета настолько широко, насколько это было в наших силах. Торжественное объявление состоялось у Чалидзе 11 ноября. Я уже описывал экстравагантную обстановку его комнаты. В этот день там собралось много приглашенных Чалидзе инакомыслящих, многих я уже знал, но многих видел впервые. В числе последних – Петра Якира с женой. Якир в то время был одним из самых известных диссидентов. Сразу после прочтения нашего заявления оно было передано иностранным корреспондентам.
Эффект превзошел все ожидания. Целую неделю добрая половина передач «Голоса Америки», Би-би-си и «Немецкой волны» была посвящена Комитету. По существу, наибольшее значение имел именно самый факт создания и объявления независимой от властей группы, которая по возможности объективно изучает (пытается это делать) отдельные стороны вопроса о правах человека в СССР и публикует результаты своего исследования после коллективного обсуждения и утверждения.
Заседания Комитета проходили раз в неделю по четвергам, тоже у Чалидзе. Я потом расскажу о принятых Комитетом документах. Одновременно на мое имя начали поступать многочисленные письма, на которые мне нечего было ответить (как я и опасался), стали приходить посетители. Невозможность помочь всем этим людям, то, что я как бы обманывал их надежды, очень меня мучило, это стало моей бедой на протяжении многих лет. В одной из последних глав книги я рассказываю о некоторых из таких дел 1970–1979 годов. Я не очень разбирался в юридических аспектах рассматривавшихся на Комитете проблем (хотя, в отличие от Солженицына, не считаю их изучение бессмысленной тратой времени). Конечно, я не во всем был согласен с Чалидзе и Твердохлебовым, а они всегда занимали общую позицию, казавшуюся мне слишком умозрительной и недопустимо парадоксальной; это вызывало у меня сильное раздражение. Но, повторяю, мне тогда (как и сейчас) главными представлялись не детали, а общая направленность работы Комитета в защиту важнейших прав человека. Сами же заседания Комитета были некоей формой дружеского общения.
После Люся придумала для этих встреч шуточное название «ВЧК», что расшифровывалось не «Всероссийская чрезвычайная комиссия», а – «Вольпин (непременный и очень ценный участник), Чай, Кекс». Для меня, не избалованного дружбой, может, именно эта сторона была самой важной. Люся еще тогда это хорошо подметила.
Одно из организационных изобретений Валерия, однако, оказалось совсем неудачным, даже бестактным (не по отношению ко мне). Чалидзе ввел в Устав Комитета почетное звание члена-корреспондента – оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут все было плохо придумано, начиная от названия, заимствованного из Устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Еще хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын, – каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании (Галич по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой я), в результате они были поставлены в очень неловкое и ложное (а Галич – даже опасное) положение. Фактически получалось, что Комитет, еще ничего не сделав по существу, уже вовлекает для саморекламы в свою шумиху заслуженных людей. Рано нам было «раздавать» почетные звания. Вероятно, именно эта несолидная история (в которой и я, конечно по недомыслию, виноват) вызвала уже первоначально столь отрицательное отношение Солженицына к Чалидзе, во многом несправедливое.
В ноябре 1970 года состоялся, вслед за Пименовым и Вайлем, еще один примечательный суд – в Свердловске судили молодого историка Андрея Амальрика и инженера Льва Убожко. Амальрик был известен как автор острого и остроумного, хотя и спорного памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Автор считал, что деградация советского общества, вызванная косностью и догматизмом, центробежные силы национальных окраин и другие причины настолько ослабят советскую империю, что она окажется легкой добычей для многомиллионных армий Китая, спаянных воедино еще не потускневшей идеологией и национальным подъемом. Амальрик был не одинок в таких предсказаниях и опасениях. В другом аспекте та же проблема китайской экспансии волнует Солженицына. Я в «Памятной записке» тоже отдал некоторую дань этим опасениям, но уже в период написания «Послесловия» (лето 1972 года) стал отходить от них. Амальрик до своего ареста написал и некоторые другие интересные статьи: «Иностранные журналисты в Москве», «Нежелательное путешествие в Сибирь» – описание высылки его как «тунеядца». В СССР действует закон, позволяющий высылать в отдаленные места граждан, не выполнивших указания административных органов о трудоустройстве и ведущих «паразитический» образ жизни (т. е. живущих не на «трудовые доходы» – очень неопределенная формулировка). Этот закон, вообще представляющий собой юридического монстра, открывает огромные возможности для всякого рода злоупотреблений и беззаконий. Он часто используется против диссидентов, верующих, лиц свободных профессий, кустарей, просто для сведения личных, например квартирных, счетов. Дело ленинградского поэта Бродского, о котором я уже упоминал, и Амальрика – в числе первых ставших мне известными примеров. (Добавление 1988 г. Фактически, кажется, Бродский и Амальрик были высланы еще до принятия указа1.) В эти дни, предшествующие суду, я познакомился с близким другом покойного отца Андрея Амальрика, археологом Монгайтом. Он много рассказал мне об Андрее и его отце (фронтовые эпизоды из жизни отца, историю исключения Андрея из университета с исторического факультета – Амальрик в курсовой работе защищал «еретическую», с точки зрения советской историографии, «германистскую» версию создания русской государственности, и другие эпизоды).
Подельник Амальрика – инженер Лев Убожко – обвинялся в том, что показал квартирной хозяйке номер «Хроники» и хранил один экземпляр памфлета Амальрика. Убожко (житель Свердловска) был вовлечен в это дело явно ради того, чтобы иметь предлог провести суд над москвичом Амальриком подальше от иностранных корреспондентов. Я собирался поехать в Свердловск, но не осуществил этого намерения, опасаясь по неопытности в этих делах, что не найду место суда – которое, действительно, было перенесено на какую-то окраину, да и просто – не собрался вовремя. Убожко не было в зале суда – психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и суд направил его в специальную психиатрическую больницу. Об Амальрике я еще буду писать. Судьба Убожко – предельно трагическая. После трех лет ужасов спецпсихбольницы он был переведен в больницу общего типа (это обычно означает скорую выписку). Но он не дождался выписки, бежал, вновь задержан и вновь, уже бессрочно, помещен в специальную психиатрическую больницу1.
После Калуги я снова увидел Люсю на дне рождения Валерия Чалидзе. Там было очень тесно, большинству просто негде было сесть, но из уважения ко мне и моему академическому званию для меня место нашли, причем публика весело шутила: «Надо Сахарова посадить». Следующий раз я увидел Люсю в связи с «самолетным делом» – это была уже очень серьезная встреча.
* * *
Я уже несколько раз упоминал об этом деле, теперь расскажу о нем. 15 июня 1970 года в Ленинграде на аэродроме местного сообщения у трапа самолета и в лесу около маленького городка Приозерска были арестованы две группы людей, которые хотели захватить самолет, чтобы бежать из СССР в Израиль. Таким образом, это дело в своей основе являлось еще одним трагическим следствием отсутствия в СССР свободы выбора страны проживания, свободы эмиграции. Первоначальный план побега другой, более многочисленной группы, в которую входили среди прочих инженер Бутман и бывший пилот гражданской авиации Марк Дымшиц, заключался в закупке всех билетов на большой пассажирский самолет и его захвате; о плане стало известно в Израиле – МИД Израиля (через каких-то посредников, кажется туристов) прислал категорический запрет операции, компрометирующей идею легальной эмиграции. План был отменен, Бутман и большинство участников отказалось от него, но Дымшиц все же решил предпринять попытку осуществить побег, хотя и с другим, меньшим составом участников. По новому плану предполагалось закупить билеты на небольшой самолет местной авиалинии, вылетающий из Ленинграда, при посадке самолета в Приозерске связать летчиков и оставить их на летном поле. После этого к находящимся в самолете должны были присоединиться несколько участников, проведших ночь в лесу под Приозерском, и все вместе должны были лететь в Швецию и там сдаться властям.
Несомненно, весь этот план был авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны были понести уголовное наказание. Однако все же их планы были не столь тяжелым преступлением, как то, в котором арестованные были обвинены на суде. Опасность для летчиков была минимальной, а посторонних пассажиров, жизни которых могло бы угрожать похищение, вообще не было. Захват самолета предполагался на земле – таким образом, это не было бы воздушным пиратством. И уж, конечно, их действия не были «изменой Родине» (статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающая наказание вплоть до смертной казни; согласно закону, измена Родине подразумевает действия в ущерб территориальной неприкосновенности, государственной независимости или военной мощи страны).
В 1969–1970 годах имели место один или несколько (я не помню точно) случаев угона самолетов палестинцами из «Отряда имени Че Гевары», а через несколько недель после ареста Кузнецова и его товарищей два угона самолетов произошли в СССР. Один из них получил особенную известность. Два литовца – отец и сын Бразинскасы – угрожая экипажу и применив против него оружие, угнали пассажирский самолет в Турцию с целью уехать из СССР. При этом трагически погибла молодая бортпроводница Надя Курченко и были ранены другие члены экипажа. Безусловно, Бразинскасы совершили серьезное преступление. Сейчас СССР требует их выдачи. Однако большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита Бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника, и что в Турции Бразинскасы предстали перед судом, были осуждены и отбыли полный срок наказания (это, между прочим, один из примеров того, как плохо работают редакции западных радиостанций, вещающие на СССР для советских граждан – гибель Курченко очень широко используется советской пропагандой, западные же станции сообщают об этом так: угон самолета, во время которого погибла бортпроводница; советский слушатель, естественно, «понимает», что ее убили угонщики)1.
Все эти трагические события создали психологический фон, крайне неблагоприятный для «ленинградских самолетчиков»; лишь немногие понимали, что их дело все же иное.
Среди участников нового плана был бывший политзаключенный Эдуард Кузнецов, ранее отбывший 7 лет в лагере по «дутому» политическому обвинению; к плану Дымшица его привлекла жена Сильва Залмансон, уговорившая также к попытке побега двух своих братьев. Кузнецов же привлек к участию в побеге двух бывших товарищей по заключению (тоже бывших политзаключенных) – Юрия Федорова и Алика Мурженко. Первый их них – русский, второй – украинец, остальные десять участников предполагавшегося побега были евреи. Сам Кузнецов по документам был русский, но отец его – еврей. Впоследствии, уже перед кассационным судом, Люсе и Тельникову (солагерник Вайля и Пименова, который также был солагерником Кузнецова) удалось найти документ, подтверждающий, что мать Эдика, разойдясь с его отцом, сменила его и свою фамилию Герзон на первоначальную русскую Кузнецов.
Федоров и Мурженко видели в Кузнецове «старшего» и долго не размышляли. Так они променяли невыносимо трудную жизнь бывших политзаключенных на еще более трудную жизнь политзаключенных в настоящем времени. Вышло так, что Люся знала Эдуарда Кузнецова еще в период между его первым заключением и арестом 15 июня 1970 года – их познакомил Феликс Красавин, один из солагерников Эдика. Эдик часто бывал в ее доме. Однажды Кузнецов ночевал у них. Сын Люси Алеша, читая какую-то книгу о смертной казни, приставал с этим к Эдику, чем вызвал его реплику: «Отстань, не интересует меня проблема смертной казни». Бывал иногда у нее и Федоров. Сразу после ареста Кузнецова и его товарищей Люся вылетела в Ленинград, где застала обстановку полной растерянности среди знакомых Кузнецова; она одна поехала на аэродром и узнала, что Кузнецов и другие действительно были арестованы там у трапа самолета (этому предшествовала драка между московскими и ленинградскими гебистами – очевидно, на почве конкурентной борьбы за право главенствовать в операции ареста). Обстоятельства ареста и про драку ей рассказал приемщик багажа. В ближайшие дни Люся подала заявление, что она – тетя Кузнецова, и таким образом получила право «родственницы» (мать Кузнецова не была в состоянии активно действовать; возможно, КГБ знало, что Люся – не истинная тетя, но смотрело на это сквозь пальцы). Люся в первые же недели приложила очень много сил, подбирая адвокатов для Эдика и других обвиняемых, еще больше усилий в этом деле потребовалось от нее в дальнейшем – на протяжении более 10 лет.
В декабре начался суд. В качестве ближайшей родственницы Люся присутствовала на всех заседаниях, а вечерами каждый день по памяти восстанавливала запись суда. Иногда она сама ездила в Москву и немедленно возвращалась, иногда ездили ее друзья; в любом случае в Москву поступала самая свежая оперативная информация, немедленно печаталась и передавалась иностранным корреспондентам. Люся была также в Ленинграде весной 1971 года во время суда над людьми, причастными к первоначальному проекту захвата большого самолета (над Бутманом и другими). В это время она стала передавать свои записи (сделанные со слов родственников, присутствовавших на суде) прямо по междугородному телефону; у будки собирались гебисты, следовавшие за ней по пятам, демонстративно заглядывали через стекло в ее тетрадку, но физически не мешали ей (команды, видимо, не было). Люсины записи суда над Дымшицем, Кузнецовым и их товарищами публиковались в полном виде, в частности в качестве приложения к «Дневнику» Кузнецова (о нем будет речь ниже). Люсина информация получила широкое распространение в СССР и за рубежом и очень способствовала международной известности и защите обвиняемых.
Из Люсиных эмоциональных впечатлений на суде – инфантильность, детскость многих, не всех конечно, подсудимых – и зловещая серьезность, жестокая торжественность судебной машины. 24 декабря был вынесен приговор. Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены к смертной казни. Юрий Федоров (отказавшийся участвовать в следствии) как «рецидивист» был приговорен к 15 годам заключения; Алик Мурженко (тоже «рецидивист») – к 14 годам, оба – к особому режиму. К очень большим срокам были приговорены и другие обвиняемые. (И. Менделевич – к 12 годам, С. Залмансон – к 10 годам и аналогично для других.)1
Когда был объявлен смертный приговор двум обвиняемым, в зале раздались аплодисменты гебистов и «приглашенной» публики. Люся, вне себя, закричала:
– Фашисты! Только фашисты аплодируют смертному приговору!
Аплодисменты тут же прекратились. Для Люси этот поступок не имел никаких видимых последствий.
Валерий Чалидзе, а также, независимо от него, Люся не хотели привлекать меня к Ленинградскому «самолетному делу», считая его не чисто правозащитным. По терминологии «Международной амнистии» («Эмнести Интернейшнл» – международная организация, выступающая за освобождение политзаключенных во всем мире, против пыток и смертной казни) участники «самолетного дела» не являются узниками совести, так как они не исключали применения насилия. Как я уже писал, я впервые услышал о «самолетном деле» не от Люси и Валерия, а от Наташи Гессе в октябре 1970 г. Узнав от Валерия о приговоре, я, как и очень многие в мире, был возмущен и взволнован. Ничего не сказав ему, я пошел домой, а в 8 утра, к открытию почты, я принес на почту составленную за ночь телеграмму на имя Брежнева с просьбой об отмене смертного приговора Дымшицу и Кузнецову и смягчении приговора остальным осужденным. Я подчеркнул, с одной стороны, свое безоговорочное осуждение нарушения закона и, с другой – отсутствие в составе преступления измены Родине, воздушного пиратства и хищения в особо крупных размерах (самолет был бы возвращен СССР, конечно).
Тогда же я прочитал в советских газетах о письме советских академиков – членов американских академий – президенту США Никсону с просьбой способствовать оправданию американской коммунистки Анджелы Дэвис, обвиненной в соучастии в трагически окончившейся попытке вооруженного освобождения группы подсудимых из зала суда. Я тоже был членом Американской Академии наук и искусств в Бостоне, но ко мне никто не обращался по поводу этого письма. Я решил написать от себя письма президенту США и президенту СССР Подгорному с просьбой о снисхождении в двух делах – А. Дэвис и ленинградских самолетчиков, в особенности с просьбой об отмене смертной казни Кузнецову и Дымшицу. Я набросал текст письма и отдал его Чалидзе, а он передал его Люсе, чтобы она его напечатала и согласовала со мной необходимые уточнения. На другой день Люся пришла ко мне. Это был ее первый приход в дом.
Люся подробно и очень ясно рассказала мне дело (которое я до сих пор знал лишь в общих чертах), ход процесса; пришлось внести кое-какие поправки в текст письма. В тот же вечер она отправила письмо Подгорному и передала через ее знакомого Леню Ригермана иностранному корреспонденту для Никсона. Письмо до Никсона, несомненно, дошло – через несколько недель я получил очень вежливый ответ, где сообщалось, что Анджела Дэвис обвиняется в тяжком уголовном преступлении, суд над нею будет открытый и мне будет предоставлена возможность присутствовать на нем, если я смогу прибыть в США.
Я также сделал в эти дни безрезультатную попытку непосредственно связаться с Брежневым. Я опять, как за два года до этого, с помощью секретаря Александрова прошел в Институт атомной энергии и попытался дозвониться до Брежнева по «вертушке» (кремлевский телефон). Присутствовавший при этом А. П. Александров спросил меня, по какому делу я звоню. Я ответил. Он воскликнул:
– Все эти угонщики самолетов – воздушные пираты, страшное зло, и снисхождение к ним недопустимо!
Но, когда я ему рассказал подробней данное конкретное дело, он изменил свое мнение и согласился со мной, что смертная казнь Кузнецову и Дымшицу – слишком суровое наказание. Я дозвонился до секретаря Брежнева и стал ждать, когда он доложит о моем звонке. Мне пришлось при этом перейти в кабинет заместителя Александрова академика Миллионщикова, который в качестве «общественной нагрузки» являлся тогда Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР и поэтому обладал правом помилования1 (ранее – в 50-х годах – я имел дело с Миллионщиковым, так как он участвовал в некоторых работах, проводившихся, по существу, по моему заданию). Я написал ему подробное, длинное письмо с изложением сути дела и с просьбой о помиловании; я просил его также при наличии каких-либо сомнений связаться со мной. Однако Миллионщиков, видимо, не сделал ничего. Секретарь Брежнева к 9 часам вечера позвонил мне, сказав, что Леонид Ильич был очень занят и не смог со мной переговорить, он сожалеет об этом и хотел бы когда-нибудь в более удобное время встретиться со мной. Это было, вероятно, не более чем формой вежливости. Но я решил воспользоваться этим и со временем вновь обратиться к Брежневу с просьбой о встрече, имея при себе конкретный план разговора по общим проблемам. Так родилась идея «Памятной записки», о которой я рассказываю в следующей главе.
Сразу после приговора Люся имела свидание с Эдуардом Кузнецовым. Кроме нее некому было пойти на эту нелегкую не только для приговоренного к смерти, но и для посетителя встречу. (Мать Эдика плохо себя чувствовала и не находила в себе сил поехать из Москвы на свидание, а никого не записанного в деле не допустили бы.) Эдика привели из камеры смертников в кабинет начальника тюрьмы, и около двух часов они разговаривали. Эдик даже как-то шутил, Люся покормила его принесенной ею едой.
Между тем, международная кампания в защиту «самолетчиков» нарастала. В это же время в Испании был вынесен смертный приговор террористам-баскам, и в одной из зарубежных газет была карикатура – Брежнев и Франко в хороводе вокруг елки, на которой вместо украшений – повешенные. Многолюдные демонстрации прошли во многих странах Европы и Америки. На 30 декабря неожиданно – явно по приказу свыше – был назначен кассационный суд. (Насколько суд был неожиданным, видно из того, что еще не прошел срок подачи кассационных жалоб и адвокаты писали их в ночь перед судом. Из Ленинграда успели приехать только два адвоката и участвовали два московских адвоката; большинство родственников приехать не успели, на суде присутствовали только сестра Менделевича, мать Федорова и Люся.) Вечером 30 декабря радио сообщило, что в Испании смертный приговор баскам заменен длительным заключением. Нам стало казаться, что на этом фоне Кузнецова и Дымшица помилуют. Действительно, смертный приговор был заменен 15-ю годами заключения каждому. Во время суда я опять видел Люсю, а в перерыве она рассказала мне о своих жизненных планах – достигнув 50 лет, уйти на пенсию, на что она имела право как инвалид Отечественной войны (II группы), и посвятить себя воспитанию внуков: ее дочь Таня – та самая, которая приезжала за «зеленой папкой», только что вышла замуж; очень волновала Люсю при этом проблема, где жить молодым, – обычная в советских условиях.








