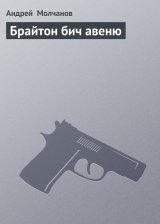
Текст книги "Брайтон бич авеню"
Автор книги: Андрей Молчанов
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– Шучу! – глумливо поджал губы Миша. – Шу-чу!
– Ты… сука… в следующий раз…
Впрочем, Дробызгалов быстро остыл.
Указания опера Миша выполнял, работал на совесть. Хотя, отметить надо, если и забирали кого-нибудь из Мишиного окружения, то красиво, наводкой не пахло, осведомителя милиция не подставляла. Более того, устранялись порой опасные конкуренты, перебивавшие Мише игру. И росла Мишина клиентура, росло влияние, рос штат шестерок, работавших на Мишу за свой процент, а шестерок за самодеятельность Миша тоже тюремным сроком мог наказать: и за нечестность, и за лень, да и вообще в зависимости от настроения…
Одно удручало Мишу: растаяла мечта о заграничной жизни, которую он лелеял едва ли не с малолетства, а заработанные тысячи постепенно теряли смысл. Он поднялся над бытием простых трудяг, но – как?! Вися на ниточке между готовыми сомкнуться ножницами, причем ниточка была ниточкой именно что для ножниц, для него же она представляла собою стальной трос, спеленавший его намертво.
Может, все было бы ничего – гуляй, пей, пользуйся дарованной тебе неприкосновенностью, не отказывая себе ни в чем, но Мише мешало прошлое – то прошлое, в котором был облеченный властью отец, несостоявшееся будущее дипломата, а там – кто ведает – посла; а из послов с таким-то папой и дедом еще выше…
Въелась в Мишу песенка: «Все выше, и выше, и выше…» Жил он ей, его семьи эта песенка была, да вот выше – не вышло. К потолку привесили. А песенку спетую осмеяли и забвению предали, как пережиток известной эпохи.
Лучший Мишин деловой дружок Боря Клейн умудрился в Америку съехать и теперь по надежному каналу, через одного из фирмачей, клиента Марины, перебрасывал Мише письма, призывая к контрабандным операциям и выражая готовность к любому совместному предприятию. Миша писал другу ответные депеши, однако свойства общего, ибо почвы для кооперации не видел.
За границу Боря удирал в спешке, буквально из-под ареста, а потому остался Михаил хранителем его дензнаков, нескольких бриллиантов и дачи в Малаховке, за писанной на чужое имя.
Миша остро Борису завидовал. И даже попытался однажды слукавить с милицейскими, выскользнуть из тисков, попросив сестру Марину свести его с невестой какой-нибудь заморской, и вроде нашлась шведка одна разбитная, и брала шведка за фиктивный брак всего то пять тысяч в «гринах», но – пронюхали. Незамедлительно заявился Дробызгалов, сказав:
– Что, корешок, на измену присел? Не шути шуточек, Мордаха. С ножом в спине ходишь. И всадят нож по рукоять. Устроится легко, понял? И тот киллер, кто всадит перо в стукача с превеликим своим блатным удовольствием, тут же, родной, на вышак и отправится. Все согласовано будет, рассчитано. Так что…
Вскоре Марина укорила брата:
– Чего ж ты? Струхнул? Зря! Такую телку тебе поставила… Глядишь, и любовь бы получилась потом большая и искренняя… А?…
– Не, – сказал Миша. – Кто я там? Прикинул – не! К тому же, деда на кого оставить? Он же из запчастей состоит…
– То есть?
– Челюсть искусственная, протез, очки, слуховой аппарат…
– Ну и шуточки у тебя…
– Не шуточки, грустный факт. Так что заграница временно откладывается.
– Тогда набивай «зелененьких», – сказала сестрица. – Чтобы там сразу в рантье… А шведок еще найдем. Правда, цены могут вырасти…
– Утроим усилия, – откликнулся Миша.
К полудню, когда Миша расправился с завтраком, пожаловал соратник по промыслу, Гена, живущий в соседнем доме. Гена курировал «Березки», перекупая аппаратуру у ломщиков и кидал.
Толстый, с золотыми фиксами, в простеганном пуховике, сапожках китайского производства с вывернутыми на мыски рифлеными подошвами, в лыжной шапочке… Гена привез видеодеки.
– Только две штуки товара оторвал, Мишенька, – оживленно заговорил он с порога. – Больше не смог. «Ломота» в грусти, перехватить у нее нечего, весь товар люберецкие по дешевке отбирают, рэкет – черный!
Миша был в курсе ситуации. Ломщики, перекупавшие у владельцев чековых книжек аппаратуру и, естественно, надувавшие своих клиентов при расчете, жестко контролировались бандитами, обязавшими продавать товар им и только им по самой низшей рыночной цене. Утаить что-либо от вездесущих рэкетиров было практически невозможно, мошенники, скрежеща зубами от бессилия, несли убытки, и Гена, ранее скупавший по двадцать – тридцать единиц аппаратуры в день, ныне, во времена расцвета рэкета, тоже удовлетворялся случайными гешефтами. Впрочем, не слишком унывая, поскольку переориентировался на «привоз». Его шестерки постоянно пасли публику возле таможни и в международном аэропорту, где ячея сетей мафии была попросторнее.
Провожая словоохотливого Геннадия в гостиную, Миша притворил дверь комнаты деда, мельком успев различить профиль старика, отрешенно сидевшего у окна и пусто взиравшего на стену, где мерно качался длинный бронзовый шток старых часов в застекленном футляре. Что видел дед и куда обращал свое зрение?
В прошлое, отсчитанное этими часами, памятными ему еще с детства, – семейной реликвией, пришедшей в дом этот от предков, неведомых внуку Мише и уже полузабытых им, дедом?…
– А я весь в делах, в ремонте, – докладывал между тем Геннадий, опуская коробки с деками на тахту. – Приходи, взгляни, какую себе ванную заделал… Бассейн, пол с подогревом… А то, знаешь, дети ночью пописать, к примеру… часто без тапочек, а кафель-то холодный… Ну, я трубы под него… Теплынь, красота… Кафель финский, как изразец…
– Эт ты верно, – соглашался Миша, доставая из секретера целлофановый пакет с деньгами, рассортированными на тысячи.
Каждая – переложена согнутой пополам сторублевой купюрой. – Во, какие бабки даю – одни стольники, – цедил озабоченно, вручая Геннадию есять пачек. – Опустился бы за такие бабки хоть на полтинник, а?
– Да какой такой полтинник? – грустно отвечал Гена, имевший, кстати, кличку Крокодил. – Я этот полтинник всего-то и наживаю… Я ж чего? Я ж только друзьям помогаю, я ж бедный…
Это вы – ротшильды!
– Помогаешь… сука… – бурчал Миша беззлобно. – Аферюга.
– Квартирку-то ремонтировать пора, – не обращая внимания на нелестные отзывы в свой адрес, советовал Гена, скептически трогая пальцем выцветшие обои. – Быт все-таки, он, брат… да!
Я, хорошо, на первом этаже… вообще тут в подвал дома углубляться задумал… Кегельбан хочу там замонастырить, сауну, барчик… Да, Мишель, чуть из башки не вылетело: антиспидган мне нужен, выручай, – сменил он тему. – Поможешь?
– Триста пятьдесят.
– Чего так люто?
– Ну… триста, хрен с тобой.
– Беру. Когда?
Миша не ответил. Зазвонил телефон. Снимая трубку, он подумал, что производство антиспидганов – приборов, устанавливаемых в автомобилях, дабы фиксировать излучение радаров ГАИ и вовремя снижать скорость, – дело выгодное чрезвычайно. Умелец, инженеришка из НИИ, прилежно собиравший приборчики из деталей с военной приемкой по сто рублей за единицу, трудился на Мишу не покладая рук, перейдя, так сказать, на конверсию. Спрос на продукцию возрастал, и просьба Гены служила тому лучшим доказательством. Прокатился на днях Гена на Мишиной машине по трассе и вот – заело, понравилось. Да и помимо Гены от желающих нет отбоя, ведь импортный антирадар ничуть не лучше и в четыре раза дороже.
– Три «кати»[3]3
– Сто рублей (жарг.)
[Закрыть] на стол, и прибор твой, – говорит Миша Геннадию, включая громкую связь.
– Михаил? – раздается голос. – Нужен экран, пятьдесят четыре по диагонали, желательно «Грюндик».
– Имеется, – откликается Миша. – Восемь с половиной, хоть сейчас…
– Позже, – отвечают. – Тачку найду, приеду.
Гена аккуратно отсчитывает деньги, кладет их на стол, как было велено.
– А твоя телега где? – спрашивает Миша телефонного собеседника. – Или… с бодуна?
– Чтоб тебе самому не просыхать! – отзывается голос злобно. – Ты знаешь, как подсуропил с антирадаром своим, гад?
Тачку вчера мне в лом обратили…
Миша, кашлянув стесненно, оборачивается в сторону Гены.
Глазки Гены прикованы к лежащим на столе трем коричневым купюрам. На лице же его – живейшая заинтересованность от разговора по громкой связи, зубы с золотыми фиксами оскалены.
Нос настороженно вытянулся…
– Еду по трассе вчера, – повествует голос, – вдруг запел прибор, замигал, хотя ментов – никаких… Ну, я по тормозам инстинктивно. А сзади «Волга» шла, прилично так… Ну и в зад мне… Так что удружил, падла!
– Это не ко мне, – говорит Миша. – Сочувствую, но – не ко мне. Прибор же не соврал, где-то в кустах, а торчали менты…
Точно ведь? Как выяснилось впоследствии?
– Ладно, – отвечает голос угрюмо, но мирно. – Где-то к трем буду. Так что – никуда, понял?
– Понял, не горюй, – отзывается Миша. – Главное, прибор остался цел, а тачку к нему докупишь. Привет!
Гена заливается хриплым смехом, топая сапожком по паркету.
– Вот и сэкономил клиент на штрафах, – резюмирует он, не предпринимая, впрочем, попытки забрать свои деньги обратно.
– Н-да, – роняет невпопад Миша и кряхтит двусмысленно, давая понять, что присутствие Гены его уже обременяет.
Данное кряхтение Гена понимает верно, встает с дивана, забирает антиспидган и, желая коллеге выгодно сплавить деки, выкатывается толстеньким, в пуховике, колобком прочь.
А Миша, оставшись в одиночестве, размышляет о Гене.
Во-первых, крепнет мысль, что Гену пора сдать в лапы Дробызгалова. Слишком активно Гена суетится в районе. Вынюхал часть Мишиной клиентуры, перебивает заказы… Да, Гену надо сажать. Пусть дооборудует квартирку и отправляется в барак.
По своей же натуре Гена – тип занятный. Прилежный семьянин, соблюдает диету, не пьет, не курит, и зачем ему такое количество средств при наличии двух машин и двух дач – загадка.
А средств у Гены много, сие известно Мише доподлинно. Гена занят бизнесом практически круглосуточно, за четвертным наживы поедет ночью в любой конец города, поблажек себе не позволит никаких, а ради чего? Ради голого устремления к пачкам накапливаемой бумаги? Или ради обеспеченного буду его детей?
Это для Миши загадка. А может, дело в разнице характеров и степени азарта? Миша куда более ленив, одинок и часто сознается себе, что занимается спекулятивным ремеслом уже чисто по инерции, бесцельно, ведь заниматься больше нечем… Но – не бросить! Среда не выпустит, да и сам он из нее не уйдет, ибо чужим будет в ином мире, где считают каждую копеечку, ходят на службу ради жалкой зарплаты, унижаются перед начальством и занимаются черт знает какой мелочевкой.
У Миши своя компания вольных игроков, где его понимают с полуслова. А помимо компании существует еще Дробызгалов – тоже понятный и близкий, который никаких люфтов не потерпит и если что – шкуру спустит.
Полная у Миши ясность и сытая бесперспективность. Завтрак, гешефты, обед, гешефты, вечером бардачок после ресторана и так
– до лета. Лето – сезон пустой, клиентура в разброде, доходы невелики, и можно, согласовав с Дробызгаловым свое 0отсутствие, смело подаваться на отдых в Сочи, благо, дед еще себя обслужить в состоянии. Купить кефир и пожарить яичницу старик может.
Исподволь понимает Миша, что не жизнь у него, а существование в замкнутом круге противных до тошноты привычек, обязательств и вычисляемых за десять шагов вперед коллизий.
Коллизий ли? Так, мелких приключений, а если и неприятностей – то типа венерической болезни или же возврата бракованной аппаратуры возмущенным клиентом, которая после ремонта снова пускается в реализацию…
Здоровье у Миши отменное, мафия и милиция хотя не союзники ему, но и не враги, а потому пусть не меняется порядок вещей, ибо не худший это порядок, а к лучшему стремиться – идеализм, и дорожить надо тем, что имеешь, и иметь больше и больше…
Так что сначала было «выше», а после это самое «больше». И второе представлялось куда надежнее первого.
ДЕД
Настоящее и прошлое. Два мира, такие разные, но одинаково странные и отчужденные от него… Почему? Может, прошлое попросту отходило далеко, забывалось, уподоблялось сну, а настоящее?… Оно тоже воспринималось словно бы сквозь мутное стекло, размывавшее ту суть жизни, что ощущалась когда-то резко, радостно и обнаженно.
Механически-вялым становилось и осознание такого отчуждения, а возникающие удивление, смятение, страх тут же меркли, как дотлевающий прах костра, задетый нечаянным ветром.
Старик не понимал, что угасает мозг, способность мыслить подменяется привычками, рефлексами и намертво усвоенными стереотипами.
Он знал, что ложиться спать надо рано и вставать надо рано, обязательно умыться и позавтракать.
После завтрака он спускался вниз, к ячейкам почтовых ящиков, долго искал номер квартиры, намалеванный краской на откидной крышке; наконец забирал газеты и отправлялся обратно домой, где усаживался у маленького столика на старом дубовом стуле, разворачивал свежие листы и читал.
Читал ли? Текст воспринимался и не воспринимался. Но читать было надо, так он привык. Изредка, как бы сквозь пелену, обнаруживался смысл фраз – смысл, повергающий в изумление, если не в ужас… Изо дня в день в газетах поминался Сталин. Товарищ Сталин. Великий вождь. Идеал старика. Поминался как чудовище, выродок и убийца. Старик не мог взять в толк, как можно писать этакое об отце-хранителе страны, что произошло, не революция же какая-нибудь, она ведь одна, революция, и он, старик, когда-то участвовал в ней, но – что же тогда?! Или он читает какие-нибудь другие газеты, вражеские?… Кто знает, что приходит по почте внуку? Или… подбросили? Врагов происки?
Нет… газеты те самые, статьи в них другие. Да что газеты?
Перевернулся мир, и ничего не понять в нем. Дома вырастают, телевизоры в каждой квартире, машины у людей личные, а работать вроде как меньше стали, если вообще работают… Внука хотя бы взять – целый день на диване лежит, по телефону болтает, а денег зарабатывает много, вон в холодильнике – и балыки, и икра, и ветчина, разносолы иностранные, а в магазинах ничего, уксус да соль…
Впрочем, знавал старик времена разные, и когда пусты были витрины, когда голод зверствовал, и когда ломились прилавки яствами… Все возвращается на круги своя, все повторяется…
Трудно и дорого стало с водкой, вот что удручало старика всерьез. Внук не пил вовсе, разве изредка приносил пиво в неудобных железных банках, а старик любил побаловаться беленькой всю жизнь, в привычку вошло опрокинуть пару стопочек перед обедом – для аппетита, а тут, когда немощь пришла, исчезла водка, а очереди выстраивались за ней, дорогой до умопомрачения, дикие.
Тяжко было старику в очередях маяться, да еще с больными ногами на морозе, а приходилось. Редко какой жалостливый на подходе к прилавку примет стариковский червонец да и прикупит бутылочку из сострадания. Зол народ стал, зол. Криком кричит: мол, старый хрен, могила по тебе скучает, а туда же, зараза, за градусом! – а уж коли так – стой и не дергайся! И нет уважения, что ветеран партии, с двадцатого года в ней; что гражданскую прошел, финскую и Отечественную… Стой – и все. А как устоишь
– ноги не держат, в глазах плывет… И не стоял бы, да радость единственная – пара стопок…
Закружится голова, легко станет на сердце и… вроде тут-то приходит осознание жизни, того, что не мертво. Слабое зрение уже не тяготит, бездеятельность душу не точит, и одиночество проклятое отступает. Отрадно становится, бездумно, и можно сидеть на стуле отрешенно и вспоминать… Много, долго и сладко. Отца, мать, братьев, жену… Всех родных покойных.
Сын ныне остался, но и он уже из прошлого, в тюрьме сын, далеко, не добраться туда, а срок у него длинный, значит, не судьба свидеться…
Опьянение физическое или опьянение воспоминаниями испытывал старик? Или было связано одно с другим? Так или иначе в эти минуты опьянения старик жил и – удивительно – окостенелое мышление воскресало, разорванные мысли обретали законченность и четкость и даже хотелось делиться с кем-то, говорить о пережитом – внезапно цветном, ясно воскресшем из мрака забвения, и о нынешнем – грозно-непонятном.
Старик пытался постичь несколько недосягаемых для его разума, поистине загадочных факторов: отчего, во-первых, такая чудовищно дорогая водка, а качеством куда хуже прежней; затем – откуда вдруг появился частный сектор, а уж как он его громил во времена изничтожения нэпа, как громил!
Неясно с империализмом. С Америкой, оплотом реакции, дружба началась какая-то странная, из телевизора вопли иноязычные каждый вечер, а по радио чего говорят – да за это раньше к стенке без разговоров! Товарищ Сталин вроде как враг народа… И только ли он, все, оказывается, плохи были. Или он, старик, недопонимает чего? Рехнулся? Нет, не рехнулся, кажется… Тогда что?
Вот посадили сына. За взятки, как внук объяснил. Ну, тут ясно. Спасибо, не расстреляли, раньше бы за такие дела…
Горько, конечно, обидно, верил он в сына, и ведь честным рос, политически выдержанным, в большие начальники вышел, в секретари райкома, видным стал коммунистом… А может, враги-то его в тюрьму и упрятали? А нынче власть взяли, отсюда и сектор нэпманский, и с Америкой вась-вась, и вообще разлад повсюду…
Ясно, почему в магазинах ничего нет – народ-то больше по улицам болтается, митинги проводит, прохлаждается, а руководство и не приструнит, не употребит власть… А ведь не это мечтал увидеть старик в революционном семнадцатом, не такое… Что-то иное. А что? Вспоминал, как лежал с винтовкой в дозоре под Москвой, ожидая нашествия банды анархистов на склады продовольственные, вспоминал, как завод налаживал, собирал рабочих, про жизнь светлую им говорил, которую им же создать надо, и создали ведь жизнь эту! И какую жизнь! Хорошую, основательную! Слезы выступают у старика, когда ее вспоминает, и видится неизменно: темное зимнее утро, разорванное воем гудка, заиндевелое оконце комнатки в коммуналке – своей комнатки в настоящем кирпичном доме, одном из первых в деревянных еще Сокольниках; завтрак, пусть скудный: чаек морковный, хлеб черный с луком… А после – заснеженная дорога к заводу. А на заводе – рай! Свет электрический, станков шум ровный, масла машинного запах…
Надежно все, дисциплинированно, уютно… И чтоб кто-нибудь к смене опоздал! Товарищ Сталин хоть крут был, да хозяин, порядок укрепил: прогулял – срок, опоздал – санкции. Строго было, но рука хозяйская чувствовалась, а потому надежно жили, с верой. А сейчас?
Стоял портрет товарища Сталина в полках книжных – хороший портрет, на гладкой фотобумаге, долго стоял, и вот те на – внук едва в ведро помойное не выбросил, насилу отобрал, насилу упросил оставить…
– Тогда, – заявил внук, – в комод себе положи этого гада, но чтоб меня перед людьми не позорил! Тоже, выставил мразь всякую вместо иконы…
Вот что внук сказал. Он, старик, и ответить не смог, оторопел. Этак о человеке, который богом был для страны, который и войну выиграл, и народ накормил, и цены снижал каждый год, и…
Даже всплакнул старик. День себе места не мог найти. А потом понял: если в газетах такое, разве внук виноват?
Образумить мальчишку надо, правду ему рассказать… Попытался.
А внук и слушать не захотел, отмахнулся; а тут еще грузины пришли в дом – опять коробки с иностранными надписями выносили, а после другие приехали и новые коробки принесли… Вот коробкам-то этим иностранным внук и молится, а в них приборы тоже иностранные, непонятные, кино там какое-то показывается через них, и чувствует старик, нехорошее кино, ихнее, империалистическое… И предупреждал ведь внука: держись подальше! – а тот снова отмахивается – мол, говорит, это при Сталине твоем такое кино не в почете было, а сейчас только такое и смотрят. А раз вошел старик в гостиную: внук спит, телевизор работает, а по телевизору-то… ох, да такой разврат, такой… И два голоса говорят. Один вроде по-русски, другой по-иностранному… Точно. Спелись с Америкой. И телевизор не выключить – ни кнопок нет, ни рычажков, тоже американский, видать. Окрутили молодежь капиталисты. Эх, внучок, внучок…
Товарища Сталина в ведро! А у самого, как у бабки-богомолки, исусы на стенках и девы-марии, позор-то! И опять – почему на работу не ходит? Говорит, на дому работает. Но не инвалид же!
Насчет партии тоже… Все в семье партийные, а этот – ни в какую! Мне, заявляет, партвзносы – разорение, на моих партвзносах завод соорудить можно! Не удался внук. Всем парень хорош: и его, старика, не обижает, всегда еду принесет, белье сдаст в прачечную, в комнате приберет, а вот жизнь неясную ведет, неясную… но и что скажешь? – ведь понимается где-то, словно бы изнутри, что мир за окном в ладу с внуком, ему принадлежит мир этот – странный, чужой мир. Смотрит на него старик из окна, долго и пристально смотрит. Что-то знакомое осталось: каланча пожарная стоит, как и прежде стояла, церковь… Но не те Сокольники стали, не те… А ведь родился он здесь, вырос, мальчишкой бегал среди улочек грязных с лепившимися друг к другу домишками деревянными… Нет домишек уже. И тот, первый кирпичный, в котором комнату получил свою, первую, тот тоже сломали. Теснятся теперь громады каменные, асфальт повсюду, если бы не каланча и не церковь – ничего бы и не узнал. Другим стал мир. Таким он его представлял, когда в революцию рабочих агитировал? Когда о коммунистическом будущем им говорил? Нет, такого и представить себе не мог. Эх, показать бы тогда тем работягам и солдатам гражданской мир сегодняшний – ахнули бы. Да только не их это мир все-таки оказался, другого в нем много, враждебного. И не коммунизмом этот мир зоется, нет.
Хотя и райком партии есть, поздравления каждый год аккуратно оттуда приходят, и паек в магазине получить можно как ветерану партии – значит, есть партия, и ценит она его, но вот куда смотрит только? С Америкой этой опять-таки… А может, в Америке коммунисты верх взяли? Мирно как-нибудь? Без революции?
Не ясно. Но на водку-то чего цены подняли? Туда, в Америку ее всю переправляют, оттого и так? А нам остается мало?
Эта мысль постепенно окрепла. Все, наверное, туда и идет.
И не только водка. Продукты тоже туда. И машины, наверное… да.
Внук вон что говорит – на машину нынче не один год в очереди стоять надо, много за границу отправляют… Но тогда что они нам за это? Кино, что ли, гадость ту, которая из коробок, всю квартиру заставивших? Иль одежду, что на внуке, – не одежда, обноски какие-то – разноцветно все, пятнисто, как в цирке клоун… Зачем такое кино и одежда нужны? Вот раньше… и костюм добротный недорого, и мясо, и балык в магазине, и рюмочные дешевые… С работы пришел, выпил, хозяйка стол накрыла, а там и телевизор поглядели – умный советский фильм. И песни красивые, и герои душевные… Сытый, по-хорошему усталый засыпаешь, а утром – гудок. И – цех, запах масла, станков гуд… Вот куда бы вернуться. А туда, если что и возвращает, – водка. А она в Америку, проклятая, идет, в Америку!



