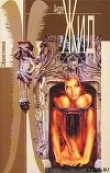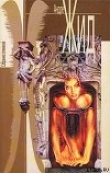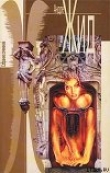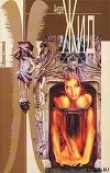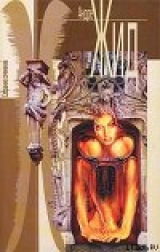
Текст книги "Пасторальная симфония"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Значит, ты кое-что подозревала? – спросил я с некоторой нервностью.
– Видно было, что это началось уже очень давно. Но таких вещей мужчины обыкновенно не замечают.
Так как оспаривать ее было бы бесполезно и так как слова ее содержали в себе, пожалуй, известную долю правды, я просто ей возразил:
– В таком случае, тебе безусловно следовало меня предупредить.
Она улыбнулась той слегка кривившей уголок рта улыбкой, которая часто сопровождала и прикрывала ее умалчивания, и склонила голову набок:
– Что бы это было, если бы я стала тебя предупреждать обо всем, чего ты не видишь!..
Что значил этот намек? Я этого не знал и, не желая ни о чем допытываться, пропустил ее слова мимо ушей.
– Одним словом, я хотел бы услышать твое мнение.
Она вздохнула и сказала:
– Друг мой, ты знаешь, что я никогда не одобряла присутствия этой девушки в нашем доме.
Я с трудом удержался от вспышки при этом намеке не недавнее прошлое.
– Речь идет не о присутствии здесь Гертруды, – ответил я; но Амелия уже продолжала:
– Я всегда находила, что из этого ничего, кроме неприятностей, не выйдет.
Искренно желая избежать ссоры, я подхватил на лету ее фразу:
– Значит, брак этот представляется тебе неприятным? Как раз это мне и хотелось от тебя слышать; очень рад, что мы, наконец, сходимся в мнениях. – Я прибавил еще, что Жак к тому же, вероятно, подчинился доводам, которые я ему привел, так что ей больше не о чем волноваться; мы с ним условились, что он завтра же отправится в свою поездку, которая продлится целый месяц.
– Так как я подобно тебе нисколько не заинтересован в том, чтобы ко времени возвращения Жака Гертруда находилась у нас, – вставил я под конец, – я подумал, что самое лучшее будет устроить ее у мадемуазель де ла М., у которой я по-прежнему смогу с ней видеться; мне не к чему скрывать, что я связан самыми серьезными обязательствами по отношению к этой девочке. Недавно я заходил предупредить ее новую хозяйку, которая охотно соглашается оказать нам услугу. Тем самым ты тоже освободишься от присутствия человека, который тебе в тягость. Луиза де ла М. будет смотреть за Гертрудой; она, видимо, в восторге от этого предложения; она заранее радуется, что будет давать ей уроки гармонии.
Амелия, видимо, дала себе слово хранить глубокое молчание, а потому я снова заговорил:
– Так как Жаку не следует позволять видеться с Гертрудой вне стен нашего дома, я полагаю, что недурно было бы предупредить мадемуазель де ла М. относительно создавшегося положения. Как ты думаешь?
Я пытался своими вопросами добиться хоть слова от Амелии; но она плотно сжимала губы, словно поклявшись, что ничего не ответит. А я все продолжал, и не потому, что хотел еще что-нибудь добавить, а потому что молчание ее сделалось для меня невыносимым.
– Впрочем, возможно, что Жак вернется из поездки излечившимся от своей любви. Разве в его годы люди отдают себе отчет в своих чувствах?
– О, иногда и в гораздо более зрелые годы они не отдают себе в них отчета, – как-то странно заметила она наконец.
Ее загадочный и наставительный тон раздражал меня, тем более что я по натуре человек ума трезвого и не легко мирюсь со всякого рода таинственностью. Повернувшись к ней, я попросил ее объяснить, что она хотела сказать своими словами.
– Ничего, друг мой, – грустно проронила она. – Я только подумала о только что выраженном тобой желании, чтобы тебя предупреждали в тех случаях, когда ты сам чего-нибудь не замечаешь.
– Ну, и что же?
– Ну, и вывела заключение, что предупредить человека не так-то легко.
Я говорил уже, что терпеть не могу таинственности и из принципа не допускаю никаких недомолвок.
– Если ты хочешь, чтобы я тебя понимал, постарайся выражать свои мысли яснее, – проговорил я, несомненно несколько грубым тоном, в чем тотчас же раскаялся, так как заметил, что губы Амелии на мгновение задрожали. Она отвернулась, встала с места и сделала несколько неуверенных, почти шатающихся движений по комнате.
– Скажи мне, Амелия, – проговорил я, – стоит ли все время расстраиваться и теперь, когда все поправлено?
Я чувствовал, что мой взгляд ее стесняет, и поэтому следующую фразу произнес, повернувшись спиной, положив локоть на стол и опустив голову на руку:
– Я говорил с тобой сейчас очень резко. Прости.
И вдруг я услышал, что она подходит ко мне: я почувствовал, как ее пальцы легко легли мне на лоб, и в то же время она нежно проговорила голосом, полным слез:
– Мой бедный друг!
И затем сию же минуту вышла из комнаты.
Фразы Амелии, казавшиеся мне в то время загадочными, вскоре для меня разъяснились; я воспроизвел их в том виде, в каком их воспринял впервые; в тот день я понял только одно: Гертруде настало время уехать.
12 марта
Я вменил себе в обязанность каждый день уделять немного времени Гертруде; в зависимости от загруженности моего дня иногда это составляло несколько часов, иногда несколько минут. На следующий день после моей беседы с Амелией я был довольно свободен, погода выдалась прекрасная, и я увлек Гертруду в лес к тому отрогу Юры, где сквозь завесу ветвей, за огромной отлогой равниной, взгляду в ясную погоду открывается поверх легкого тумана чудесное зрелище белоснежных Альп. Солнце уже клонилось к западу влево от нас, когда мы добрались до места, где обычно любили сидеть. Луг с короткой и густой травой спускался к нашим ногам; невдалеке паслись коровы; у каждой из них, как это принято в горах, на шее висел колокольчик.
– Они как бы рисуют пейзаж, – сказала Гертруда, прислушиваясь к позвякиванию бубенцов.
Она попросила меня, как на всякой прогулке, описать ей местность, где мы проходили.
– Но ведь ты и без того знаешь: это опушка, откуда виднеются Альпы.
– А их хорошо видно сегодня?
– Они видны сейчас в полном великолепии.
– Вы мне говорили, что они каждый день бывают разные.
– С чем нужно было бы их сегодня сравнить? С жаждой, которую испытываешь в летний день. Еще до вечера они окончательно истают в воздухе.
– Скажите, пожалуйста, а что на лугу перед ними есть лилии?
– Нет, Гертруда; лилии не растут на таких высотах; разве какие-нибудь чрезвычайно редкие их виды.
– Но не те, которые называются лилии полей?
– Лилий на полях не бывает.
– Даже на полях в окрестностях Невшателя?
– Лилий на полях не бывает.
– А почему же тогда господь сказал: «Взгляните на лилии полей»?
– Очевидно, в его времена они там были, поскольку он так говорил; но от посевов человека все они вымерли.
– Помнится, вы часто мне говорили, что здесь, на земле мы больше всего нуждаемся в любви и в вере. Как вам кажется, если бы у людей было больше веры, не могли бы они снова видеть лилии? Вот я, когда я слышу эти слова, уверяю вас, я вижу эти цветы. Хотите, я их вам сейчас опишу? Они похожи на колокольчики из пламени, большие лазоревые колокольчики, полные ароматов любви, качаемые вечерним ветром. Почему вы говорите, что их нет? Здесь, на лугу перед нами? Я их обоняю. Я вижу, что они покрывают весь луг.
– Они не прекраснее тех цветов, которые ты видишь.
– «Истинно говорю вам, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из них», – привела она слова Христа, и, слушая ее мелодический голос, я поддался впечатлению, будто слышу их в первый раз. – «Во всей славе своей», – задумчиво повторила она и некоторое время сидела молча.
Я начал:
– Я уже тебе говорил, Гертруда: люди, обладающие глазами, не умеют смотреть. – И я услышал, как из глубины моей души поднялась во мне такая молитва: «Благодарю тебя, господи, за то, что ты явил нищим духом то, чего не открываешь премудрым!»
– Если б вы знали, – вскричала она тогда в каком-то шутливом возбуждении, – о, если б вы только знали, с какой легкостью я все это себе представляю! Вот что; хотите я опишу вам пейзаж?.. Сзади нас, вверху и вокруг стоят высокие, пахнущие смолою, сосны, с красными стволами, с длинными темными горизонтальными ветками, которые стонут, когда их сгибает ветер. У наших ног, как раскрытая книга, наклонно лежащая на пюпитре горы, большой зеленый и пестрый луг, то синий от тени, то золотистый от солнца, а словами этой книги являются цветы: горечавка, ветреница, лютики и пышные лилии Соломона, – которые коровы разбирают по складам своими колокольцами и которые слетаются читать ангелы, поскольку глаза людей, как вы сказали, закрыты. А под книгой я вижу молочную реку, туманную, мглистую, таящую таинственную пучину, огромную реку; и нет у нее других берегов, кроме прекрасных сияющих Альп, там далеко-далеко прямо перед нами… Туда-то и отправится Жак… Скажите, он действительно уезжает завтра?
– Да, он должен уехать завтра. Он тебе это сказал?
– Он мне ничего не говорил, но я догадалась. Он долго пробудет в отсутствии?
– Месяц… Гертруда, мне хотелось спросить тебя… Почему ты мне не рассказала, что он приходил к тебе в церковь?
– Он приходил туда дважды. О, я не хочу ничего от вас скрывать; но я боялась вас огорчить.
– Ты огорчишь меня только в том случае, если будешь молчать.
Ее рука потянулась к моей.
– Ему было грустно уезжать.
– Скажи, Гертруда… он говорил, что любит тебя?
– Он мне не говорил, но я сама отлично это почувствовала без всяких слов. Он любит меня не так сильно, как вы.
– А ты сама, Гертруда, страдаешь от того, что он уезжает?
– Я думаю, что ему лучше уехать. Я не могла бы ответить ему взаимностью.
– Ответь же: ты страдаешь от того, что он уезжает?
– Вы отлично знаете, что я люблю вас, пастор… Ах, зачем вы отдернули вашу руку? Я не стала бы так говорить, если бы вы не были женаты. Слепых ведь не берут замуж. Почему бы нам, в таком случае, не полюбить друг друга? Скажите, пастор, неужели вы видите в этом что-нибудь дурное?
– В любви никогда не бывает дурного.
– Я ощущаю в своем сердце столько добра. Я не хотела, чтобы Жак страдал из-за меня. Я никому не хотела бы причинять страданья… Я хотела бы дарить одно лишь счастье.
– Жак имел в виду просить твоей руки.
– Вы позволите мне поговорить с ним перед отъездом? Я хотела бы объяснить ему, что ему нужно отказаться от любви ко мне. Пастор, вы наверное сами понимаете, что я ни за кого не должна выходить замуж. Вы позволите мне с ним поговорить? Не правда ли?
– Сегодня же вечером.
– Нет, завтра, перед самым отъездом…
Солнце садилось в ликующем великолепии. Вечер был теплый. Мы встали и, не прекращая беседы, двинулись по затененной дороге обратно.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
25 апреля
Мне пришлось на некоторое время запустить свою тетрадь.
Снег наконец стаял, и, как только дороги сделались снова проезжими, мне пришлось заняться исполнением многочисленных обязанностей, которые я вынужден был откладывать в течение всего времени, пока деревня наша была отрезана. Только вчера в моем распоряжении оказалось несколько минут свободного времени.
Вчера ночью я перечел все, что здесь написал…
Теперь, когда я смело могу назвать по имени свое, в течение столь долгого времени не опознанное чувство, я с трудом понимаю, как я до сих пор мог еще заблуждаться, каким образом сообщенные мною выше слова Амелии могли мне казаться загадочными; как после всех наивных признаний Гертруды я мог сомневаться, что люблю ее. Дело в том, что я тогда никак не соглашался признать существование любви вне брака, но в то же время не соглашался признать хотя бы крупицу чего-то запретного в чувстве, с такою пылкостью увлекавшем меня к Гертруде.
Наивность ее признаний, самое их простодушие успокаивало меня. Я говорил себе: она ребенок. Настоящая любовь была бы неразрывно связана с конфузливостью, с краской в лице. И, со своей стороны, я тоже убеждал ее, что люблю ее так, как любят увечного ребенка. Я смотрел за ней, как за больной, а самую ее тренировку превратил в моральный долг, в обязанность. И, конечно, в тот самый вечер, когда она говорила мне приведенные выше слова, когда я ощущал в душе такую легкость и радость, – я все еще заблуждался, как заблуждался и в момент записи ее слов. И потому именно, что я осуждал любовь и считал, что все предосудительное калечит душу, отсутствие тяжести на душе отстраняло самую мысль о любви.
Я привел все наши беседы не только в том виде, как они состоялись, но я и записал их в том самом настроении, которое у меня было тогда; сказать по правде – только сегодня ночью, перечитывая все мной написанное, я наконец правильно понял…
Сейчас же после отъезда Жака, – которому я разрешил объясниться с Гертрудой и который по возвращении провел здесь последние дни каникул, делая вид, что избегает Гертруду и говорит с ней только при мне, – жизнь наша вошла в обычную спокойную колею. Гертруда, как было решено, поселилась у Луизы, где я навещал ее каждый день. И все-таки я, страшась, очевидно, любви, старался не говорить с нею о вещах, способных ее растрогать. Я разговаривал с нею, как пастор, и чаще всего в присутствии Луизы, занимаясь прежде всего ее религиозным воспитанием и подготовляя ее к причастию, которого она сподобилась на пасхе.
В день пасхи я тоже причащался.
Все это имело место две недели тому назад. К моему изумлению, Жак, приезжавший к нам на неделю весенних каникул, не предстал вместе со мной перед престолом. И с великою скорбью мне приходится сказать, что впервые за все время нашего брака Амелия тоже не присутствовала. Казалось, что они сговорились и своим отказом от этой торжественной встречи решили набросить тень на мою радость. При этом я еще раз испытал удовольствие оттого, что Гертруда не могла ничего видеть и что тем самым одному только мне пришлось выдержать тяжесть этого огорчения. Я слишком хорошо знаю Амелию, чтобы не уяснить себе, сколько упрека таило в себе ее поведение. Обычно она никогда не выступает против меня открыто, она старается показать мне свое осуждение, создавая вокруг меня пустоту.
Я был глубоко задет, что обида этого рода – такая, о которой мне, собственно, стыдно упомянуть, – могла до такой степени занять душу Амелии, что отвлекла ее от исполнения самого высокого долга. По дороге домой я молился за нее со всей искренностью моего сердца.
Что до Жака, то его отсутствие вызывалось мотивами совсем иного рода, которые для меня стали ясными после беседы, состоявшейся у нас вскоре после этого дня.
3 мая
Религиозное воспитание Гертруды заставило меня перечесть Евангелие совсем по-новому. Для меня делается все более ясным, что огромное количество понятий, составляющих нашу христианскую веру, восходит не к словам самого Христа, а к комментариям апостола Павла.
Это и явилось, собственно, содержанием спора, который только что и произошел у меня с Жаком. При его суховатом от природы темпераменте, сердце не дает достаточно пищи для его мыслей: он становится догматиком и традиционалистом. Он упрекал меня в том, что из христианского учения я выбираю, «только то, что мне нравится». Но я отнюдь не подбираю, как попало, Христовых слов. Просто из них двоих – Христа и апостола Павла – я предпочитаю Христа. Из страха их противопоставить друг другу, он отказывается их разобщить, не хочет почувствовать огромную разницу в вдохновении одного и другого и протестует, когда я ему объясняю, что в первом случае я слышу бога, а во втором слушаю человека. Чем больше Жак рассуждает, тем сильнее он убеждает меня в том, что абсолютно невосприимчив к неизъяснимо-божественному звуку малейшего слова Христова.
Я ищу по всему Евангелию, я тщетно ищу заповеди, угрозы, запрещения… Все это исходит только от апостола Павла. И как раз то, что он нигде не находит этого в словах самого Христа, всего больше мучает Жака. Люди с такой душой, как у него, считают себя погибшими, как только они не чувствуют возле себя опеки, ограды или барьера. И кроме того они не терпят в другом человеке свободы, которою сами они поступились, и стараются добиться принуждения того, что охотно было бы им отдано во имя любви.
– Но и я, отец мой, тоже желаю душе счастья.
– Нет, мой друг, ты хочешь ее подчинения.
– Но в подчинении как раз и заключается счастье.
Я оставляю за ним последнее слово, так как мне надоедает спорить из-за мелочей; но я твердо знаю, что счастье ставится под удар всякий раз, когда его добиваются с помощью средств, которые сами должны, напротив, являться результатом счастья, – и что, если верно, что любящая душа радуется своему добровольному подчинению, ничто так не отделяет от счастья, как подчинение без любви.
К слову сказать, Жак мыслит очень недурно; и, если бы меня менее огорчало присутствие в столь юном уме такой доктринерской сухости, я бы наверное восхитился вескостью его доводов и солидностью его логики. Мне часто кажется, что я гораздо моложе его; что я сегодня моложе, чем был вчера, и я повторяю про себя слово писания: «Если вы не будете, как дети, вы не войдете в царствие небесное».
Неужели же это значит предать Христа, принизить и профанировать Евангелие, если я усматриваю в нем в первую очередь путь к достижению блаженства? Радость духа, которой мешают наши сомнения и жестокосердие, является чем-то обязательным для христианина. Каждое существо более или менее способно к радости. Каждое существо обязано к ней стремиться. Одна улыбка Гертруды учит меня этому гораздо лучше, чем ее все мои поучения.
И предо мной светоносно встали следующие Христовы слова: «Если бы вы были слепыми, вы были бы без греха». Грех есть то, что помрачает душе; то, что препятствует ее радости. Совершенное счастье Гертруды, излучаемое всем ее существом, проистекает из того, что она не знает греха. Все в ней один свет, одна любовь.
Я передал ей, в ее пытливые руки, четыре Евангелия, псалмы, апокалипсис и три послания Иоанна, где она может прочесть: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы», равно как уже в Евангелии она могла встретить слова спасителя: «Я свет мира, и кто со мной, не будет ходить во тьме». Я отказываюсь, однако, давать ей послания Павла, ибо если она, как слепая, не знает вовсе греха, к чему тогда беспокоить ее и позволять ей читать: «Грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Римл., VII, 13) и всю дальнейшую диалектику, несмотря на весь ее блеск?
8 мая
Вчера из Шо-де-Фона приехал доктор Мартен. Он долго обследовал глаза Гертруды с помощью офтальмоскопа. Он сообщил мне, что говорил о Гертруде с доктором Ру, лозаннским специалистом, которому собирается представить свои наблюдения. Оба считают, что Гертруде можно сделать операцию. Мы уговорились, однако, ни слова не говорить Гертруде до тех пор, пока у нас не будет полной уверенности. Мартен обещал приехать и сообщить мне о результатах совещания с Ру. К чему возбуждать в Гертруде надежду, которую вскоре пришлось бы угасить? И кроме того разве она и теперь не вполне счастлива?
10 мая
На пасхе Жак и Гертруда встретились в моем присутствии; вернее сказать, Жак навестил Гертруду и беседовал с нею, впрочем, о вещах самых ничтожных. Он был гораздо меньше взволнован, чем можно было бы ожидать, и я снова повторил себе, что, если бы любовь его была по-настоящему пылкой, ее не так легко можно было бы побороть; правда, перед отъездом его в прошлом году Гертруда ему объявила, что ему не следует питать надежд. Я заметил, что теперь он говорит Гертруде «вы», и это несомненно правильнее; впрочем, я его об этом не просил, и я очень рад, что он сам сообразил. В нем безусловно есть очень много хорошего.
Тем не менее я начинаю подозревать, что эта покорность давалась Жаку не без усилий и не без борьбы. Досадно, однако, что принуждение, которое он наложил на свое сердце, в настоящее время в его глазах есть вещь прекрасная сама по себе; он хотел бы навязать его всем; я почувствовал это во время той дискуссии, которая недавно у нас состоялась и о которой я сообщал уже выше. Кажется, еще Ларошфуко сказал, что наш ум часто бывает игрушкой сердца. Конечно, я не рискнул тут же обратить на эти слова внимание Жака, зная его натуру и причисляя его к тем людям, которых спор еще сильнее заставляет отстаивать свою точку зрения; но в тот же вечер, отыскав как раз у апостола Павла (я мог поразить Жака только его собственным оружием) подходящий материал для возражения, я позаботился оставить к него в комнате записку, в которой он мог прочитать: «Кто не ест, не осуждай того, кто ест: потому что бог принял его» (Римл., ХIV, 3).
Я отлично мог бы выписать еще и продолжение текста: «Я знаю и уверен через господа Иисуса, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым: тому нечисто», – но не рискнул этого сделать, опасаясь, как бы Жак не усмотрел в моей мысли какого-то оскорбительного намека на Гертруду, а от этого следует всячески оберегать его ум. В данном случае дело явно идет о пище, но сколько находим в писании мест, которым следует придавать двойной и тройной смысл! («Если глаз твой…» – чудесное умножение хлебов, чудо в Кане Галилейской и т. д.). Заниматься мелочным спором здесь неуместно; смысл этого стиха глубок и пространен: ограничения должен вносить не закон, а любовь, и апостол Павел вслед за этим сейчас же восклицает: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». По причине недостаточности нашей любви нас и одолевает лукавый. Господи, изыми из моего сердца все, что не принадлежит любви… Ибо я напрасно бросил вызов Жаку: на следующее утро я нашел у себя на столе записку, на которой я выписал свой стих; на обратной стороне листка Жак всего только проставил другой стих из той же главы: «Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер» (Римл., ХIV, 15).
Я еще раз прочел всю главу. Вся она – отправной пункт для бесконечных дискуссий. И я стану терзать всеми этими недоумениями, стану омрачать этими тучами ясное небо Гертруды? Разве я не ближе к Христу и не приближаю ли я ее к нему, когда я учу ее и заставляю верить, что единственный грех – это покушение на счастье другого или неуважение к своему собственному счастью?
Увы! есть души, упорно отталкивающие от себя всякое счастье: неприспособленные к нему, неловкие… Я думаю о бедной моей Амелии. Я беспрестанно призываю ее, я толкаю ее, понуждаю у счастью. Ибо каждого хотел бы я вознести к богу. Но она все время уклоняется, замыкается в себе, как иные цветы, которые не распускаются ни от какого солнца. Все, что она видит, волнует ее и огорчает.
– Что поделаешь, друг мой, – ответила она мне недавно, – мне не дано было родиться слепой.
О, как мучительна для меня эта ирония и сколько приходится тратить сил, чтобы не позволить себе возмутиться! Мне кажется, однако, что ей следовало бы понять, как сильно подобного рода намеки на слепоту Гертруды способны задеть меня за живое! Тем самым она помогает мне уяснить, что меня больше всего восхищает в Гертруде ее бесконечная снисходительность, ибо ни разу еще мне не приходилось от нее слышать хотя бы малейшего осуждения по адресу ближнего. Правда, я никогда не допускаю, чтобы до нее доходили вещи, которые чем-нибудь могут ее задеть.
И в то время, как счастливая душа одним излучением любви распространяет вокруг себя счастье, вокруг Амелии все делается угрюмым и мрачным. Амелия могла бы сказать, что от нее исходят черные лучи. Когда после дня борьбы, посещений бедных, больных, обездоленных я возвращаюсь ночью домой, сплошь и рядом измученный, с сердцем, настоятельно требующим расположения, тепла и покоя, я обычно встречаю у своего семейного очага одни волнения, пререкания и неурядицы, которым я охотно бы предпочел уличный холод, ветер и дождь. Я отлично знаю, что старушка Розалия всегда старается все сделать во-своему, но дело в том, что в целом ряде случаев, когда жена хочет взять верх, старушка бывает права, а Амелия нет. Я отлично знаю, что Гаспар и Шарлотта ужасно шумливы, но разве Амелия не достигла бы больших результатов, если бы кричала на них менее громко и не каждую минуту? Все эти наставления, увещания и выговоры в конце концов утрачивают всякую остроту, как камешки, лежащие на пляже, так что дети страдают от них гораздо меньше меня. Я отлично знаю, что у малютки Клода режутся зубы (во всяком случае так уверяет Амелия всякий раз, как он начинает кричать), но разве его не приглашают невольно к крикам, когда Сара или мать сию же минуту прибегают и начинают его все время ласкать? Я глубоко убежден, что он кричал бы гораздо меньше, если бы ему позволили несколько раз покричать в полное свое удовольствие в те часы, когда меня не бывает дома. Но я знаю, что как раз в это время обе они особенно усердствуют.
Сара делается похожей на свою мать, и поэтому мне бы очень хотелось отдать ее в пансион. Увы, она совсем не похожа на Амелию той поры, когда мы обручились и когда ей было столько лет, сколько Саре; она похожа на ту женщину, какой стала Амелия под влиянием материальных хлопот, – я чуть было не сказал «упоения житейскими хлопотами» (ибо Амелия действительно ими упоена). В самом деле, мне трудно теперь узнать в ней того ангела, который недавно еще встречал улыбкой каждый благородный порыв моего сердца, которого я мечтал нераздельно слить с моей жизнью и который, как мне казалось, уже опережал меня и вел меня к свету – а, может быть, в то время я был просто одурачен любовью?.. Я не могу открыть в Саре ничего, кроме самых вульгарных склонностей. Подобно матери, она озабочена только самыми мелочными хлопотами; даже черты ее лица, не одухотворяемые никаким внутренним пламенем, потускнели и затвердели. Ни интереса к поэзии, ни хотя бы вообще только к чтению; я никогда не слышал, чтобы у них завязался разговор, в котором мне хотелось бы принять участие; и в их обществе я ощущаю свое одиночество еще мучительнее, чем когда я удаляюсь к себе в кабинет, что я, однако, начинаю делать все чаще и чаще.
Кроме того, начиная с осени, под влиянием раннего наступления ночей, я завел привычку всякий раз, как мне это позволяли мои разъезды, то есть когда я возвращался домой довольно рано, – уходить пить чай к мадемуазель де ла М. Я еще не сказал, что с ноября прошлого года Луиза де ла М. приняла к себе, кроме Гертруды, еще трех слепых детей, которых Мартен посоветовал доверить ее заботам. Гертруда обучает их теперь в свой черед чтению и выполнению разных мелких работ, и девочки эти проявляют большие способности.
Какой покой, какое отдохновение испытываю я всякий раз, вступая в согретую теплом обстановку «Овина», и как мне ее нехватает, когда мне случается не бывать там два или три дня подряд. Само собой разумеется, мадемуазель де ла М. свободно может содержать как Гертруду, так и троих маленьких жилиц, не стесняясь в деньгах и не утруждая себя хлопотами; три служанки с большим усердием помогают ей и освобождают ее от всякой работы. Вряд ли кто сможет сказать, что досуг и богатство были заслужены когда-нибудь с большим правом! С давних пор Луиза де ла М. посвящала себя заботам о бедных; это глубокорелигиозная душа, которая, видимо, только и делает, что откликается на земные нужды и живет для одних дел любви; ее волосы, схваченные кружевным чепчиком, совсем серебряные, и тем не менее трудно себе представить более детскую улыбку, более гармоничные движения, более музыкальный голос. Гертруда усвоили ее манеры, склад речи, своеобразную интонацию – и не одного только голоса, но и ума, но и всего ее существа, – так что я все время вышучиваю их обеих за это сходство, которого, однако, обе они упорно не признают. Мне бывает страшно приятно, если только находится время побыть немного у них, смотреть, как они, сидя рядом, причем Гертруда либо склоняет голову на плечо своего друга, либо оставляет одну руку в руках Луизы, слушают, как я читаю им стихи Ламартина или Гюго; как мне бывает приятно созерцать в их прозрачных душах отблеск поэзии! Даже маленькие ученицы не остаются совершенно бесчувственными. Дети эти в окружении любви и покоя удивительно развиваются и делают поразительные успехи. Я улыбнулся вначале, когда Луиза заговорила о том, чтобы они учились танцам, отчасти для здоровья, отчасти для удовольствия; но сейчас я сам удивляюсь ритмической грации движений, которые им теперь удаются, но которых они сами, увы, не способны ценить. Впрочем, Луиза де ла М. убеждает меня, что хотя они не видят своих движений, тем не менее они могут воспринять их гармоничность своими мускулами. Гертруда присоединяется к этим танцам с совершенно пленительной грацией и снисходительностью и вообще получает от них очень большое удовольствие. Иногда Луиза де ла М. сама начинает играть с девочками, и тогда Гертруда садится за пианино. Она сделала поразительные успехи в музыке; теперь она каждое воскресенье сама играет на органе в нашей часовне и импровизирует короткие прелюды к исполняемым песнопениям.
Каждое воскресенье Гертруда приходит к нам завтракать; мои дети встречаются с ней с удовольствием, хотя она с ними все больше расходится во вкусах. Амелия не очень нервничает, и завтрак проходит мирно и гладко. Все мы потом провожает Гертруду и пьем чай в «Овине». Это праздник для моих детей, которых Луиза слишком балует и пичкает лакомствами. Даже Амелия, не слишком чувствительная к любезностям, в конце концов развеселяется и кажется совсем помолодевшей. Я думаю, что теперь она с трудом перенесла бы лишение этой передышки в снотворном течении ее жизни.
18 мая
Сейчас, когда установилась хорошая погода, я мог снова отправиться погулять с Гертрудой, чего у нас с ней уже очень давно не бывало (недавно снова выпал снег, и дороги вплоть до последних дней находились в ужасном состоянии), как давно не бывало и того, чтобы мы с ней оставались наедине.
Мы шли быстрым шагом; свежий ветер румянил ее щеки и все время закрывал ей лицо ее белокурыми прядями. Когда мы проходил мимо торфяника, я сорвал несколько цветущих стеблей камыша, которые я засунул ей под берет и затем переплел с волосами, чтобы они лучше держались.
Мы еще почти не разговаривали и все еще удивлялись тому, что идем вместе, как вдруг Гертруда, повернув ко мне свое невидящее лицо, в упор спросила меня:
– Как вы думаете, Жак еще любит меня?
– Он примирился с тем, что должен отказаться от тебя, – ответил я в ту же минуту.
– Как вы думаете, он знает про вашу любовь ко мне? – проговорила она.
Со времени нашего объяснения прошлым летом, о котором я здесь писал, прошло уже больше полугода, но между нами ни разу (я сам этому удивляюсь) не было произнесено ни единого слова любви. Я уже отмечал, что мы никогда не оставались одни, и лучше было бы, если бы так оно впредь и осталось… От вопроса Гертруды сердце мое забилось с такой силой, что я вынужден был несколько замедлить шаг.
– Но ведь все тут, Гертруда, знают, что я тебя люблю, – воскликнул я. Но она не поддалась на эту уловку:
– Нет, нет, вы не отвечаете на мой вопрос.