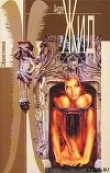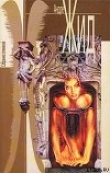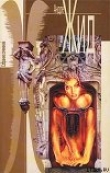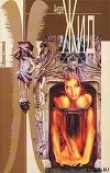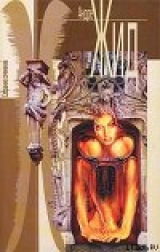
Текст книги "Пасторальная симфония"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Жид Андре
Пасторальная симфония
ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ
10 февраля 189…
Снег, падавший не переставая в течение трех дней, занес дороги. Я не мог отправится в Р…, куда за последние пятнадцать лет я два раза в месяц ездил для совершения треб. Сегодня в часовне Ла Бревин собралось всего тридцать человек верующих.
Я постараюсь использовать досуг, предоставленный мне моим невольным заключением, для того чтобы оглянуться назад и рассказать, как вышло, что я взял на себя заботы о Гертруде.
Мне хотелось здесь изложить все, что относится к формированию и росту этой кроткой души, которую я, видимо, вывел из мрака лишь для для благоговения и любви. Слава господу за то, что он доверил мне это дело.
Два с половиной года назад, едва я вернулся из Ла Шо-де-Фон, ко мне торопливо вошла незнакомая девочка, прося выехать за семь километров отсюда к бедной старухе, которая умирает. Лошадь еще не была распряжена; я велел девочке сесть в кабриолет и захватил с собою фонарь, не рассчитывая вернуться домой до наступления ночи.
Мне казалось, что я отлично знаю окрестности моего округа, но, когда мы миновали ферму Ла Содре, ребенок указал мне дорогу, по которой я не ездил еще ни разу. Впрочем, через километра два я узнал на левой стороне небольшое таинственное озеро, по которому я еще молодым человеком иногда катался на коньках. Целых пятнадцать лет мне не случалось больше его видеть, так как мои пасторские обязанности не призывали меня в эти края; я не сумел бы объяснить, где оно, собственно, находится, и до такой степени перестал о нем думать, что, когда вдруг узнал его в золотисто-розовом очаровании вечера, мне показалось, что я видел его только во сне.
Дорога шла вдоль реки, вытекавшей из озера, пересекала опушку леса и затем тянулась вдоль торфяника. Я безусловно еще ни разу не бывал в этих местах.
Солнце садилось, и мы довольно долгое время двигались в темноте, когда моя юная проводница указала наконец пальцем на склоне холма хижину, которую легко можно было бы принять за необитаемую, если бы не вылетавшая оттуда тонкая струйка дыма, отливавшая голубым в тени и бледневшая на золотистом небе. Я привязал лошадь к ближайшей яблоне; затем я прошел вслед за ребенком в темную комнату, где недавно скончалась старуха.
Суровость пейзажа, безмолвие и торжественность часа повергли меня в оцепенение. Довольно молодая женщина стояла на коленях возле кровати. Девочка, которую я принял было за внучку покойницы, оказалась служанкой; она зажгла дымящую свечу и затем тоже неподвижно остановилась в ногах кровати. Во время долгого пути я несколько раз пробовал с ней заговорить, но не мог вытянуть из нее и четырех слов.
Стоящая на коленях женщина встала. Она была не родственницей, как я было представил себе вначале, а просто соседкой, знакомой, за которой сходила служанка, заметив, что хозяйка ослабевает, и она согласилась посторожить у тела. Старуха, объяснила она мне, угасла без страданий. Мы уговорились с нею о мерах, которые необходимо принять для похоронных обрядов. Как и всегда в этих захолустных местах, мне пришлась все решать самому. Меня несколько смущало, должен сознаться, поручить охрану этого дома, каким бы бедным он ни казался, лишь соседке и девочке-служанке. Впрочем, трудно было бы допустить, что в каком-нибудь закоулке этого нищенского жилища было спрятано сокровище… Да и чем здесь я мог бы помочь? Я все-таки справился, остались ли у старухи наследники.
Соседка взяла в руки свечу и осветила ею угол очага: я мог смутно различить какое-то существо, сидевшее у камелька и, по-видимому, погруженное в сон; густая копна волос почти полностью скрывала ее лицо.
– Это слепая девушка; по словам служанки – племянница покойной; кажется, больше в семье никого нет, Ее следует устроить в богадельню; иначе я не представляю себе, куда ей деваться.
Я был неприятно поражен этими словами, предрешавшими в присутствии сироты ее судьбу, чувствуя, сколько огорченья могла причинить эта резкая фраза.
– Не будите ее, – тихо произнес я, приглашая соседку хотя бы только понизить свой голос.
– Ну, я не думаю, чтобы она спала; это ведь идиотка; она не умеет говорить и ничего не понимает, когда к ней обращаются. За все утро, проведенное мной здесь, она, можно сказать, с места не двинулась. Мне показалось вначале, что она глухая; однако служанка уверяет, что нет, а просто старуха, сама страдавшая глухотой, никогда не обменивалась с ней ни единым словом, как, впрочем, и ни с кем, и если раскрывала рот, то только для того, чтобы есть и пить.
– Сколько ей лет?
– Лет пятнадцать, я думаю; впрочем, я знаю об этом столько же, как и вы.
Мне сразу не пришла в голову взять на себя заботу об этой покинутой девушке; но позже, когда я помолился, или, вернее, во время молитвы, совершенной в присутствии соседки и юной служанки, опустившихся на колени у изголовья покойницы, я, тоже коленопреклоненный, вдруг подумал, что сам бог ставит на моем пути своего рода обязанность и что я не могу уклониться от нее, не проявив постыдного малодушия. Когда я поднялся на ноги, у меня уже созрело решение увезти девочку сегодня же вечером, хотя и не уяснил себе точно, что я с ней буду делать впоследствии и как я ее устрою. Я оставался там еще некоторое время, вглядываясь в уснувшее лицо покойной, морщинистый и провалившийся рот которой, казалось, был стянут шнуром, как кошелек скупца, приученный не выпускать из себя ничего лишнего. Затем, повернувшись в сторону слепой, я сообщил соседке о своем намерении.
– Ей, конечно, не следует завтра находиться здесь при выносе тела, – ответила она. И этим ограничилась.
Сколько вещей можно было бы устроить легко, не будь тех химерических затруднений, которые люди любят иногда себе выдумывать. С самого детства сколько раз мы отказываемся сделать намеченное нами дело единственно потому, что вокруг нас все время повторяют: он никогда этого не сделает!
Слепая позволила увести себя как какую-то инертную массу. Черты лица ее были правильны и довольно красивы, но совершенно лишены выражения. Я взял одеяло с тюфяка, на котором она, видимо спала в углу, под внутренней лестницей, выходившей на чердак.
Соседка проявила любезность и помогла мне ее тщательно закутать, так как ночь была светлая, но холодная; когда фонарь кабриолета был зажжен, я пустился в путь, увозя приникший ко мне ком тела, лишенный души, – тела, жизнь которого я воспринимал через передававшуюся мне едва ощутимую теплоту. Всю дорогу я думал: неужели она спит? И что это за непробудный сон! Чем отличается у нее бодрствование от сна? Жилица ее непросветленного тела – душа, должно быть, ждет, замурованная, чтобы коснулся ее наконец луч твоей благодати, господи! Позволь же моей любви совлечь с нее, если можно, эту ужасную тьму!
Я настолько пекусь об истине, что не хотел бы умолчать о том нелюбезном приеме, который я встретил по возвращении домой. Жена моя – подлинный цветник добродетелей; даже в самые тяжелые минуты, которые нам случалось иногда переживать, я не имел случая ни на мгновение усумниться в высоких качествах ее сердца; но ее природное милосердие не терпит неожиданностей. Это – женщина порядка, которая не любит ни преувеличивать, ни преуменьшать велений долга. Самое милосердие ее отличается размеренностью, как если бы богатства любви можно было вообще исчерпать. Это – единственный наш пункт расхождения…
Первая ее мысль, когда она увидела в тот вечер, что я приехал с девочкой, отлилась в восклицании:
– Что это еще за бремя ты взвалил на себя?
Как и всегда, когда между нами должно было произойти объяснение, я начал с того. что поспешил удалить детей, которые стояли тут же, разинув рты, полные вопросов и удивления. О, как далек был этот прием от того, чего мне так сильно хотелось! Одна только малютка Шарлотта стала вдруг плясать и хлопать в ладоши, сообразив, что из кабриолета должно появиться что-то новое, что-то живое. Но все остальные, уже вышколенные матерью, быстро сумели ее охладить и образумить.
Наступила крайне стеснительная минута. И так как ни жена, ни дети не знали, что перед ними находится слепая, они никак ни могли объяснить себе того исключительного внимания, с которым я направлял ее шаги. Я сам был до-нельзя выбит из колеи теми странными стонами, которые стала испускать несчастная калека, едва лишь моя рука оставила руку, за которую я держал ее во время поездки. Это не было человеческим стоном: можно было подумать, что жалобно скулит собачонка. Вырванная в первый раз из узкого круга привычных впечатлений, составлявших для нее весь ее мир, она никак не могла устоять на ногах, а когда я придвинул ей стул, она свалилась на землю, точно совсем не зная, что на него можно сесть; я подвел ее ближе к очагу, и она несколько успокоилась, когда ей удалось опуститься на корточки в той самой позе, в которой я увидел ее в первый раз прижавшейся к облицовке камина у старухи. В кабриолете она тоже соскользнула с сиденья и всю дорогу сидела у моих ног. И все-таки жена стала мне помогать, ибо естественные движения оказываются у нее самыми лучшими, но зато разум ее все время восстает и нередко берет верх над сердцем.
– Куда же оно теперь денется? – спросила она после того, как девочка была наконец устроена.
У меня задрожала душа, когда я услышал этот средний род, и я с трудом совладал с движением негодования. Все еще под сильным впечатлением своей долгой и мирной думы я сдержался и, повернувшись к своим, снова ставшим в кружок, положил руку на голову слепой.
– Я привел потерянную овцу, – сказал я со всей торжественностью, на какую я был способен.
Но Амелия не допускает мысли, что в евангельском учении может содержаться крупица неразумия или сверхразума. Я увидел, что она собирается возражать, и тогда я сделал знак Жаку и Саре, уже привыкшим к нашим мелким супружеским пререканиям и к тому же весьма мало любопытным от природы (часто даже недостаточно любопытным, по-моему). Но поскольку жена все еще была в замешательстве и как будто даже раздражена присутствием посторонней:
– Ты можешь говорить и при ней, – вставил я: – бедная девочка ничего не понимает.
Амелия начала с заявления, что она мне нисколько не возражает, – это обычное начало ее нескончаемо длинных разговоров, – и что ей, как всегда, остается только подчиняться всем моим абсолютно непрактичным, идущим вразрез с приличиями и здравым смыслом выдумкам. Выше я уже упоминал, что я еще ровно ничего не решил относительно будущего устройства этой девочки. Я всего только предусматривал (и при этом крайне смутно) возможность устроить ее у нас и должен сказать, что никто другой, как сама же Амелия, натолкнула меня на эту мысль, когда спросила, не нахожу ли я, что «у нас в доме и без того народу довольно». Потом она подчеркнула, что я всегда вырываюсь вперед, нисколько не заботясь о том, хватает ли сил у тех, кто живет со мной рядом; что, по ее мнению, пятерых детей и без того с нас достаточно и что после появления на свет Клода (который как раз в эту минуту, словно откликаясь на свое имя, начал кричать в колыбели) «счет», можно сказать, переполнен и что она совсем сбилась с ног.
При первых словах ее пропроведи из глубины моей души к самым губам подступили евангельские слова, но я их все-таки не сказал, ибо мне всегда казалось бестактным прикрываться в житейских делах авторитетом священного писания. Но, когда она сослалась на усталость, я сконфузился, припомнив, что уже не в первый раз мне случается перекладывать на плечи жены последствия необдуманных порывов моего рвения. Впрочем, ее укоры уяснили мне собственный долг; я кротко попросил Амелию рассудить, не поступила бы и она на моем месте совершенно так же, и неужели она могла бы покинуть в беде существо, которому явно не на кого больше опереться? Я прибавил, что я не делаю себе никаких иллюзий относительно того груза новых забот, который прибавит к ее хозяйственным хлопотам уход за увечной жилицей, и что я сожалею о том, что не в состоянии достаточно часто приходить ей в этом на помощь. Под конец я успокоил ее, как мог, и просил ее не срывать на неповинной девочке досады, которой та безусловно не заслужила. Я указал еще и на то, что Сара уже в таком возрасте, когда она может гораздо больше помогать матери, а Жак и совсем обойдется без ее забот. Одним словом, господь вложил в мои уста нужные слова для того, чтобы помочь ей примириться с фактом, который, – я глубоко в том убежден, – она давно бы уже приняла, если бы самое событие оставило ей больше времени для раздумья и если бы я не распорядился врасплох ее волей.
Я считал, что дело мое выиграно; дорогая моя Амелия собралась было с добрым сердцем подойти к Гертруде, как вдруг ее раздражение забушевало пуще прежнего, ибо при свете лампы, взятой для того, чтобы лучше осмотреть девочку, она убедилась в ее чудовищной нечистоплотности.
– Но ведь это зараза, – крикнула она. – Почистись щеткой, щеткой, да поскорее! Не здесь! Пойди, отряхнись на дворе. Боже мой; ведь все это облепит детей! Ничего на свете я так не боюсь, как вшей.
Возражать не приходилось, они так и кишели на бедной девочке. Я не мог удержаться от жеста отвращения при мысли, что я долго прижимал ее к себе в кабриолете.
Когда две минуты спустя, почистившись как нельзя более тщательно, я снова вернулся, я увидел, что жена упала в кресло, обхватив голову руками, и бьется в приступе рыданий.
– Я не хотел подвергать твою стойкость подобному испытанию, – нежно обратился я к ней. – Во всяком случае, сейчас уже вечер, время позднее, и ничего теперь увидеть нельзя. Я урву время от сна и буду поддерживать огонь, возле которого ляжет девочка. Завтра мы ей острижем волосы и отмоем ее как следует. Ты станешь присматривать за ней только тогда, когда ты сможешь глядеть на нее без ужаса. И я попросил жену ни слова не говорить детям.
Пора было садиться за ужин. Моя поднадзорная, в сторону которой наша старушка Розалия, подавая на стол, послала целую тучу суровых взглядов, с жадностью проглотила поданную ей мною тарелку супа. За едой все молчали. Я хотел было рассказать о своем приключении, поговорить с детьми, растрогать их, дать им понять и почувствовать всю необычайность этой исключительной бедности, возбудить в них жалость и симпатию к той, кого господь внушил нам взять к себе, – но я побоялся снова вызвать в Амелии раздражение. Казалось, будто мы дали друг другу слово пройти мимо и позабыть о событии, хотя никто их нас, конечно, не был в состоянии думать о чем-нибудь другом.
Я был очень тронут, когда, больше чем через час после того, как все улеглись и Амелия вышла из комнаты, – обнаружил, что малютка Шарлотта приоткрыла дверь и в одной рубашечке тихонько вошла босиком, а потом бросилась мне на шею, порывисто обняла и шепнула:
– Я не сказала тебе как следует покойной ночи.
Затем, показав кончиком своего маленького указательного пальца на мирно уснувшую слепую, на которую ей захотелось взглянуть еще раз, прежде чем отправится спать, она спросила:
– Почему я ее не поцеловала?
– Ты еще поцелуешь завтра. А сейчас оставим ее в покое. Она спит, – объяснял я дочурке, провожая ее до двери.
Затем я снова сел и проработал до утра, читая книги и подготовляясь к ближайшей проповеди. Несомненно, думал я про себя (так вспоминается мне сейчас), Шарлотта выказала сегодня гораздо большую чуткость, чем старшие дети, но разве каждый из них в ее годы не вводил меня вначале в заблуждение? Даже самый старший из них, Жак, от всего теперь сторонящийся, замкнутый… Принимаешь это за нежность, а они просто ластятся и ласкаются.
27 февраля
Сегодня ночью снега снова выпало очень много. Дети в восторге, потому что, по их словам, скоро придется выходить на улицу через окна. Дело в том, что утром дверь оказалась заваленной, и ходить можно только через прачечную. Вчера я успел выяснить, что в деревне запасов достаточно, так как некоторое время нам несомненно предстоит быть отрезанными от внешнего мира. Не первую зиму нас засыпает снегом, но я не запомню, чтобы когда-нибудь заносы бывали такие глубокие. Я пользуюсь ими для того, чтобы продолжить начатый мною вчера рассказ.
Я уже говорил, что, когда я вез к себе калеку, я очень неясно себе представлял, какое место может она занять в нашем доме. Я знал, что жена не окажет мне большого сопротивления, я знал, каким помещением мы располагаем, какие у нас ограниченные средства. Я поступил так, как и всегда поступаю: отчасти по природному влечению, отчасти из принципа, отнюдь не пускаясь в подсчеты расходов, в которые может вовлечь меня мой порыв (мне неизменно казалось, что это было бы противно духу Евангелия). Но одно дело полагаться на бога, другое – все возлагать на своего ближнего. Мне вскоре показалось, что я взвалил на плечи Амелии тяжкое бремя, такое тяжкое, что вначале совсем растерялся.
Я помогал ей изо всех сил состригать волосы девушки: я отлично видел, что одно это вызывало в ней отвращение. Но, когда дело дошло до того, чтобы ее отчистить и вымыть, я должен был уступить место жене; и я понял, что самые тяжелые и неприятные обязанности от меня отпадают.
Впрочем, Амелия не выразила больше ни малейшего неудовольствия. Видимо, она уже подумала об этом за ночь и приняла эту новую заботу; казалось, что она даже находит в ней известное удовольствие, и я заметил у нее улыбку после того, как она принарядила Гертруду. Беленькая шапочка покрывала ее остриженную голову, которую я слегка напомадил; кое-какие старые вещи Сары и чистое белье заменили грязные лохмотья, которые Амелия только что отправила в огонь. Имя «Гертруда» было выбрано Шарлоттой, и все мы немедленно его приняли, оставаясь в неведении относительно ее истинного имени, которого сама сиротка не знала, а я нигде не мог разузнать. Она, очевидно, была чуть-чуть моложе Сары, поскольку вещи ее, переставшие ей служить год тому назад, оказались девочке впору.
Мне следует сознаться: в первые дни я почувствовал, что погружаюсь в глубокое разочарование. Я несомненно сочинил себе целый роман о воспитании Гертруды, и реальная действительность принуждала меня круто с ним разорвать. Безразличное, тупое выражение ее лица или, вернее, его абсолютная невыразительность заморозило вплоть до самых истоков мою добрую волю. Целые дни она проводила у очага, держась настороже; стоило ей заслышать наши голоса, особенно же наше приближение, и черты ее лица, казалось, застывали; они утрачивали свою невыразительность, только когда они приобретали враждебность, при малейшей попытке воздействовать на ее внимание, она начинала стонать и ворчать как животное. Эта насупленность проходила только с наступлением часа еды, которую я ей подавал сам и на которую она набрасывалась с животной жадностью, невыразимо тягостной для посторонних. И подобно тому, как любовь призывает любовь, так и я чувствовал, что испытываю только отталкивание, стоя перед упрямым отказом этой души. Да, действительно, сознаюсь, – в течение первых десяти дней я доходил до отчаяния, даже до равнодушия к ней и в такой степени, что почти сожалел с своем первоначальном порыве, и очень бы хотел никогда ее к себе не привозить. И выходило очень забавно: Амелия, точно торжествуя при виде чувств, которые мне не удавалось от нее скрыть, начинала, казалось, расточать ей тем больше забот и тем больше благожелательности, чем яснее чувствовала, что Гертруда мне становится в тягость и что присутствие ее в нашей среде мне неприятно.
Так именно обстояло дело, когда меня навестил мой друг, доктор Мартен из Валь-Травера во время одного из объездов своих больных. Он очень заинтересовался тем, что я ему рассказал о положении Гертруды, и крайне изумился вначале, что она дошла до такой исключительной отсталости, будучи всего только слепой, но я объяснил, что ее увечье было усугублено еще глухотой старухи, все это время присматривавшей за ней и никогда с ней не разговаривавшей, так что несчастная девочка пребывала в состоянии полной заброшенности. Он стал уверять меня, что в таком случае мне нечего приходить в отчаяние, а что я просто плохо приступил к делу.
– Ты хочешь начать постройку, – сказал он мне, не обеспечив себя сколько-нибудь твердой почвой. – Подумай, что все в этой душе – еще хаос и что даже самые первые очертания ее еще не наметились. Для начала следовало бы собрать в один пучок несколько осязательных и вкусовых ощущений и прикрепить к ним в виде этикетки какой-нибудь звук или слово, которое ты должен воспроизводить ей как можно чаще, а потом добиваться, чтобы она его повторила. Главное, не вздумай с ней очень спешить: занимайся с ней в определенные часы и никогда не занимайся очень долго подряд…
– Одним словом, вся эта метода, – прибавил он, после того как растолковал мне ее до мелочи, – не заключает в себе никакого колдовства. Я ничего тут не выдумываю, и многие люди применяют ее на деле. Неужели ты сам не вспоминаешь? В то время как мы были с тобой в философском классе, наши преподаватели разбирали с нами аналогичный случай в связи с Кондильяком и его оживленной статуей… Если только, – оговорился он, – я не прочел того же самого позже в каком-нибудь психологическом журнале… Впрочем, неважно, на меня это произвело впечатление, и я даже запомнил имя несчастной девочки, гораздо более обиженной природой, чем Гертруда, поскольку она была слепой и глухонемой, которую подобрал доктор какого-то английского графства около половины истекшего столетия. Ее звали Лаура Бриджмен. Доктор этот вел дневник (тебе тоже не мешало бы это делать) успехов ребенка или во всяком случае вел его вначале, отмечая в нем приемы своего обучения. В течение ряда дней и недель он упорно заставлял ее осязать два предмета – булавку и перо, а затем она ощупывала на листе бумаги с буквами для слепых контуры двух английских слов pin и pen. В течение нескольких недель он не добился никаких результатов. Тело казалось необитаемым. Но доктор не терял надежды. «Я напоминаю собой человек, – сообщал он, – перегнувшегося через край глубокого черного колодца и с отчаянием забрасывающего туда веревку в надежде, что за нее ухватится чья-то рука». Ибо он ни минуты не сомневался, что там, на дне этой пучины кто-то есть и что в конце концов его веревка будет все-таки схвачена. И вот однажды он заметил, что бесстрастное лицо Лауры осветилось подобием улыбки; я думаю, что в эту минуту слезы любви и благодарности хлынули их его глаз и он упал на колени, вознося хвалы создателю. Дело в том, что Лаура вдруг сообразила, чего от нее добивался доктор. Спасена! С этого дня она вся превратилась в внимание; успехи сделались быстрыми; вскоре она принялась учиться самостоятельно и впоследствии стала директрисой института слепых – возможно, впрочем, что и не она, а другая… потому что не так давно были отмечены новые случаи, о которых много говорили газеты и журналы, на все лады удивляясь, – на мой взгляд совершенно неосновательно, – что такого рода создания могут быть счастливы. Но факт остается фактом: каждая из этих замурованных оказалась счастливой, и, едва получив возможность изъясняться, они начинали рассказывать о своем счастьи. Журналисты, естественно, приходили в восторг и извлекали отсюда поучение для тех, кто, «наслаждаясь» всеми своими пятью чувствами. смеют при этом жаловаться…
По этому поводу между Мартеном и мной разгорелась дискуссия, поскольку я восставал против его пессимизма и не допускал (как, по-видимому, допускал он), что наши чувства, в конечном счете, способны только на то, чтобы довести нас до отчаяния.
– Я думаю совсем иначе, – заявил я. – Я хочу сказать, что душа человека гораздо легче и охотнее рисует себе красоту, приволье и гармонию, чем беспорядок и грех, которые повсюду затемняют, грязнят, пачкают и сокрушают этот мир, о чем свидетельствует нам и чему заодно способствуют и помогают имеющиеся у нас пять чувств. Так что к вергилиевскому «fortunatos nimium» я скорее прибавил бы: «si sua mala nescient», чем: «si sua bona norint»,[1]1
Ссылка на стихи Вергилия (Георгики, II, 458–459):
«О блаженные слишком, – когда б свое счастие знали, – жители сел!»
Слова: «когда б свое счастие знали», герой повести хотел бы заменить выражением: «если б они не ведали зла».
(Прим. перев.)
[Закрыть] которому нас обычно учат. О, как счастливы были бы люди, если бы не ведали зла!
Он рассказал мне еще об одной повести Диккенса, которая, по его мнению, была непосредственно навеяна случаем Лауры Бриджмен и которую он пообещал мне скоро прислать. Через четыре дня я действительно получил «Сверчка на печи», которого прочел с большим удовольствием. Это немного растянутая, но временами волнующая история слепой девушки, которую отец, бедный игрушечный мастер, все время окружает иллюзией комфорта, богатства и счастья; ложь, которую искусство Диккенса из всех сил старается представить святой, но которую я, благодарение богу, не стал бы пробовать на моей Гертруде. На следующий же день после посещения Мартена я начал применять на практике его метод, вкладывая в него все свои силы. Я очень жалею теперь, что не делал заметок (как он мне это советовал) о первых шагах Гертруды по той сумеречной дороге, по которой я мог вести ее вначале только ощупью. В первые недели понадобилось гораздо больше терпения, чем можно было бы думать, и не столько из-за времени, которое я затрачивал на это начальное воспитание, сколько вследствие упреков, которые это воспитание на меня навлекло. Мне тягостно писать, что упреки эти исходили от Амелии; впрочем, если я и упоминаю о них, то потому лишь, что не связал с ними никакого враждебного или горького чувства, – во всеуслышание заявляю об этом на тот случай, если бы листки эти со временем были ею прочитаны. (Разве прощение обид не было заповедано нам Христом немедленно вслед за притчей о заблудшей овце?) Скажу больше: в те самые дни, когда я сильнее всего страдал от ее упреков, я никак не мог сердиться на то, что она ставила мне на вид, будто я уделяю Гертруде чересчур много времени. Я скорее упрекнул бы ее за недостаточно твердую веру в успешный результат моих трудов. Больше всего меня тяготило ее маловерие; но и оно, впрочем, меня не обескураживало. Сколько раз мне приходилось выслушивать: «Если бы из этого хоть что-нибудь выходило!..» Она упорно держалась того мнения, что труды мои пропадают зря; и ей, конечно, казалось нелепостью, что я посвящаю этому делу время, которым я, по ее разумению, мог с неизмеримо большей пользой распорядиться иначе. И всякий раз, как я был занят Гертрудой, она старалась ввернуть, что кто-то или что-то во мне очень сильно нуждается, а я растрачиваю из-за этой девочки минуты, которые следовало бы отдать другим. А кроме того я думаю, что ее мучила своеобразная материнская ревность, поскольку у нее то и дело срывалось: «Ты никогда так не возился ни с одним из наших детей». И это правда; хотя я очень люблю своих детей, мне ни разу еще не приходило в голову, что я обязан подолгу с ними возиться.
Я часто склонялся у выводу, что притча о заблудшей овце труднее других укладывается в сознании людей, считающих себя, однако, истинными христианами. Тот факт, что одна из овец, сама по себе, может в глазах пастуха оказаться дороже всех остальных взятых вместе, – вот что было выше их понимания! Слова: «И если есть у человека сто овец и одна из них заблудится, не оставит ли он девяносто девять из них на горе и не пойдет ли за той, которая заблудилась?» Эти слова милосердия были бы объявлены такими людьми, – посмей они только говорить прямо, – возмутительнейшей несправедливостью.
Первые улыбки Гертруды утешили меня во всем и воздали мне за труды сторицей. Ибо «истинно говорю вам, что овца эта, когда пастух ее отыщет, доставит ему больше радости, чем все девяносто девять овец, которые ни разу не заблуждались». Да, да, поистине должен сказать, что ни разу еще улыбка кого-либо из моих детей не затопляла мое сердце такой серафической радостью, как улыбка, которая забрезжила на лице этой статуи в то утро, когда она несомненно вдруг поняла и заинтересовалась всем, что я упорно стремился ей преподать в течение долгих дней.
Пятое марта. Я заметил себе эту дату, как обычно замечают день рождения. Это даже не столько улыбка, сколько преображение. Вдруг все черты ее одухотворились; это было внезапное озарение, напоминавшее пурпуровое свечение высоких Альп, от которого еще до зари начинает трепетать снеговая вершина, тем самыми уже отмеченная и выхваченная из мрака. Это можно было назвать мистической окраской. Я представил себе равным образом вифсаидскую купель в ту минуту, когда в нее сходит ангел возмутить спящую воду. Я почувствовал себя точно восхищенным от земли, созерцая блаженное выражение, которое появилось вдруг у Гертруды; мне представилось, что сила, посетившая ее в это мгновение, даже не разум, а скорее – любовь. И тогда меня охватил столь сильный порыв признательности, что, напечетлевая поцелуй на ее прекрасном челе, я мысленно возносил его богу.
Насколько трудно было добиться первого результата, настолько последующие успехи были стремительны. Сейчас мне стоит большого труда ясно припомнить, какими способами мы продвигались; иногда мне казалось, что Гертруда шагает вперед скачками, словно издеваясь над методичностью. Я вспоминаю, что вначале я налегал скорее на качества, а не на разнообразие предметов: горячее, холодное, теплое, сладкое, горькое, вяжущее, гибкое, легкое; затем шли движения: отстранять, придвигать, поднимать, пересекать, ложиться, связывать, разбрасывать, собирать и т. д. Очень скоро, позабывши о методе, я начал с нею беседы, не задумываясь над тем, в какой мере поспевает за мной ее ум; я действовал медленно, завлекая и приглашая ее задавать мне вопросы, сколько вздумается. В течение времени, когда она оставалась предоставленной самой себе, ум ее несомненно работал, а поэтому каждая новая встреча была для меня новым удивлением: я чувствовал, что ее отделяет от меня менее плотная ночь. Как-никак, – говорил я себе, – а это похоже на то, как теплый воздух и настойчивая работа весны мало-по-малу одолевают зиму. Сколько раз поражался я тому способу, каким стаивает снег. Невольно думаешь, что покров его разрушается снизу, хотя внешний облик ничуть не меняется. Каждую зиму Амелия попадает впросак и возвещает, что снег лежит по-прежнему, не меняясь; мы все еще верим в его плотность, а он вдруг возьмет и осядет и расступится здесь и там, пропуская новую жизнь.
Из опасения, как бы Гертруда не зачахла, неотлучно, точно старуха, засиживаясь у камелька, я начал выводить ее на прогулки. Но она соглашалась гулять не иначе, как опираясь на мою руку. Удивление и страх, выказанные ею вначале, на первых прогулках, навели меня на мысль, прежде чем она сама мне об этом сказала, что она никогда еще на пускалась в окружающий мир. В той хижине, где я ее встретил, все заботы о ней сводились к заботам о том, чтобы давать ей пищу и помогать ей тем самым не умереть, – я никоим образом не сказал бы: жить. Ее темная вселенная ограничивалась стенами той единственной комнаты, в которой она неизменно оставалась; в редких случаях осмеливалась она доходить до порога в летние дни, когда дверь открывалась на огромную светлую вселенную. Позже она мне рассказывала, что, слушая пение птиц, она представляла себе это пение таким же непосредственным проявлением света, как и тепло, ласкавшее ей щеки и руки, и что она, – правда, не особенно задумываясь над этим, – находила вполне естественным, чтобы нагретый воздух начинал петь, подобно тому, как стоявшая у огня вода закипала. Но, в сущности, все эти вещи оставляли ее спокойной, и она ни на чем не останавливала внимания, пребывая в состоянии глубокого оцепенения до того дня, когда я стал ей уделять свое время. Я вспоминаю ее нескончаемые восторги после того, как я ей объяснил, что слышимые ею голоса исходят из живых существ, единственное назначение которых, по-видимому, – ощущать и выражать радость, разлитую в природе. (Именно с этого дня она взяла привычку говорить о себе: я полна радости, как птица.) И, однако, мысль, что пение это говорило о великолепии зрелища, которого она не могла видеть, начинала вызывать в ней грусть.