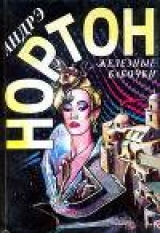
Текст книги "Железные бабочки"
Автор книги: Андрэ Нортон
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Глава тринадцатая
Я скорчилась в быстро угасающем свете, не отрывая взгляда от двери. Приходили и тут же исчезали нелепые мысли. Напасть на тюремщицу, когда она зайдёт в следующий раз. Но я не доверяла своим силам. Несмотря на старость, она производила впечатление сильной, способной справиться с любым пленником женщины. Да я и не была уверена, что она приходит одна. Кто-нибудь мог ждать её в коридоре. Но я отказывалась верить, что не отыщу хоть какое-то слабое место и не использую его себе на пользу.
Тем временем, впервые, может быть, за много дней, я ощутила голод. По крайней мере меня ещё кормили. Я подошла к доске на цепях и посмотрела, что лежит на подносе. Две тарелки, деревянные, какие можно найти в хижине самого бедного крестьянина. На старом дереве я даже в этом тусклом свете увидела пятна. Проголодавшись, я не обращала на них внимания. В одной тарелке, глубокой, которую можно было бы назвать миской, оказался густой остывший суп, на его поверхности плавали комки жира. На другой лежали два толстых куска чёрного хлеба. Кружка с отбитым краем содержала что-то вроде деревенского пива. Единственное приспособление для еды – старая роговая ложка. Я зачерпнула суп и принялась есть, окуная хлеб в жидкость. Жевать его оказалось трудно, он совсем зачерствел, и от него опять начала болеть челюсть.
Конечно, это не больно-то походило на деликатесы стола графини. Однако голод эта еда утолила, и я съела всё до крошки. Только пива показалось мне отвратительным, и я не смогла выпить всю порцию.
А потом я долго ждала в темноте, которая всё сгущалась (наконец даже мои глаза, привыкшие к полутьме, ничего не могли разглядеть), но женщина за подносом не вернулась. Я решила, что на сегодня её работа закончена.
Я никогда не боялась темноты, но теперь почувствовала себя погребённой заживо. Холод в камере стал сильнее, я забилась в постель и натянула на себя одеяло. Проведя руками по остаткам вышивки, я вспомнила имя, вырезанное на дереве доски, – Людовика. Принадлежало ли ей это старое покрывало? Остаток прежней роскоши, оказавшийся каким-то образом в её камере?
Неужели это прекрасное презренное существо, чью скуку и властность так хорошо изобразил покойный художник в сцене дня рождения курфюрстины, – неужели она дошла до такого? Я вспомнила, что говорила мне в карете графиня. Сколько она могла прожить в этой камере, лишённая всего, что составляло её жизнь, что она считала не просто своей привилегией, а правом?
Я обнаружила, что почти вопреки своему сознанию встала и двигаюсь к этой деревянной скамье, вытянув перед собой руку. Еле заметное пятно света обозначало окно, но перед ним совершенно ничего не было видно. Я больно ударилась о край доски, провела пальцами, отыскивая сама не зная почему буквы этого злополучного имени. Они были так глубоко врезаны в дерево, что мне казалось: никакое время их не сотрёт.
Сколько дней ей потребовалось, чтобы вырезать эту памятную надпись? Каким инструментом она пользовалась как пером? Гнев должен был наполнять её, гнев, горячий, всепоглощающий, но не отчаяние. Я была так уверена в этом, словно собственными ушами слышала её гневные крики. Я провела пальцами по надписи, двинулась дальше, и вдруг мою руку что-то остановило, почти с такой же силой, как хватка барона. Я коснулась круглого рисунка под именем.
Проводя пальцем по линиям рисунка, я вначале не могла понять его смысл. Попыталась представить себе герб. Нет, хоть я его не видела, на герб не было похоже.
Но почему-то снова я почувствовала уверенность, что тем, кто вырезал этот рисунок, двигал гнев. И ещё… Я рывком отдёрнула руку. Неужели мне и в этой неаппетитной пище подсунули какую-то отраву, разрушающую мозг? Я спрятала руку под складки одеяла, двинулась назад, пока ноги мои не ударились о лежанку, и села или, скорее, упала на постель.
Я же не могла на самом деле этого почувствовать – жар, быстро усиливающийся жар, как будто рисунок превратился в ведро с раскалёнными угольями. Поверить в это означало признать, что я свихнулась. Нет, я не позволю себе утратить разум, что бы ни предстояло мне!
Я лихорадочно прошептала:
– Я Амелия Харрач! Меня заключили сюда… по причине, которую я не знаю. Я существую… я…
Рука, которая почувствовала – которая непочувствовала – эту перемену, теперь прижималась к ожерелью с бабочками, лежавшему у меня на груди. И ожерелье как будто послужило каким-то спасительным амулетом, страх оставил меня. Но «амулет», «заклинания»? Такие вещи существуют только в глупых старых сказках.
И всё же ничто не могло заставить меня снова встать, пересечь комнату и коснуться вырезанного в дереве рисунка. Я пыталась выругать себя за трусость. Это суеверие, убежище необученного сознания, когда оно встречается с чем-то не имеющим разумного объяснения.
Что рассказывала графиня о курфюрстине? Что среди её верных слуг был колдун, знавшийся с силами, не принадлежащими этому миру? Но такую веру современная рациональная мысль отвергает. Эту землю когда-то заливала кровь невинных, которых враги, подгоняемые истерическим страхом, обвиняли в том, что они слуги дьявола. Неудивительно, если в стране, настолько одержимой верой в дьявола, подобные поверья сохранились – или сохранялись сто лет назад.
Тем не менее я долго не могла уснуть. Мне даже не хотелось ложиться в постель. Я сидела в темноте и напряжённо прислушивалась – к чему?
Лишь однажды в камере послышался крик, от которого я вздрогнула и чуть не вскрикнула сама. Крик донёсся из окна. «Какой-то крылатый ночной охотник в поисках добычи», – сказала я себе. Помимо этого ничего не нарушало тишину, такую тишину, что мне казалось, будто я слышу биение собственного сердца.
Нет, следовало думать о другом, о том, что мне делать. Меня не должно запугивать прошлое, хоть сейчас я и беспомощна. Я была жива… и снова обретала силы. Завтра можно будет что-нибудь узнать от тюремщицы… я должна потребовать, чтобы меня выслушал комендант этого места.
Труда… графиня… обе говорили, что здесь стоит гарнизон. Его командир должен быть моим главным тюремщиком. Если я подниму шум, он может достичь его ушей. И я смогу попытаться… должна…
На этот раз послышался не крик ночной птицы, нет! Я плотнее запахнулась в одеяло и повернула голову в темноте, вначале к еле заметному окну, но потом убедилась, что звук исходил не от него.
Скорее… от стены, от той самой стены, к которой цепями крепилась доска с именем злополучной курфюрстины! Пробиваясь сквозь камень, звуки напоминали журчание воды. Пение? Очень слабое к далёкое, с неразличимыми словами. Но я была уверена, что услышала ритм, напоминающий пение… или молитву.
Я напрягла слух и убедилась, что права. Пение приближалось, становилось громче, хотя по-прежнему отдельные слова и не были слышны.
Звучал, как мне показалось, только один голос, очень тихо. Постепенно он стал громче, стали различимы паузы между словами. Скорее церковное пение, чем настоящая песня, только со словами из иностранного языка, со странным акцентом, со вздымающейся и падающей интонацией, иногда настолько высокого тона, что походили на крик маленькой птицы, а иногда просто гортанный хрип.
Теперь звуки доносились прямо из-за стены. Я отбросила одеяло и сделала то, что не делала, не могла сделать раньше: пересекла комнату, наклонилась над висячим столом и прижалась ладонью к холодному камню. Правой рукой я взяла чашку, пролив остатки горького пива, и заколотила по стене.
Я даже не думала о том, что неизвестный певец может мне помочь. Но это явно был звук человеческого голоса. Я была совершенно одна в темноте, и мне так хотелось дать кому-нибудь знать о себе.
При первом же ударе о камень пение стихло. Ещё один пленник по ту сторону стены? Такова была моя первая догадка. Однако к моему величайшему разочарованию последовало полное молчание, хотя я сама не знала, чего ожидала. Потом… слова… не песня… слова, со странным стоном:
– Смерть… смерть…
Предупреждение? Но что-то странное было в этом крике. Я снова подняла кружку и сильно ударила.
– Смерть… – ответил мне вопль.
– Кто ты? – выкрикнула я, надеясь, что звук преодолеет стену. – Где ты?
– Бойся смерти…
Не страх, но раздражение дало мне силы заколотить в третий раз. Я начала подозревать, что этот голос – просто ещё одно изобретение моих тюремщиков, которое должно заставить меня усомниться в своём рассудке. Конечно, изобретательно, но кто может сказать, какие пытки придумал барон, чтобы держать меня под контролем?
– Кто ты? – снова спросила я.
Ответом была тишина. Я наконец опустила кружку, решив, что сегодня ничего больше не добьюсь от этой вызывающей раздражение стены.
Я вернулась на койку, но почему-то теперь почувствовала бо́льшую уверенность в себе, чем когда впервые пришла в себя. Если со мной играют в такие детские игры, значит, я для них по-прежнему важна, они должны обо мне думать. Это дало мне некоторое удовлетворение, так что я смогла наконец лечь и уснуть.
Мне ничего не снилось. Как будто появилась какая-то новая уверенность. Может, потому что я не впала в панику, услышав этот голос, преодолела страхи, которые до того рисовало воображение, когда мне показалось, что дерево столешницы нагрелось. Я победила свой страх и теперь могла противостоять тем, кто пытался запугать меня. Нервы успокоились, и я проснулась, чувствуя себя гораздо сильнее душой и телом. Так я себя ещё не чувствовала с того памятного утра в Кестерхофе.
Дневной свет от окна полосой падал на пол моей камеры. Он добавил мне уверенности, решимости больше не играть роль покорной пленницы. Случилось так, что очень скоро представилась возможность проверить эту решимость. Потому что почти сразу заскрежетала массивная дверь в камеру. На этот раз я встала, ни за что не держась, готовая лицом к лицу встретить свою надзирательницу.
Она вошла как обычно, неся на этот раз сосуд с водой. На руке у неё висела какая-то ткань, похожая на одежду. Без всяких церемоний тюремщица бросила её в ногах постели и с такой силой поставила сосуд, что вода выплеснулась.
– Кто ты? – отчётливо спросила я, встав у неё на пути, когда она повернулась к тарелкам, которые принесла накануне вечером. Тюремщица посмотрела на меня так, словно я стул или стол на цепи. И не произнесла ни звука.
Я схватила её за руку под жёстким серым рукавом. С поразительной силой она высвободила руку, потом оттолкнула меня, так что я едва не потеряла равновесие и отлетела назад, к кровати. Показав на меня, потом на одежду и на воду, она сделала знак, что я должна вымыться и переодеться в платье, которое она принесла. Но при этом опять не произнесла ни звука, и я подумала, что она, возможно, и на самом деле немая. А может, просто повинуется приказу не разговаривать с пленницей.
Забрав поднос и не обращая на меня внимания, она вышла.
В связке я нашла два полотенца, костяной гребень и кусок жёлтого мыла с сильным запахом, завёрнутого в ткань. Одежда была грубая, халат из жёсткого материала, нижняя юбка – всё того же тусклого цвета, что и одежда самой тюремщицы. Всё чистое, и я обрадовалась возможности избавиться от своей грязной мятой одежды, хотя и приходилось надевать тюремную робу. Я умылась, хотя мыло жгло кожу, а лицо в синяках я смогла лишь слегка смочить. Зеркала не было, но я причесалась на ощупь, распустив волосы по плечам.
Едва успела я закончить свой туалет, как вернулась тюремщица. На этот раз она принесла поднос, а на плече – постельное бельё. Со стуком поставив поднос на стол, она сняла простыни с кровати и бросила свежие грудой на середину, ясно дав мне понять, что заправлять постель я буду сама.
На завтрак подали кашу из какого-то зерна, жёсткого и безвкусного, но тёплую. Стоял также кувшин с жидким синеватым молоком. И всё. Женщина молча, с бесстрастным лицом ждала у двери, пока я кончу есть, потом забрала посуду и вышла.
Моя новая одежда, хотя и чистая, оказалась старой и сшитой на человека гораздо полнее меня. Она висела на мне мешком. И пахла затхлостью, как будто где-то долго пролежала. Юбка заканчивалась высоко над лодыжками, а рукава оставляли неприкрытыми запястья и бо́льшую часть руки. Я расправила грубые простыни и застелила постель, растянув этот процесс как можно дольше, чтобы иметь хоть какое-то занятие. Потом снова начала внимательно разглядывать камеру.
Вчера я встала на стул и выглянула наружу. Тогда я поняла, что с трудом боком могла бы вылезти в окно, но внизу лежала пропасть, глубину которой я даже не смогла определить. В камере были кровать, стул, подвесная доска-стол и в углу приспособление для отправления телесных надобностей, простая дыра в небольшом каменном возвышении, уходящая в тёмную глубину.
Желая чем-то заняться, я придвинула стул к столу и начала изучать надписи, оставленные теми, кто до меня попадал в эту камеру. Это были все имена и, как я заметила, преимущественно женские. Но ни одно не могло сравниться по глубине с тем, что я случайно нашла накануне. Эта надпись находилась непосредственно под концом одной цепи, там, где кольцо врезалось в дерево. Вторично я провела по её буквам кончиком пальца.
Несомненно, «Людовика», которая провела немало времени и затратила много энергии, чтобы вырезать эту надпись, была той самой женщиной, чью историю использовали как урок неверным жёнам. Возможно, она вполне заслуживала того, что с ней случилось, однако…
Меня больше всего интересовал рисунок под именем. Теперь, когда свет из окна стал ярче, я хорошо разглядела его линии. Круг, а в нём пятиконечная звезда… Линии получились удивительно прямые для сделанных вручную. Я вполне могла бы накрыть рисунок ладонью, хотя мне не хотелось его касаться.
Вглядываясь внимательней, я увидела, что в конце каждого луча звезды нанесены более мелкие штрихи, неясные, просто каракули, но все разные. Это был явно не герб и не часть какого-то геральдического рисунка.
Осматривая стол, я выяснила, что под многими именами тоже стоят символы – в основном грубо начерченные кресты или другие религиозные знаки, сделанные небрежно, не с той аккуратностью, как знак отчаяния Людовики.
Отчаяние? Нет, как-то оно не вяжется с этой женщиной из рассказа графини. Гнев, горячий неудержимый гнев скорее выразит то, что она чувствовала, заключённая здесь на годы, лишённая возможности поступать, как ей хочется. Я так была уверена в этом, словно давно сгинувшая курфюрстина по-прежнему расхаживала взад и вперёд по узкому пространству между окном и дверью, сжав руки в кулаки, думая только о мести, о том, как она отомстит – если сможет.
Такой яркой была эта картина, что я вздрогнула. Как будто установилась связь между прошлым и настоящим, как будто курфюрстина устремилась ко мне со своей ненавистью и нашла во мне нечто такое, что связывает нас.
Я задрожала, держась обеими руками за край стола. Да, у меня тоже имелись причина и право потребовать справедливости! Моё нынешнее положение – не моя вина, разве что следовало мне быть поумнее и поосторожнее. Но я никому не причинила вреда. Разве что…
Труда! Что, если от неё избавились только потому, что она слишком много знала? Наверное, я никогда этого не узнаю.
Я сидела, глядя на круг со звездой, символом, который… который… Я заставила себя выпустить край стола и протянуть вперёд левую руку, ту, на которой всё ещё сидело это кольцо-клеймо. Концом указательного пальца я коснулась середины звезды. Слабые линии здесь были едва заметны, но на ощупь вполне различимы. Неужели я ожидала почувствовать тепло? Это же глупо! Всего лишь воображение!
Не сознавая своих действий, я начала обводить звезду против часовой стрелки, задерживаясь над каждым символом, которые я хорошо ощущала и почти не видела. Как будто исполняла какой-то ритуал, обряд, необходимый, чтобы открыть потайную дверь…
Страха, который накануне отправил меня к кровати, я не испытывала. Прикосновения к этим линиям приносили какое-то чувственное, приятное удовлетворение. Яркое изображение разгневанной женщины померкло в сознании. Зато росло что-то другое, уверенность, вера в то, что у меня есть надежда, что найдётся выход.
Проследив рисунок до конца, я снова села на стул, сложив руки на коленях и глядя на стену, на цепи, поддерживающие доску. Снаружи они были совсем ржавые, но я не сомневалась, что под ржавчиной скрывался прочный металл. Я заметила, что они не прикреплены, а скорее зажаты между камнями. Вытащить их совершенно невозможно. И даже если я это сделаю, что мне даст короткая цепь? Она не поможет спуститься по стене и утёсу, на котором стоит крепость.
Пение… стон… я отбросила их, как попытку сыграть мне на нервах… по крайней мере стон. Но пение теперь показалось мне другим делом. Пение можно соотнести с церковью. Это крепость, тюрьма. Мысли мои перескочили на принцессу Аделаиду, грозную аббатису, которую я видела всего один раз. Возможно, я ошибалась насчёт своей тюремщицы. Она скорее член какого-то религиозного ордена, размещённого в Валленштейне, как ни странно это может показаться. И обет молчания сделал её немой.
В таком случае ночное пение могло быть частью обряда. Я мало знала о церкви в Гессене, о том, какие обряды тут соблюдались. Следовало ожидать, что орден, который находится под влиянием или властью принцессы Аделаиды, отнесётся ко мне без жалости. Но если я здесь не по приказу барона, можно будет попытаться заключить новый договор. Мне требовалось только доказать, что я не хочу ничего завещанного мне покойным курфюрстом, начиная с мужа. Я обнаружила, что снова пытаюсь снять кольцо – и снова безрезультатно.
День тянулся ужасно долго, и я поняла, как тяжело сидеть в камере, мучительно думать и ничего не делать. Я вспоминала свои поступки с самого начала этого злосчастного приключения и видела, какую проявила глупость. Полковник… я с горечью поняла, что это человек слишком сильно воздействовал на меня. Он прямо-таки излучал уверенность, и я приняла его как гарантию своей безопасности. Мне следовало понять, какая ненадёжная это гарантия, когда он начал старательно избегать меня на пути в Гессен, оставил в обществе графини, и совершенно исчез, как только мы оказались в Аксельбурге.
Дикое ночное приключение, когда я впервые познакомилась с дедом, снова заставило меня почувствовать, что в присутствии полковника я в безопасности, что всё будет хорошо, он устранит все угрозы. Но он не смог защитить даже себя. Арестован, как сообщила графиня. Может быть, уже мёртв…
Мёртв – я вспомнила слова из-за стены. Трудно думать о смерти, когда мы сильны и молоды. Смерть – это то, что приходит к остальным, не к нам. Даже сейчас я не могла принять смерть.
Съев обед, принесённый молчаливой надзирательницей, я заставила себя лечь. Судя по свету, солнце недавно перевалило за полдень. Еда – снова густой суп, чёрствый хлеб и кувшин пива. Пиво я отодвинула и решительно потребовала воды.
Женщина не обратила никакого внимания на мои слова и стояла у двери, дожидаясь, пока я не закончу есть. Но я поняла, что моё предположение о том, что она относится к какому-то религиозному ордену, верно. Ожидая, она пропускала через искривлённые пальцы верёвку с узлами, на каждом узле задерживаясь, хотя губы её не двигались в молитве.
Когда я поела, она унесла тарелки, но кувшин оставила, с силой стукнув им о стол. Дверь закрылась. Я подозрительно посмотрела на кувшин. Слишком хорошо я помнила отравленное вино. Может, и этот напиток был отравлен, чтобы привести к тому, что я слышала ночью? Возможно. Питьё было такое горькое, что могло скрыть любой посторонний привкус. Придётся на сегодня обойтись супом. Взяв кувшин, я вылила его содержимое в дыру в углу. Пусть подумают, что я выпила.
Темнело, я закуталась в бархатное покрывало, которое использовала как шаль и которое тюремщица не забрала, когда снимала постельное бельё. Но мне ненавистно было его прикосновение, местами его покрывали пятна – словно старая грязь. Неужели оно действительно осталось от тех дней, когда тут была заключена Людовика?
Я думаю, что всё-таки задремала. Ко мне больше не приходили, и я поняла, что кормят меня дважды в день. Но теперь я была гораздо сильнее, а в голове яснее, чем накануне. Странное чувство ожидания разбудило меня в темноте. Я не могла сказать, который час. Ночь стояла очень тёмная, и прошло какое-то время, прежде чем я разглядела окно.
И тут оно началось – то же далёкое пение за стеной. Оно становилось всё громче. Я представила себе процессию женщин, несколько последовательниц ордена, забытого миром. Они проходят ночным путём к часовне. И их путь пролегает прямо за моей стеной.
Внимательно прислушиваясь, я решила, что слышу только один голос, а не хор. Неужели моя тюремщица в темноте обретает дар речи, чтобы исполнить ритуал, который наполняет значением её дни?
Я лежала на койке у самой стены. И на этот раз не стала колотить кружкой. Бесполезно. В ответ я получу только насмешку. Поэтому я не уходила со своего места. Этот звук, пусть непонятный, означал, что я здесь не одна. Ведь до сих пор я слышала только свой собственный голос.
Пение оборвалось, не резко, как накануне, когда я застучала, а так, словно ритуал закончился. Наступила тишина, густая тишина ночи, даже ветра за окном не было слышно.
Потом – звук, в самой комнате, где я находилась. Я протянула руки и схватилась за край стола. Он сдвинулся! Щелчок. И…
Свет, слабый, дрожащий, но он ослепил мои глаза, привыкшие к темноте. Появилась светлая линия над подвесной доской, высоко, так что мне пришлось закинуть голову. Линия стала шире, размером с мою ладонь, ещё шире. Камни отодвигались, образуя отверстие, не как дверь, но всё же отверстие, сквозь которое я могла видеть – как в окно. Но это окно было гораздо шире того, что в моей камере.








