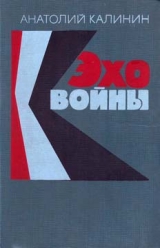
Текст книги "Лунные ночи"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Я же пьес не пишу, – отшутился Михайлов.
Необычайного спутника приобрел себе Еремин. Еще когда они только выехали за город и по сторонам дороги потянулись серые, каштановые и сизо-зеленеющие поля стерни, зяби и молодой озими, Михайлов недоверчиво осведомился у Еремина:
– У вас действительно неотложные дела в колхозах?
– Конечно, – удивился Еремин.
– И вам этих дел хватит на всю неделю? – продолжал допытываться его спутник.
Еремин усмехнулся.
– Это только самых срочных. – И незаметно для себя повторил те слова, которые произнес на пленуме Тарасов: – Идет зима…
Михайлов недолго молчал, что-то обдумывая. Сидевший рядом с шофером Еремин видел в стекле машины его отражение, смутный блеск глаз под полями шляпы. И потом Михайлов снова удивил Еремина словами:
– Мне бы очень не хотелось как-то связывать вас и нарушать ваши планы. Прошу вас, – он дотронулся до плеча Еремина, – если можно, позабыть, что вы ездите не один, и делать все так, как будто вы ездите один…
Еремин покосился на его отражение в стекле, не зная, как ему ответить и нужно ли вообще отвечать на эту неожиданную и странную просьбу. Сказать, что он ее выполнит, было бы неискренним: можно ли проездить неделю с человеком в одной машине и остаться бесчувственным к его присутствию? В конце концов он счел за лучшее вообще не отвечать. Тем более что его спутник уже откинулся в свой угол на спинку сиденья и, глядя на убегавшие назад поля, как будто совсем и не ждал ответа.
Впрочем, в первом же колхозе, как только они въехали в район, у Еремина сразу оказалось столько забот, что он и в самом деле стал надолго забывать о своем спутнике. Как всегда, у самого порога зимы обнаруживалось, что многое так и недоделано: сквозь крышу телятника светят звезды, в коровнике разгуливает ветер и заготовленных кормов, пожалуй, до новой травы не хватит… И лишь иногда, ругаясь с председателем колхоза из-за кормовых рационов, выступая на собрании животноводов, разговаривая с директором МТС, Еремин ловил на себе внимательный взгляд Михайлова и испытывал смутное беспокойство и раздражение. Но тут же он опять забывал, что не один и что надо держать себя как-то иначе, по-другому. И это, пожалуй, было то единственное беспокойство, которое причинял ему спутник.
Если бы у Еремина дома, в личной библиотеке, не было книжки рассказов Михайлова с напечатанным на обложке портретом автора, – правда, не с галстуком и в шляпе, а с погонами капитана, – то можно было бы и заподозрить, что его спутник совсем не писатель. А если он писатель, то почему же Еремин ни разу не видел, чтобы Михайлов вынул свою записную книжку? Чехов, например, никогда не расставался с записной книжкой. Еремин собирался при случае завести с Михайловым разговор об этом.
И если он писатель, то почему не просит секретаря райкома, чтобы он во время поездки знакомил его с наиболее замечательными людьми в районе? Казалось, Михайлов совсем и не искал встреч с такими людьми и его вполне удовлетворяли встречи с теми, с кем они встречались в поездке по степи, в бригадах, на фермах. Обычно Михайлов где-нибудь в бригаде или на ферме, не вмешиваясь и как бы со стороны, слушал разговор Еремина с человеком, если не отходил в это время к другим людям, чьи разговоры могли заинтересовать его больше. И, присматриваясь к своему спутнику, Еремин все больше приходил к выводу, что Михайлова каждый раз, когда они приезжали на новое место и встречались с новыми людьми, больше всего интересовало подключиться к их жизни как-то так, чтобы она продолжала идти без изменений, как она шла до сих пор, и слышать то, что люди обычно говорят между собой, а не их ответы на вопросы, на которые они не могут ответить иначе, чем это предусмотрено самим характером вопроса. Еремин и на своем опыте знал, что вот такие, подсказанные самими вопросами ответы никогда не помогают до конца понять существо дела.
Он уже склонялся к тому, что все это объясняется немолодыми годами его спутника и той чертой созерцательного восприятия действительности, которая, очевидно, составляла главную черту его характера. Но должен был убедиться в обратном.
В колхозе имени Кирова председатель Степан Тихонович Морозов пожаловался Еремину в присутствии Михайлова, что заготовленного на овцеферме корма хватит всего до половины зимы. Хватило бы и на всю зиму, если бы не указание райисполкома сжечь на полях стебли убранного подсолнечника. А это означает лишиться по меньшей мере еще трехсот тонн отличного корма.
– Как сжечь? – не поверил Еремин. – Зачем?
– На поташ, – объяснил Морозов. – Говорят, он для промышленности идет. Мы, конечно, не против того, чтобы промышленности помочь, но вы сами знаете, Иван Дмитриевич, какое у нас в этом году положение с кормами. Загубим овец.
– Это безобразие! – вдруг услыхал Еремин рядом с собой восклицание Михайлова и немало удивился. Не только звук его голоса, но и глаза выдавали возмущение. – Вам, Иван Дмитриевич, нужно сейчас же это отменить. Да, отменить! – продолжал он с горячностью, так не вяжущейся с тем представлением об уравновешенности его характера, которое сложилось за это время у Еремина.
И не успокоился до тех пор, пока Еремин тут же, своей властью, не распорядился прекратить сжигать будылья подсолнечника и не позвонил из правления колхоза в райисполком, чтобы на этот раз, исходя из особых трудностей с кормами, отменили директиву, которую обычно отсылали в это время года в колхозы.
В другой станице Михайлов, по обыкновению не вмешиваясь, слушал, как рабочий винсовхоза жаловался Ерёмину, что его второй год из-за личных счетов неправильно облагают единоличным налогом, да еще и привлекают к суду за хулиганство, после того как он, бурно объясняясь с налоговым агентом, раза два стукнул об пол стулом и в расстроенных чувствах нехорошо выругался. Михайлов, слушая этот разговор, не вставил ни слова. Но когда они уже выехали с усадьбы совхоза, чтобы продолжать поездку по району, он в машине напомнил Еремину, что им нужно заехать на час в районный центр. Еремин изумился:
– Зачем?
– Вы же обещали этому Сухареву уладить дело, – сказал Михайлов.
– Вернемся из поездки – и разберусь. Время еще есть. И вообще не верится, чтобы суд принял это дело к производству.
– Это как сказать, – возразил Михайлов. – Когда машинка уже закрутится, ее трудно остановить.
Еремин посмотрел на его взволнованное лицо и не стал спорить. Всего на полчаса они заехали в станицу, и там Еремин в избытке был вознагражден тем явным удовольствием, с каким Михайлов слушал слова райпрокурора, что он прекратил это действительно дутое дело и возбудил другое – о произволе налогового агента. И после этого они продолжали поездку по району.
Как-то перед вечером подъехали к полевому стану тракторной бригады. Бригада только что закончила все работы в степи и готовилась утром откочевать в МТС. Воспользовавшись внезапной и редкостной для этого времени года теплынью, кухарка Паша накрыла трактористам и прицепщикам к ужину большой длинный стол во дворе. Это был их последний ужин в степи в этом году. Вокруг стана зеленели озимые, чернела зябь и стоял запах земли, развороченной тракторными плугами.
Кухарка Паша и Еремину со спутниками налила по тарелке мясного борща, разрезала большой арбуз, угощая их с радушием грубоватого гостеприимства. Еремин и Михайлов не стали отказываться, а шофер Александр попросил добавки.
– Должно быть, на райкомовских харчах не то что на колхозных, – подливая ему борща в тарелку, стрельнула в Еремина глазами Паша.
Поужинав, трактористы покурили и запели песню. Это была с детства знакомая Еремину казачья песня, и Еремин незаметно для себя тоже в нее втянулся. Его несильному тенору пришлось спорить с высоким, почти девичьим голосом запевалы, желточубого прицепщика Сергея, который пел, по-видимому, почти без всякого усилия, хотя и поднимал песню на рискованную высоту – вот-вот оборвется голос. Однако он не обрывался и, взлетев еще выше, вдруг почти отвесно соскальзывал вниз, замирая до нового взлета. И вот на таком-то перепаде его и подстерегал и ловил тенор Еремина, овладевая хором голосов – мужских и женских.
В бригаде женщин было совсем мало – всего две трактористки, две прицепщицы и кухарка, но их голоса – и среди них контральто Паши – своей струей омывали и окрашивали грубоватую струю мужских голосов и сообщали песне ту грустинку, без которой, кажется, вообще не бывает песни. И может быть, поэтому как-то уж очень совпадала она со всем обликом этой осенней степи, с распростертым над нею одетым тучами небом и даже с тем, как пахла развороченная плугами земля – густо, тяжело и сладко…
В одну из пауз Еремин взглянул на Михайлова и увидел, что он тоже поет со всеми. Но не столько этому удивился Еремин, сколько тому, как он поет. Михайлов пел, как пели все эти люди, – не пел, а скорее разговаривал словами песни, и на лице у него было точно такое же наивное и строгое выражение, как у желточубого прицепщика Сергея, у кухарки Паши и у всех остальных. Когда потом Еремин снова взглянул на Михайлова, он увидел, что тот уже не поет, а только слушает, повернув лицо к степи, и глаза у него мокры от слез, которых он не замечал или же не стыдился.
С этого вечера они как-то сразу стали ближе друг другу, и Еремин решился наконец спросить у Михайлова о том, о чем давно собирался. После того как было пропето еще немало песен, кухарка Паша отвела Еремина и его спутников в дом, в комнатку, где стояли три кровати под серыми одеялами и в печке с протяжным гулом горел бурьян. Шофер Александр, который за день больше всех уставал за рулем, как только разделся, лег на койку, так и рассыпал по всему дому густой храп. А Еремину, может быть, этот храп, а может, и молодая яркая луна, заглядывающая в окно из степи, мешали уснуть. И, повернув на подушке голову к Михайлову, который, как всегда в поездке, ложился позднее всех и теперь, сидя у окна, смотрел в степь, он решил задать свой вопрос о записной книжке.
Со смущением и раскаянием он ожидал ответа и обрадовался, что Михайлов, ничуть не обиделся.
– Вы, Иван Дмитриевич, не первый задаете мне этот вопрос, – сказал он серьезно. И, услышав покашливание Еремина, тут же успокоил его: – Нет, я не обижаюсь. По-моему, это вполне естественно. Люди работают и недоумевают: почему это человек только смотрит на их работу и слушает, что ему говорят, и даже не возьмется за карандаш, чтобы записать то, что он слышит? Удивительно было бы, если бы не спрашивали. Люди не любят, когда у человека нет в руках дела. Но мне почему-то всегда казалось, что сперва нужно попытаться понять жизнь людей, а потом уже браться за карандаш. Я, конечно, совсем не против записной книжки и тоже меткое слово люблю, какой-нибудь, знаете ли, заманчивый, – Михайлов сделал жест, – эпитет… Есть и у меня книжка, и я записываю, только не умею этого делать тут же, на месте, вслед за человеком. Как-то неловко, знаете ли, ловить слова людей сразу на бумагу. Он к тебе с доверием, душу раскрыл, а ты сразу с карандашом, как со штыком к сердцу. И откровенно сказать, Иван Дмитриевич, когда человек раскрывает тебе душу, как-то забываешь, что нужно записывать. Слушаешь – и все. Вспоминаешь уже потом, главным образом ночью. Вам вот только сегодня что-то не спится, а мне – каждую ночь. Не знаю, чем это объяснить. Человек я здоровый, бывало, на фронте засыпал с началом воздушной тревоги и просыпался после отбоя. Нервы у меня хотя, конечно, и не первого качества, но служат. Но сплю я до крайности мало. Очевидно, все-таки сказывается возраст. Вам, Иван Дмитриевич, сколько лет?
– Тридцать два, – ответил Еремин.
– А мне сорок два. Довольно существенная разница. В городе я вслед за последним трамваем засыпаю, а здесь – после вторых петухов. Вам к этому времени уже заревой сон снится. Ночью как-то особенно хорошо думается. Отступишь от суеты дня, и вдруг то, что представлялось большим, оказывается мелким, а повседневное, обычное – это и есть самое главное. И уж поскольку вы, Иван Дмитриевич, тоже сегодня обязались бодрствовать, мне бы хотелось кое-какие из этих мыслей разделить с вами. Или вы все-таки спать будете?
– Нет, нет, – поспешил сказать Еремин.
– Это мне пришло в голову не только за эту поездку – я ведь давно по степи езжу. Как сказал Тарасов, кочевник… Но за эту поездку, после разговоров с людьми, многое как-то отстоялось… Не кажется ли вам, Иван Дмитриевич, – Михайлов встал со стула, отошел от окна и остановился у кровати Еремина, – не кажется ли вам, что едва ли не половина всех наших бед в сельском хозяйстве от двоевластия?
– Двоевластия? – приподнимаясь на локте, переспросил Еремин.
– Два хозяина на поле, и в итоге нет настоящего хозяина. Оба ответчики за обработку почвы, за урожай, и по-настоящему никто не отвечает.
– Вы хотите сказать…
– Только то, что вы сами давно уже видите и знаете, – подхватил Михайлов. – Тот устоявшийся взгляд на соотношение сил тракторной и полевой бригад, который давно уже опровергнут жизнью. Ни для кого не тайна, что полевая бригада находится, так сказать, только на прицепе у тракторной, но за урожай-то отвечает полевая?! И это подсказывает переход к каким-то новым, более реалистическим формам организации сельскохозяйственного производства. За тем, за кем ответственность, нужно признать и реальную власть.
– Но это и не так просто, – не дослушав и сбрасывая ноги на пол, резко сел на кровати Еремин.
Зеленая, разрезанная рамой на четыре части луна входила из степи в комнату. Начало разговора предвещало продолжение его на всю ночь.
Их совместная поездка по степи подходила к концу, и все чаще Еремин стал ловить себя на чувстве, что теперь ему, пожалуй, и не так-то просто будет расстаться со своим спутником. Он удивлялся, как это за такой короткий срок успел не то чтобы привыкнуть, а как-то даже привязаться к Михайлову. Впрочем, Еремин знал за собой одно свойство – он был влюбчивым человеком. Вдруг заинтересовавшись человеком, Еремин мог неудержимо потянуться к нему, и тогда уже его трудно было разуверить, заставить остыть или разочароваться. Товарищи и жена говорили Еремину, что именно поэтому ему свойственно было впадать в ошибки, и он находил это справедливым, но где-то в глубине души продолжал считать, что и ошибиться в увлечении кем-нибудь – это все же лучше, чем бояться увлечься только потому, чтобы не ошибиться.
Так он, должно быть, незаметно увлекся и своим новым знакомым, с которым вот уже неделю вместе колесил по району. Чем больше разочаровывался Еремин в своем прежнем представлении о писателе, тем как-то проще ему было находиться со своим спутником. И если Михайлов теперь уедет, то это будет для Еремина потеря. И неплохо, если действительно удастся уговорить его пожить в районе, как надеялся Тарасов…
Но Михайлов, казалось, уже совсем не думал об этом, а Еремину возобновлять этот разговор вот так навязчиво – «оставайтесь, Сергей Иванович, в нашем районе» – не хотелось. И однажды, когда их поездка совсем уже подошла к концу, Еремин решил испытать другое средство.
До этого он неоднократно слыхал и читал, что все писатели – страстные охотники. Не может быть, чтобы Михайлов, если он настоящий писатель, был исключением из этого правила. Последний день Еремин выкроил для того, чтобы показать ему самые красивые места в районе. Они продолжали ездить из бригады в бригаду, с фермы на ферму, но Еремин с утра предупредил Александра, чтобы он вез их не кратчайшими дорогами, а теми, которые проходят опушками леса и лугом, где с камышовых озер сейчас снимались в отлет утки и гуси. Еремин видел, что все это Михайлову не могло не понравиться. В отличие от своей обычной малоподвижности, тот вел сейчас себя в машине неспокойно, бросался от одного окошка к другому, шумно вздыхал и часто просил Александра остановиться. А когда он стоял и смотрел вслед отлетающим стаям и вслушивался в их падающий с высоты прощальный стон, во взгляде его появлялось такое выражение, какое Еремин видел у него однажды на бригадном стане, когда они пели песни.
К вечеру Еремин решил, что он может наконец испытать свое средство.
– И поохотиться у нас, Сергей Иванович, – заговорил он, – как видите, есть где. За рекой у нас есть Утиное озеро, его за то и назвали Утиным, что утки там, как в заповеднике, живут. А в степи зимой на зайцев хорошая охота, на лис. До меня здесь, говорят, на волков облавы устраивали. Вы охотник? – с ожиданием посмотрел он на Михайлова.
– Нет, – смеющимися глазами встретил его взгляд Михайлов.
– Ну-у?! – удивился Еремин так искренне, что Михайлов засмеялся совсем уже громко.
– Вы, Иван Дмитриевич, – сказал он, – не первый так удивляетесь, я уже привык, что меня из-за этого и настоящим писателем не признают. Что же теперь делать, если у меня нет этой страсти? – Он пожал плечами. – А вы небось любите побродить с ружьишком?
– Нет.
– То есть как? – с сердитым недоумением взглянул на него своими серыми глазами Михайлов. – Вы же сказали, что вы охотник.
– Я этого не говорил, – покачал головой Еремин. Пришла очередь удивляться Михайлову:
– Вы в самом деле не охотник?
– В самом деле.
– Зачем же вы тогда расписывали прелести этого вашего… Утиного озера?
– Надо же мне, Сергей Иванович, чем-то вас завлечь, – улыбаясь, сказал Еремин.
Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Внезапно Михайлов оборвал смех, и глаза его блеснули из-под шляпы на Еремина сердито.
– Вы меня, Иван Дмитриевич, больше не агитируйте. Не нужно меня агитировать, хорошо? Если бы сейчас вы и захотели прогнать меня из района – я все равно не уеду.
Наутро Еремин сидел в райкоме за столом, разбирал стопку накопившихся за время его недельного отсутствия бумаг, выслушивал людей, отвечал на телефонные звонки, которые, по словам помощника, вдруг сразу посыпались, будто где-то плотину прорвало. Помощник сказал Еремину, что за все эти семь дней только изредка раздавался звонок в его кабинете, а сейчас все так сразу и раззвонились, будто обрадовались, что первый секретарь – в райкоме.
И лишь к полудню, когда схлынул поток посетителей и смолкли звонки, – видимо, все сотрудники в областных учреждениях ушли на обед, – Еремин наконец улучил время склониться над письмами и жалобами, которых за время его отлучки тоже набралось немало.
Он только что поставил подпись под ответным письмом на жалобу учительницы из станицы Бирючинской, которая обвиняла сельсовет в невнимательном отношении к школе, и, бросив рассеянный взгляд в окно, сквозь рогатку ветвей клена увидел остановившийся на улице газик-вездеход, такой же, как в райкоме. Из-под брезентового тента вылез мужчина в темном плаще, в шляпе и направился к райкому. И лишь когда уже в другом окне совсем, близко промелькнул профиль его смуглого лица с широкой бровью и с крупным, хорошей формы лбом, которого не могла спрятать шляпа, Еремин сообразил, что это Тарасов.
Еремин вышел из-за стола и остановился лицом к двери, невольно подтягиваясь и чувствуя, как вздрогнула и привычно напряглась в нем знакомая струнка. Тарасов был для Еремина не только секретарем обкома. И, стоя посредине комнаты в ожидании, когда откроется дверь, он даже не заметил, как руки его сами собой легли по швам.
Должно быть, и Тарасову, как только он открыл дверь и окинул взглядом фигуру Еремина, все это сразу стало понятно, потому что глаза его понимающе засмеялись.
– Вольно, секретарь райкома Еремин, вольно. Кажется, мы с вами давно уже живем не по воинскому уставу.
И сказано это было так, что и Еремин рассмеялся.
– Все равно солдаты, – ответил он в том же тоне.
– Это что же, каждый год у вас здесь такая осень? – пожимая руку Еремина и взглянув на ярко освещенные солнцем окна, спросил Тарасов.
– Не всегда, но вот уже второй год, – не вполне разделяя его восхищение, ответил Еремин.
– Отличная осень, кольцовская осень, – снимая шляпу и плащ и доставая из кармана какую-то свернутую в трубку мягкую красную папку, сказал Тарасов.
– Из-за нее мы и посеяли почти на месяц позднее, – напомнил Еремин.
– Но зато и всходы озимых у вас не те, что у ваших соседей, – возразил Тарасов. – Поля – как межа разделила… Признаюсь, я тогда поторопился со своим вопросом о сроках сева.
– Урожай покажет… – осторожно сказал Еремин.
– Да вы, оказывается, дипломат, – усмехнулся Тарасов, – чего, между прочим, по вашей докладной совсем не заметно. Скорее наоборот.
Только теперь Еремин догадался, что свернутая в трубку красная папка в руке у Тарасова и есть та самая злополучная докладная записка, которая так долго пролежала сначала в обкоме, а потом в областном управлении сельского хозяйства.
– Вот теперь я могу сказать, что и не только в принципе согласен с вами, – присаживаясь к небольшому столику, приставленному к письменному столу Еремина, и раскрывая папку, сказал Тарасов. – Прочитали мы ее и в обкоме и облисполкоме. И должен сказать, что, хотя вы, товарищ Еремин, писали только о своем районе, это немало подскажет нам и для всей области.
Еремин не был тщеславным человеком, но услышать эти слова ему было приятно. И чтобы скрыть краску невольного удовольствия, он, сидя по другую сторону столика, против Тарасова, наклонил голову.
– С планированием сельского хозяйства у нас в области, а может быть и не только в одной области, действительно как в старой басне: одна отрасль рвется в небо, другая – в воду и так далее. Вы правильно пишете: вместо того чтобы взаимно подкреплять друг друга и быстрее развиваться, такие, например, отрасли, как полеводство, животноводство и овощеводство, скорее заглушают одна другую. И если посмотреть в отдельности, то каждая из этих отраслей планируется как будто правильно. Люди в планирующих организациях сидят честные, и думают они о том же, о чем думаем и мы с вами: чтобы народ получил больше хлеба, мяса, овощей. Но думают они как-то однобоко, каждый за своим столом, в своем кабинете, в келье, и в итоге мы недополучаем сравнительно с нашими возможностями сотни и сотни тысяч тонн хлеба, мяса и овощей. Думают главным образом в русле отраслевого, а не…
– Комплексного планирования, – не удержался Еремин.
– Да, взаимодействие, так сказать, всех отраслей, ну, и если прибегать к вашим эпитетам, оркестр, что ли.
– Но комплексное планирование не только в масштабе области, а и в масштабе района.
– И колхозов! – немедленно согласился Тарасов. – Дать возможность в наивыгоднейшем направлении развивать хозяйство. Но не слишком ли вы ополчаетесь на яровую пшеницу? – остро и как-то выжидающе посмотрел он на Еремина. – Прямо раскаленные стрелы мечете. И «навязывают», «насильственно внедряют», и «заведомо обрекают» и «ничтоже сумняшеся», и каких только нет выражений! Что ни слово – заноза, не докладная записка, а монолог Чацкого. Сарказм! Издевка! И все против яровой. А признайтесь, сами-то вы небось хлеб, как и я, из яровой предпочитаете? Придавишь буханку рукой, а она опять вверх. Как с пружинкой.
– У нас из яровой хлеб не пекут, – сумрачно возразил Еремин.
– Неужели? – сожалеюще спросил Тарасов. – И не пекли?
– Нет, пекли. Когда яровой в районе вдвое меньше сеяли.
– Это какая-то египетская загадка! – У Тарасова сердито разлетелись брови.
– Все очень просто, – серьезно ответил Еремин. – Раньше в области яровой сеяли не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем теперь, но внедряли ее главным образом в тех районах, где она росла. В нашем районе, например, ее почти не планировали. А планировали озимую, и непременно по парам. И те районы были с урожаем, кто сеял яровую, и те, кто озимую. Ездили друг к другу и обменивали озимую на яровую. И у нас пекли вот этот самый хлеб, – Еремин показал рукой. – Теперь же почему-то для каждого района установили стандартную пропорцию полей озимых и яровых. Вот и не можем выйти из средней невысокой урожайности. Яровая удается только раз в пять-шесть лет, в особо выдающийся год. Сокращают площадь паров, а сокращаются пары – падает и урожайность. Не на яровую я обрушился, товарищ Тарасов, я сам люблю, чтобы хлеб – вот такой, – он снова показал рукой над столом, – а на тех, кто составляет планы с повязкой на глазах. Вы напрасно вспомнили Чацкого.
Тарасов смотрел на него и улыбался. Еремина смутила эта улыбка, и он остановился.
– Откровенно сказать, – успокоил его Тарасов, – мне еще раз хотелось убедиться, насколько вы уверены в своей правоте, и, если хотите, самому тверже убедиться. Дело серьезное, и, чтобы его не опорочить, нужно с самого начала избежать всякой левизны. Предусмотреть все. Иначе сейчас же понесутся в Москву вопли, что, дескать, вообще вытесняют из севооборотов высококачественную яровую пшеницу. Это, конечно, не значит, что мы должны испугаться. И мы предварительно решили уже с будущего года внести серьезные поправки в областные планы и предусмотреть для ряда районов увеличение паров. В том числе и для вашего района. – Он перевернул лист в папке и минуту читал, наклонив большой лоб с упавшей на него черной прядью. – Для начала, – поднял он глаза, – увеличим в вашем районе с пяти до восьми тысяч гектаров. Устраивает? – И тут же, предупреждая возможные возражения Еремина, добавил: – Как агроном, вы, конечно, понимаете, что коренная ломка и перестройка всех севооборотов в течение одного года и даже двух-трех лет невозможна.
– Это я понимаю, – согласился Еремин. – И все же думаю, что за два года наш район вполне в состоянии от этих восьми тысяч гектаров шагнуть…
– …к двенадцати, – договорил Тарасов. – Так мы и определили.
– Это то, что нам нужно, – повеселел Еремин. – Но там же я писал и о виноградниках, – поспешно добавил он, увидев, что Тарасов уже собрался закрыть папку.
– Читал и должен сказать, товарищ Еремин, что в этом я с вами не мог согласиться. Убежден, что вы неправы.
– Неправ?
– К сожалению, да.
– Нет, товарищ Тарасов, там неправильного нет, – покачал головой Еремин. – Ничего я не выдумывал, и это легко проверить. Все, что я написал, можно увидеть своими глазами. Даже отсюда. – Он вдруг встал, шагнул к белой двери, ведущей на небольшой балкон-крыльцо, и открыл ее, приглашая с собой Тарасова.
С деревянного, затененного листьями хмеля крыльца взору открывались и река и заречье. Свежестью и смесью ароматов луга, садов и степи пахнуло им в лица.
– Вот, товарищ Тарасов, эти склоны, о которых у меня там написано, – Еремин повел рукой вдоль крутого волнистого правобережья.
– Да, если не считать нескольких небольших пятен садов, они совсем голые.
– Одна полынь. А у самого берега – лебеда и будяк, там у нас овцы пасутся. Но спросите у людей, и они вам скажут, что эти склоны не всегда были такие. Я тогда тут не жил, но старые карты землеустройства смотрел, и люди мне рассказали, что тут одна сплошная зелень была виноградные сады – и ни пятнышка полыни. Осенью, когда начинали срезать виноград, большие баркасы-дубы отсюда до самой Тереховской выстраивались. Целый флот. В старой энциклопедии эти места русской Шампанью называли. Но еще неизвестно, собирали ли во французской Шампани по сорока тонн винограда с гектара.
Тарасов вопросительно посмотрел на Еремина:
– Это без малого две с половиной тысячи пудов?
– Да. Мы и сейчас по стольку собираем. Но только на отдельных участках. На рекордных, товарищ Тарасов, а могли бы и со всех этих склонов по стольку с гектара снимать. Это же, – Еремин снова повел рукой, – как вы тогда в обкоме сказали, – золотое дно. Южная сторона, наилучшие почвы. А если подавать воду из реки по трубам наверх, можно и по три тысячи пудов с гектара собирать. Или, может быть, нам уже не нужно так много? Может, мы собираемся вводить сухой закон?
– Нет, этого не намечается, – Тарасов засмеялся.
– И я думаю, что таким способом мы с пьянством бороться не будем. Не можем мы, Михаил Андреевич, – впервые назвал его по имени-отчеству Еремин, – ходить по этому золотому дну и не видеть, что у нас под ногами лежит.
– Не можем, – и с этим согласился Тарасов.
Еремин с недоумением посмотрел на него.
– Об этом я и в докладной записке, – он оглянулся на дверь, открытую из кабинета на балкон, – писал.
– Я помню.
– И эти же факты привел.
– Факты правильные.
– Но вы мне сказали, Михаил Андреевич, – смутившись, осторожно напомнил Еремин, – что я неправ. – Краска выступила у него сквозь смуглую кожу.
– Я и сейчас это говорю, – спокойно возразил Тарасов.
– Непонятно, – откровенно признался Еремин.
– Давайте еще посмотрим, как у вас там сказано, – предложил Тарасов.
И, уходя с балкона, он еще раз бросил взгляд на реку, левобережные луга и всю ярко освещенную солнцем, будто обрызганную золотистой пыльцой, пойму с волнистой цепью курганов правого берега.
– У вас сказано, – повторил он, склоняя голову над столиком, на котором лежала раскрытая папка, – «…а из этого следует, что остро назрела необходимость решительного изменения специализации района в сторону преимущественного развития виноградарства в колхозах…»
– Да, и это следует из тех же самых фактов.
– Нет, товарищ Еремин, факты правильные, а вывод из них вы делаете неправильный.
– Одно из двух, Михаил Андреевич: или мы будем виноградарство развивать, или все остальные отрасли.
– Почему?
– Мало в колхозах людей.
– И поэтому вы хотите потеснить виноградарством все другие отрасли? Как озимую пшеницу – яровой?
– У нас нет иного выхода, – глуховато сказал Еремин. – А виноград – самая выгодная культура. Десятки миллионов рублей – в кассы колхозов.
– Вы агронома Кольцова знаете? – неожиданно спросил Тарасов.
– Из Тереховского колхоза?
– Да. Я на их виноградники по дороге сюда заезжал. Там и познакомился с Кольцовым. Умная, между прочим, у этого Кольцова голова, я бы сказал – мыслитель. Я ведь еще вчера к вам в район выехал, но потом засиделся у него дома, да так и заночевал. Он мне показывал модель своей машины для посадки винограда. Еще не законченную. Дело, конечно, сложное, но рассказывал Кольцов так, что сразу видно – человек знает. И я поверил, что и в посадке винограда последнее слово за машиной. И тогда на посадку одного гектара потребуется примерно раз в тридцать меньше людей.
– Кольцов – умный человек, – сказал Еремин, – и с машиной у него выйдет, он мне тоже ее показывал, но посадка – это еще не все. У нас больше всего сил и времени отнимает уход за кустами. Здесь применяется только ручной труд.
– И только?
– При нашей формировке чаш – да. Каждая чаша раскидывается минимум на четырех сохах, в саду стоит целый лес опор, и все работы могут производиться только мотыгой и лопатой. Нет такой машины, которая могла бы в этом лесу повернуться. Отказаться от такой формировки? Но это проверено всем опытом, веками. Никакая другая не даст на наших склонах таких урожаев. На плато – другое дело, там можно и шпалерную посадку применить.


