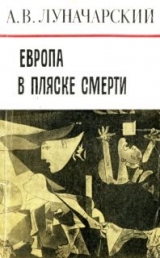
Текст книги "Европа в пляске смерти"
Автор книги: Анатолий Луначарский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
I 1
Министерство общественных работ помещается вместе с министерством труда и министерством земледелия в лицее на маленькой площади Long-Champ. Не знакомый сколько-нибудь близко с Марселем Семба, 2 с которым я хочу поговорить о создавшейся политической ситуации, я решаюсь зайти сперва к Густаву Кану, 3 исполняющему при нем обязанности начальника личного кабинета.
Многие из моих читателей, конечно, знают, кто такой Густав Кан. Поэт выдающегося дарования, он еще молодым человеком выступил в первом ряду той густой колонны символистов, которая ознаменовала собой конец прошлого столетия. Его поэмы если не поставили его рядом с великими именами символизма, с великими «мэтрами», то во всяком случае отвели ему почетное место среди крупных представителей этого течения. Но не меньше, чем своими поэмами, послужил Кан самоопределению символизма, его оценке своими теоретическими работами. Изучать символизм, минуя книги и статьи Кана, невозможно.
Между произведениями Кана я невольно припоминал, когда шел на свидание с ним, его известную оду к Толстому, как поборнику мира. Поэт, приветствовавший величайшего врага войны, в настоящее время занимает крупный пост в министерстве национальной обороны, в министерстве, которое ведет самую кровавую войну, когда-либо отмеченную историей.
Но что ж тут удивительного, если его патроном является не кто иной, как автор книги «Давайте короля или заключайте мир», 4 книги, под кусательной иронией которой раздался призыв к миру, быть может, наиболее смелый за эти 44 года истории Франции.
Я застаю Кана за работой. Когда я предложил ему по французскому обычаю устроить свидание в кафе, чтобы переговорить без помехи, он только печально улыбнулся и махнул рукой. «Какие там кафе, – сказал он, – у нас едва хватает времени на необходимый сон и обед, мы завалены работой».
Я думаю также, что официальное положение, занимаемое поэтом и для него самого непривычное, заставляет его быть немного настороже. В другое время мы видели бы друг в друге только писателей, а сейчас он – начальник кабинета, а я – журналист.
Зато он внимательно расспрашивает меня о России. Не только с точки зрения военной – тут он осведомлен не меньше меня во всяком случае, – но главным образом с точки зрения, так сказать, бытовой. Я, конечно, рассказываю ему охотно обо всем, что знаю, и многое из того, что думаю.
С большой любезностью Кан соглашается мне устроить разговор с Семба во всяком случае. Он с уверенностью обещает, что на другой день в 4 часа министр-социалист не только примет меня, но и, наверное, воспользуется моим посредничеством, чтобы обратиться по примеру Э. Вандервельде с несколькими словами к русским единомышленникам.
Так оно и случилось. На другой день в 4 часа я был в кабинете Семба, который с первых же слов сказал мне:
«Вы понимаете, что мое положение несколько затруднительно. По моему мнению, линия поведения всякого социалиста в настоящее время, – исключая, конечно, социалистов немецких и австрийских, – поразительно ясна. Но тем не менее, по-видимому, для некоторых возникают сомнения в исполнении ими своего долга. Я очень хочу по мере своих сил содействовать пониманию всяким из моих товарищей происходящего. Но вместе с тем мое положение члена кабинета, разнородного по своему составу, накладывает на меня более узкие рамки для выражения моих надежд, чем я, быть может, хотел бы. Во всяком случае я прошу вас сообщить несколько строк, с которыми я считаю уместным обратиться к русской демократии».
«Я хотел бы, чтобы вы сказали русским друзьям, что мы вместе вынуждены вести борьбу, в которой недопустима никакая робость. Мы с Гедом представляем во французском правительстве социалистическую партию. С тех пор как мы выполняем наши функции, мы все время считали необходимым поддерживать самый интимный контакт с нашими товарищами и не терять уверенности в их постоянном одобрении. Вот почему я уверен, что говорю не только от моего имени, но и от имени моей партии, когда рекомендую вам заклинать русских товарищей выполнять повсюду свой долг в борьбе против Германии и Австрии. Триумф этих держав означал бы собою победу грубой силы. Дело союзников – правое. Их победа принесет с собою свободу Европе. Эта цель достаточно благородна, чтобы заставить нас забыть пока все остальные недовольства и протесты. Я замечаю, что русские, подобно французам, всегда хранят в глубине сердца идеализм и веру в право, встречающие часто насмешки со стороны немцев. Лично мое впечатление таково, что победа не только послужит делу общественного прогресса, но и – это я считаю не менее драгоценным – также личному улучшению каждого из нас. После победы союзные народы останутся теснейше связанными. И у каждого из них право будет иметь большие шансы определить собою дальнейший ход развития цивилизации. Что касается меня лично, я очень рассчитываю на скрытые еще и многим неизвестные сокровища славянской души. Достаточно прочесть произведения ваших великих писателей, особенно Горького, чтобы научиться чтить эти дарования вашего народа. Я говорю именно о чувстве симпатической солидарности, которая открывает в сердце каждого русского рабочего источник самой широкой любвеобильности».
И Семба добавил:
«Союз наших наций может быть до крайности плодотворным. Всякая характеристика отдельных народов грозит быть поверхностной, но мне всегда англичане представляются высшим выражением личного достоинства, энергии, несокрушимости; француз – как человек, способный к благородному энтузиазму и в то же время обладающий духом высокой находчивости; русский же кажется мне каким-то инстинктивным, врожденным христианином. Я говорю здесь, конечно, не о догматической, не о церковной стороне дела. Я сам в этом смысле отнюдь не христианин. Я говорю о моральном средоточии христианства, о заповеди „возлюбите друг друга“, которая находит в русской душе почву, несравненно более подготовленную, чем в какой бы то ни было другой».
Вторая часть нашей беседы заключалась главным образом в более или менее подробных ответах с моей стороны на вопросы Семба.
Наружность министра-социалиста бросилась бы в глаза всюду. Небольшого роста, спокойный в своих манерах, он сначала кажется холодным, осторожным, прозаическим. От обыкновенного культурного буржуа его отличают, однако, вьющиеся волосы, густая, довольно длинная борода, роднящая его скорее с типом здешнего анархиста, устроившегося, признанного. Но потом вы замечаете под этими кудрями большой красоты широкий лоб, под золотыми очками – необыкновенно живые глаза, под усами – такие же подвижные губы. В этих серых глазах очень часто, правда, сверкают искры иронии, губы любят складываться в тонкую, умную усмешку. Семба недаром слывет едва ли не первым остряком, как на трибуне, так и с пером в руках. Но те же глаза смотрят иногда внимательно, строго, как будто печально… И именно в те минуты, когда Семба говорит о праве, о не менее драгоценном, чем социальный прогресс, личном самоусовершенствовании, об альтруизме русской души. Нет, все это не простые слова для Семба, не либеральная фразеология. Семба действительно глубокий идеалист, каким был Жорес. 5 Этика и эстетика играют в его жизни, его деятельности, его мировоззрении чрезвычайно большую роль. Быть может, его блестящая ирония, его парадоксы, его шутка даже вредят ему в этом смысле. [6]6
Характеристика Семба верна. Хотя его речи в беседе со мною пахнут пошлостью. Национальная война всех опошляла, кто был вовлечен ею в водоворот. Семба умер, быть может, будь он жив, он понял бы теперь свою ошибку, как понял ее его друг. – Прим. авт.
[Закрыть]
Семба гораздо серьезнее своего слишком яркого наряда, хотя, быть может, именно этот наряд, такой изящный и такой вместе общедоступно-привлекательный, и сделал его первым человеком Французской социалистической партии после Жореса.
II
Я не сказал бы, что Семба и Гед – полная противоположность. Но все же во многом они действительно контрастируют. В Семба живет дипломат, он осторожен и сдержан. Гед весь пылает. Он не может и не хочет скрывать чего бы то ни было, он договаривает до конца, ставит точки над i, не чувствует себя ответственным министром, остается, как всегда, агитатором. Семба в высокой мере присуща ирония, несколько холодное остроумие. Гед никогда не шутит и очень редко смеется. Если смеется, то в большинстве случаев желчно. Он страшно серьезен в своем постоянном, юношеском, странном в этом старике кипении. Но вместе с тем – и тут они словно на мгновение меняются своими ролями – Семба по своим воззрениям откровенный идеалист, а Гед – научный социалист, человек догмы, фанатик марксистского материализма.
Но меняются они ролями только на минуту. И вот уже оба соприкасаются в одном пункте, который является, быть может, существеннейшим, а потому и не допускающим определения двух вождей современного французского социализма как противоположностей. Действительно, за материализмом Геда лежит пламенный энтузиазм, неукротимый порыв к справедливости, сердце, полное любви, сострадания и надежды. Лицо Геда не обращено к прошлому, он сравнительно мало занимается и анализом настоящего. Его глаза постоянно вперены в будущее. Он прежде всего пророк коллективизма. Во всяком случае движущей силой в его душе является любовь, жажда улучшения, возвышения жизни. Но то же самое представляет собой и святая святых Семба.
Не так-то легко было отыскать «министерство без портфеля». Я приэтом попал даже в смешной просак. По меньшей мере трех ажанов спрашивал я о министре без портфеля. Но таккак в мозгу моем сидел еще и министр труда,то четвертого я спросил о министре без работы,чем его немало насмешил. Смеяться-то он смеялся, но указаний мне не мог дать никаких. Отправился я в мэрию, оттуда в муниципальную полицию. Подозрительный субъект, прозванный «центральным комиссаром», очевидно долженствующий знать, где кто живет, глубокомысленно подумав, высказал наконец мысль, что мосье Жюль Гед должен жить в отеле «Байон». В отеле «Байон» мне сказали, что «министерство без портфеля» помещается там же, где и министерство общественных работ. Вот тебе раз! Исходить чуть не весь город и вернуться в то самое здание, откуда вышел! Однако и это оказалось неверным. Наконец, швейцар министерства догадался послать меня в префектуру. Действительно, «министерство без портфеля» устроилось там.
Я прошу, однако, читателей принять во внимание, что моя обмолвка насчет «министерства без работы» отнюдь не имела под собой почвы. По-видимому, в этом министерстве работают не меньше, чем в других. В четырех больших комнатах идет невообразимое щелканье пишущих машин и, не разгибая спины, что-то пишут, читают, считают многочисленные молодые люди. Жюль Гед, наверное, взял на себя большую и ответственную часть каких-либо непредвиденных задач правительства, потому что иначе, конечно, он не назвал бы своего нынешнего положения «боевым постом»…
Самое отрадное впечатление получил я при первом же взгляде на Геда. Последний раз я видел его года два тому назад. Он был желтый, как лимон, показался мне невероятно утомленным. Несколько слов, которые он сказал тогда, он выкрикнул фальцетом, ужасно волнуясь и жестикулируя с болезненной нервностью.
Ничего подобного теперь. Давно уже я не видел Геда таким здоровым, молодым и бодрым. Опять под его бровями горят эти добрые глаза. Опять развеваются его волосы, словно под ними проходит дыхание каких-то мощных веяний будущего, опять поражает сухой энергией линий это орлиное лицо, обрамленное внизу бородой пророка Ильи.
Говорит Гед с огромным увлечением, и сразу же становится ясным, что я не смогу использовать и четвертой части того, что он мне говорит, что притом придется использовать лишь четвертую часть, наименее интересную. Но и она, конечно, остается интересной.
«Все остается верным в нашем анализе, – говорит Гед. – Война имеет чисто экономический характер, ее внутренние причины вытекают из столкновения материальных интересов. Что бы там ни говорили, но Англия никогда не вступила бы в эту войну, если бы успех в ней не обещал ее буржуазии сохранения мирового господства на морях. Германия спровоцировала войну в момент, казавшийся ей наиболее удобным, потому что с ее быстро растущим населением, мощно развивающейся промышленностью она задыхается, хочет найти себе простор. Экономика – это, так сказать, генерал-бас истории. Германия вместе со своим экономическим владычеством несет господство грубых форм, в ней феодализм оказался невероятно живучим. Но война ведется и должна вестись со всей энергией для защиты стран и для нанесения решительного удара Германии».
Не все, конечно, верят в то, во что верит Жюль Гед. Но когда я смотрел в эти горящие глаза, следил за этими красноречивыми руками, рисующими что-то впереди, я невольно сознавал, что энтузиазм это подлинный, что передо мною совершенно убежденный человек. [7]7
Быть может, никого не было так жаль в то время, как Геда. Во время моего свидания с ним я попытался заговорить о нашей позиции, интернационалистической. Но Гед тотчас же сухо оборвал меня фразой: «Марксист при широчайших горизонтах должен быть практиком. Практическая задача наших дней – борьба с германской реакцией». – Прим. авт.
[Закрыть]
«Киевская мысль», 16 декабря 1914 г.
У генералиссимуса Жоффра *15 журналистов, ездивших по приглашению генерального штаба на фронт, были приняты генералиссимусом Жоффром 1 .
Большинство из них передает об этом свидании с напыщенным пафосом. Этот тон, конечно, понятен ввиду обуревающих французские сердца чувств, но как с художественной точки зрения, так и с точки зрения информационной он несомненно вреден. Больше всего равновесия сохранил сотрудник «Юманите» 2 Фижак. Мне сдается, что он точнее всех уловил и характер, и обстановку приема, отметив некоторые тонкие черты, по-видимому сознательно опущенные другими.
Телеграмма Фижака послана из Нанси. Но само собою разумеется, неизвестно, где произошло свидание генералиссимуса с журналистами.
«Главная квартира, где поселился главнокомандующий, вовсе не труднодоступна. Вы удивились бы, если бы увидели, до чего проста и строга его внешность. Никаких шумно и торопливо куда-то спешащих офицеров, никакого ненужного и беспорядочного движения. Около узкой решетки один-единственный чиновник. Дальше двор с тремя или четырьмя солдатами, ожидающими поручений. В огромном ангаре стоит автомобиль, тщательно осматриваемый механиком. Затем другой двор, совершенно пустой, на который выходят окна двухэтажного дома. Из одного из окон устремляется в пространство сноп проводов. Мы всходим по широкой кирпичной лестнице с голыми стенами, лишь небольшая часть которых закрыта ковром. После нескольких минут ожидания дверь полуотворяется: „Войдите, господа…“
Мы проходим несколько метров по полутемному коридору и входим в большую, обильно освещенную широкими окнами комнату, служившую, по-видимому, прежде классом. На стене еще остались две черные доски, на которых сейчас приколоты карты обоих театров войны. В углу стол с бумагами и книгами и простая чугунная печка.
Генерал Жоффр здесь совершенно один. Он делает несколько шагов навстречу нам:
– Господа, благодарю вас за посещение. Я рад вас принять. Вы уже видели кое-что и еще увидите интересные вещи. Это позволит вам опровергнуть выдумки немцев. Вы должны восстановить истину. Надо говорить правду.
Генералиссимус умолк. Он слегка кивнул головой и полуобернулся, давая понять, что аудиенция окончена.
Тогда один из наших коллег выступил вперед и обратился к генералиссимусу с речью, поздравляя его с получением отличия, а именно военной медали, врученной ему президентом Пуанкаре 3 накануне.
– Это не имеет никакого значения, – сказал генералиссимус. – В настоящий момент ничто не имеет значения, кроме задачи обеспечить спасение родины…
Один из нас счел нужным воскликнуть: „Что уже достигнуто!“
Генералиссимус, слегка сморщив брови, бегло взглянул на прервавшего его и не произнес ни слова.
Свидание было окончено. Присутствовавшие при нас иллюстраторы просили его позволить им снять его. Он позировал им несколько минут, и мы лучше могли рассмотреть человека, который управляет французской армией.
Он большой и несколько тяжелый. У него сильная голова с выпуклым лбом и очень светлыми голубыми глазами, смотрящими из-под бровей-кустов. Нос узкий, у основания расширяется до белокурых, сильно поседевших усов. Волосы его также белокуры, с обильной проседью. Под губами небольшая бородка „муш“, смягчающая впечатление широты его крепкого, упрямого подбородка.
Костюм самый простой: черная куртка с тремя звездами на рукаве, воротнике и эполетах, тонкий золотой галун. Ни одного ордена. Генерал жестикулирует редко, говорит медленно, басом. Голос выдает его припиренейское происхождение (как известно, Жоффр по нации своей каталонец). Фотографы окончили и уносят с собой свой исторический документ. Мы уходим из генеральной квартиры, все такой же мирной и молчаливой, и отправляемся вновь на поля битв, каждая деталь которых известна только что покинутому человеку, избранному, чтобы отбросить нашествие…»
«Киевская мысль», 11 декабря 1914 г.
В бомбардируемом Реймсе *Для меня выяснилось с полной определенностью, что, пока Реймс бомбардируется, мне попасть в него будет нельзя. Власти находят легкомысленным пускать журналистов в город, где не проходит дня без того, чтобы несколько человек не оказались убитыми. Я ссылался, конечно, на то, что нейтральных журналистов генеральный штаб сам возил в Реймс и именно во время бомбардировки. Но, как мне разъяснили, здесь настойчивые просьбы журналистов встретились с необходимостью установить некоторые факты перед лицом нейтральных стран всего мира. Вперед же рисковать нашей драгоценной жизнью признано, кажется, ненужным и недопустимым. Тем не менее считаю я нелишним привести для читателей лучшее, на мой взгляд, описание визита журналистов в бомбардируемый Реймс, данное редактором «Journal de Genève» 1 Ваньером.
«Мы прибыли в Реймс по суассонской дороге, тянущейся по левому берегу Весли. Было уже за полдень. Пройдя многолюдное и оживленное предместье, мы вышли на правый берег реки и пошли вдоль бульвара.
Здесь все словно вымерло. Ни одного прохожего. Дома заколочены. В некоторых окна забиты досками, чтобы защитить их от взрыва гранат. Мы завернули направо, в широкую улицу с аркадами, носящую имя „Druet d'Erlan“. Первый дом направо, „Hôtel Continental“, буквально изрешетили бомбы. Двумя шагами дальше – „Hôtel du Nord“, где мы и остановились. Второй этаж его совершенно разрушен, но rez-de-chaussée остался нетронутым. Пока мои товарищи заказывают обед, я отправлюсь шататься под аркадами. Все магазины заперты. Молчание смерти и безмерная скорбь нависли над городом. Однако вот лавочка. Ее металлические шторы опущены, но дверь открыта. Я вхожу. Здесь продаются иллюстрированные открытки. Я восхваляю мужество молодой продавщицы, оставшейся на своем посту в такое время. „О, – отвечает она, – надо же чем-нибудь существовать. Вы ведь знаете, что вся эта история тянется вот уже три месяца“.
– Но сегодня, – говорю я, – не стреляют.
– Подождите, это начинается всегда после полудня.
В отеле „Континенталь“ обед необычайно оживленный. Один офицер своими рассказами о жизни в траншеях заставил нас хохотать до слез… Бьет два часа. Вносят черный кофе. И в это же самое мгновение страшный грохот потряс дом и заставил нас вскочить на стулья. Одна граната разорвалась на улице Châtinisle в двух шагах от отеля.
Прибежал наш шофер и рассказал, что видел, как рухнула целая стена. „Так и есть, – говорит хозяйка отеля, – они всегда начинают в это время“. И совершенно спокойно, обычным тоном предлагает нам ликеры и кофе. Второй взрыв. Небольшой промежуток – и третий взрыв, такой сильный, что дрожат стекла в окнах и посуда на столе. В залу вошел жандармский офицер. В руках у него маленький осколок гранаты, упавший в его экипаж.
Мы поднимаемся, чтобы идти к собору. „На ваш страх и риск“, – предупреждает сопровождавший нас офицер.
Жители Реймса знают, что немецкие батареи расположены с восточной стороны города и что, стало быть, дома, фасады которых обращены к западу, подвергаются меньшей опасности от бомбардировки.
По дороге в западную часть города мы пересекаем площадь Druet.
Множество людей бежит под грохот канонады, останавливается под аркадами и оглядывается. Еще мгновение – и улица уже почти пуста. Под аркадами осталось лишь около дюжины зрителей. Они ждут. Их лица полны скорби, гнева и боли. Три месяца жители Реймса присутствуют при том, как их родной город, полный прекрасной старины, разрушается камень за камнем. Они присутствуют при этой нестерпимой пытке, бессильные помочь, находясь сами под постоянной угрозой быть убитыми тут же каким-нибудь осколком гранаты или быть погребенными под развалинами собственного дома.
Закоулками мы пробиваемся к собору. Не буду останавливаться на описании публичных и частных зданий, опустошенных или совсем разрушенных бомбардировкой. Их достаточно дано и без меня. Разрушены дворец архиепископа, театр, госпитали, казармы, мастерские, музеи, старые отели, крыши которых сорваны, а покосившиеся стены падают, источенные огромными бесчисленными дырами. Но есть кварталы, которые благодаря своему выгодному расположению остались совершенно нетронутыми, и видно даже несколько открытых магазинов и кафе.
Но большая часть домов остается заколоченными, окна закрытыми и часто даже забитыми, как кирасой, досками. Мы углубляемся все дальше в пустынные улицы, где царят молчание и траур. Время от времени, все с большими промежутками, раздается выстрел и вслед за ним страшный взрыв разорвавшейся в какой-нибудь части города бомбы.
Потом опять гробовое молчание. Только звук наших шагов раздается на тротуаре.
Мы проходим к собору узкой улочкой, на которой находится отель „Lion d'or“. Как раз перед отелем разорвалась граната. Она вырыла яму в мостовой, а осколками проделала широкую трещину в стене дома.
Какой-то человек стоял неподалеку. Снаряд почти целиком попал ему в лицо, и он упал навзничь на тротуар, где кровь его гигантским красным пятном расплылась по белой штукатурке. Его перенесли в вестибюль отеля. Один из моих товарищей оказался врачом и сейчас же освидетельствовал его рану. Ему проломило висок. Положенный на спину, несчастный кричал и извивался от боли, конвульсивно сжимая руки, красные от крови, потоком бегущей у него из раны.
Две другие гранаты, судя по обломкам огромные, упали за несколько минут до нашего прибытия около собора. Одна на кафе „Св. Реми“. Его хозяин как раз уехал этим утром. Взрывом перебило все окна и разбросало далеко вдоль улицы ставни, защищавшие передний фасад. Порог был буквально усыпан разбитыми стеклами и досками. Одна бомба упала к ногам статуи Жанны д'Арк 2 и проделала дыру в мостовой. Статуя не тронута.
Утверждали, что французы поставили пушки на соборную площадь и что только для того, чтобы уничтожить эту артиллерию, была предпринята сентябрьская бомбардировка. Собор окружен с трех сторон высокими домами, от которых он отделен только узкими улицами. Совершенно очевидно, что с этих сторон было невозможно организовать артиллерийский огонь, без того чтобы не разрушить домов на довольно обширном пространстве.
Правда, перед собором есть площадь, на которой можно было бы поставить батарею, и оттуда вдоль улицы Liberger. Но эта улица расположена к юго-востоку, т. е. как раз в направлении позиций, занятых во время бомбардировки французами. Во всяком случае вот уже прошло два месяца. В городе нет больше войск. А бомбардировка тем не менее продолжается. И сегодня еще, 27 ноября, упало три бомбы на площади, всего в нескольких метрах от здания.
Изумительная церковь со своим тройным порталом, украшенным неоценимыми скульптурами, разрушена не в такой уж сильной степени, как это предполагали в первое время. Метрах в 200 можно было бы даже думать, что она цела и невредима. Но вблизи видно, что несчастье непоправимо.
Пожар лесов, окружавших одну часть здания, обжег стены во всех направлениях, так что они то и дело распадаются на массы осколков, подымающих облака пыли.
Одна часть фасада кажется словно выскобленной беспощадной рукой, а длинные расползающиеся трещины кажутся проказой, заразившей уже одну часть здания и продолжающей без конца грызть ее.
Левый портал буквально уничтожен пламенем, главный изуродован в нескольких местах. Правый цел. Прекрасная группа „Распятие“, составленная из семи статуй, украшавшая фронтон левого портала, серьезно ранена. Римский солдат, державший стрелу, потерял руки, плечи и голову.
И никогда картина разрушения и великой скорби не производила на меня более трагического впечатления, чем здесь, на этом погубленном фасаде, перед покинутой площадью, пропитанной запахом пороха и пожара, среди этого терзаемого города, который сам уже становится для вас истекающим кровью, агонизирующим живым существом.
Канонада прекратилась. На улице Liberger жители вышли из домов. Вот молочница храбро проталкивает свою тележку по гипсу и обломкам, громко звеня колокольчиком. Нам сообщили, что еще один человек убит совсем поблизости.
Однако время уезжать, покинуть Реймс, окунуться в сырой туман, ночь, в мир полей и лесов».
«Киевская мысль», 23 декабря 1914 г.








