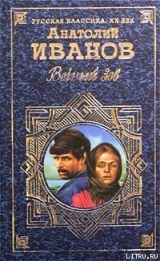
Текст книги "Вечный зов. Том I"
Автор книги: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Алейников тоже направился к дрожкам, милиционер, сидевший за кучера, подобрал вожжи.
– Постойте-ка… – И, раздвигая ветки, из-под куста поднялся неуклюжий парень-толстяк Аркашка Молчанов, по прозвищу Молчун.
В Михайловке не было человека диковиннее, чем этот. За свою почти тридцатилетнюю жизнь он вряд ли произнёс несколько сот слов. Годами иногда не слышал никто его голоса. На людях он бывал часто, хотя обычно сидел или стоял где-нибудь в сторонке, слушал, о чём гомонит народ, поглядывал с любопытством вокруг из-под своего спутанного тяжёлого чуба. Но молчал, как камень, и на его красивом, монголистом лице не отражалось абсолютно ничего.
– Слушай, Аркашка, ты немой, что ли? – спрашивали его иногда.
Обычно Аркадий ничего не отвечал на такие расспросы. Но, случалось, всё же разжимал губы:
– Почто же? Нет.
– Так чего всё молчишь-то?
– А об чём мне говорить?
И умолкал намертво снова на год, на два.
Аркадий был работящ, тих, добродушен и обладал чудовищной силой. Пятипудовый куль с пшеницей он шутя забрасывал на бричку одной рукой, взявшись за рога, легко валил наземь любого быка. Его силу особенно почему-то чуяли лошади, при его появлении оседали на задние ноги, беспокойно стригли ушами, хотя к животным, как и к людям, он никогда не проявлял злобы или насилия.
Жил он в просторном, светлом доме, построенном недавно в одиночку, с престарелой, глуховатой матерью, выполнял по дому все женские работы. На советы мужиков жениться отмалчивался по обыкновению, но один раз сказал:
– Они боятся. Какую ни попробуешь обнять – хрустят. Со стекла они, должно, все бабы, сделаны.
Девки действительно боялись этого парня, хотя, зная безобидный Аркашкин нрав, то и дело со жгучим любопытством вертелись у него на глазах.
Едва раздался Аркашкин голос, все умолкли. Аркадий прошёл вразвалку мимо притихших колхозников и сел на дрожки рядом с Иваном.
– Так… И далеко тебя прокатить? – Алейников снял фуражку, вытер мокрый лоб.
– До милиции, – сплюнул Молчанов на траву.
– Это можно. А в чём покаяться хочешь?
– В ту ночь, когда кони потерялись, я на рассвете к Громотухе ходил. Переметы проверить. Матерь прихворнула, ухи попросила, – не спеша проговорил Аркадий и умолк.
Все терпеливо ждали, что он скажет дальше. А он и не собирался вроде больше говорить.
– Всё? Выкидываешь тут фортели… Слазь к чёртовой матери!
– Я иду, гляжу – Кирьян тех коней ловит. Инютин-то… Ночью, значит. Ещё серо на небе, а он уж ловит коней. Скакнул на одного, другого в поводу держит. Поехал.
– Ну?! – раздражённо воскликнул Алейников.
– Иди ты… Что орёшь? – обиделся Молчанов и, нахохлившись, отвернулся.
– Ты, Алейников, дай ему высказаться. Не торопи.
– Это ить чудо голимое – Аркашка Молчун беседывает! – закрутился Евсей Галаншин. – Ты давай, Аркашенька, закручивай своё ораторство… Так, поехал Кирьян. А куда?
– К Звенигоре поехал! – со злостью, которой никто не ожидал, почти крикнул вдруг Молчанов. – Я проверил переметы, обратно иду. И Кирьян с пригорка спускается. Пёхом идёт, уздечками в руках побрякивает.
– Куда же он коней отвёл? – спросил Петрован Головлёв.
– И мне тоже любопытственно стало. Кирьян протопал в деревню, меня не заметил. Я взошёл на пригорок, глянул – недалече цыганский табор стоит, костры сквозь туман мигают…
Несколько мгновений люди стояли вокруг не шелохнувшись. Иван сидел рядом с Молчановым, опустив голову. Он даже будто и не слушал, о чём рассказывает тяжёлый на язык Аркадий.
Первым нарушил тишину Головлёв Петрован:
– Постойте, мужики… Так оно что же получается?
– Цыганишкам, значит, коней сплавил? Кирьян-то?
– Люди, люди! – врезалась сбоку в толпу Агата. – Ей-богу, Иван не виноват! Да разве ж он могёт на такое…
– Помолчи, Агата…
– А разобраться надо…
– Что ж ты, Молчун проклятый, раньше никому не обмолвился?..
Поднялся шум, гвалт.
– Тих-хо-о!! – заорал Алейников, размахивая фуражкой. И повернулся к Молчанову: – Значит, свидетельские показания хочешь дать? Что ж, поедем…
Сытый мерин поволок дрожки через луг на дорогу. Агата сделала вслед пару шагов, надломилась полнеющим уже станом, осела в траву. Плечи её крупно затряслись. Колхозники растерянно стояли вокруг, будто все были в чём-то виноваты. В прозрачно-синем небе по-прежнему густо толкались жаворонки, обливая землю радостным звоном…
Аркадий Молчанов вернулся на следующий день. Он пришёл под вечер, снял запылённую одежду, умылся и жадно начал хлебать окрошку с луком. Мать беспрерывно подливала ему в чашку.
– Чего там с Иваном? – заскочил в дом сын председателя Максим Назаров. – Разобрались?
– Разбираются.
И больше Максим не мог вытянуть из него ни слова.
Потом Молчанова ещё несколько раз вызывали в район. Туда увозили, оттуда он неизменно возвращался пешком, на расспросы не отвечал, только хмурился всё сильнее и сильнее.
Таскали раза три в район и Кирьяна Инютина, раз вызвали Фёдора Савельева. Кирьян возвращался всегда в подпитии, любопытствующим, как и Молчанов, не отвечал, только, скривив рот, произносил всегда одну и ту же фразу:
– Ништо, переворот ему в дыхало. И Аркашке вашему тоже. Честного человека не обгадить, как птице могильный крест.
И Фёдор после поездки был немногословен.
– Дал бог мне братца… – только и произнёс он.
В конце августа тридцать пятого года Ивана осудили на шесть лет. Фёдор встретил это известие молчком, только усами нервно подёргал. Кирьян Инютин напился и вечером зверски избил жену.
Колхозники не знали, что и думать.
– Дык что же ты, чурбак безголосый, болтал, что видел, будто Кирьян цыганам свёл лошадей? – кинулись некоторые к Молчанову. – Разве б безвинного засудили?
– Приснилось, должно, а он и заголосил спросонья.
– А идите все вы к… – впервые в жизни тяжело и матерно выругался Молчанов. И замкнулся совсем, наглухо, намертво.
В тот же вечер Панкрат Назаров сидел в халупке Ивана у приоткрытой двери, яростно садил папиросу за папиросой, тёр щетинистый подбородок. Под его закаменевшей ладонью щетина громко трещала, будто её лизало жаркое пламя. Агата, сухая и деревянная, сидела у окна, пустыми глазами глядела на плавающую за стеклом темень.
– Не верю я, Агата, в такую Иванову подлость, – сказал Панкрат, шумно вздыхая. – А с другого боку – зазря-то, поди, человека в тюрьме гноить не положено.
Он ещё выкурил одну папиросу и встал.
– А тебе так, баба, скажу: Иван Иваном, а ты тоже человек. На людей серчать нечего. Отворотишься ежели от людей теперь – погибнешь. А мы что ж, Ивана будем пока отдельно считать, тебя с детями – отдельно. А там и видно будет. Время – оно всё разъяснит, до полной ясности…
Фёдор Савельев и Кирьян Инютин после этого ещё немного пожили в Михайловке. А ранним летом тридцать шестого года оба уволились с работы и уехали в Шантару.
После ареста и осуждения Ивана никакой перемены в отношении михайловских жителей к Кирьяну и Фёдору вроде бы не обозначилось. С ними и раньше никто тесно не сходился, и теперь никто особой дружбы не завязывал.
Но Фёдор всё явственнее ощущал холодок отчуждения, при встречах с ним люди как-то неловко прятали глаза, а миновав, оборачивались. Фёдор всей спиной чувствовал эти неприятные взгляды, сжимался, втягивал в плечи голову.
Анна испытывала, видно, то же самое, большие светло-серые глаза её, в которых можно было когда-то утонуть, делались всё мельче, пустели, как степь к концу сентября. Стройная, высокая, имевшая уже троих детей, но всё ещё хранившая девичью лёгкость, она сразу как-то обмякла, потяжелела. Когда дома никого не было, частенько присаживалась к окну, грузно опустив на колени маленькие, горячие руки, подолгу смотрела на облитые синью утёсы Звенигоры, каменела в какой-то угарной нескончаемой думе. Потом неожиданно вздрагивала, вздымалась её грудь, начинало биться там что-то живое и яростное. Она клала на грудь руку, успокаивалась и продолжала тупо, не моргая, глядеть в окно.
Нередко в таком положении заставал её Фёдор, но ничего не говорил. Только подёргивал кончиком уса. Она вздыхала, поднималась, выдёргивала из головы костяную гребёнку. Светло-русые волосы холодными волнами скатывались на плечи. Анна расчёсывала их, снова большим узлом собирала на затылке и, сбросив окончательно забытьё, принималась за домашность.
Уехали они из Михайловки как-то неожиданно.
Однажды в душный полдень восьмилетний Димка прибежал с улицы, напился молока и, поковыряв в носу, спросил:
– Мама, а чего люди говорят… будто этого, дядьку Ивана, отец наш в тюрьму засадил?
Фёдор, как раз входивший в комнату, застрял в дверях. Потом грузно опустился на табурет у стола. Посидел в тяжёлом раздумье и вскочил, отшвырнул ногой табуретку.
– Хватит! Каждый глазами напополам стригёт, будто и в самом деле я Ивана…
И тем же часом уехал в Шантару, через три дня вернулся с новым приёмщиком отделения, подкатил к дому бричку-пароконку.
Через час нехитрые пожитки были уложены, Фёдор посадил на воз Анну с Андрейкой, сунул вожжи Семёну:
– Трогай потихоньку.
Сам приостановился, попросил спичек у подошедшего Назарова.
– Уезжаешь, значит? Где там робить будешь?
– В МТС пойду. На курсы. По машинной части.
– Эвон как. По машинной – это добре. Скоро их много, должно, машин-то, будет, – одобрил Панкрат. И, помолчав секунду, прямо сказал: – Это хорошо, что уезжаешь отсель.
– Вот как?!
Пробегавший мимо Евсей Галаншин полюбопытствовал с откровенным цинизмом:
– А как ты, Фёдор, без Кирьяна-то? Али всё же к себе его выпишешь? Внешне Фёдор остался спокоен, только потная шея налилась бронзой да потяжелели мятые щёки.
– А это уж как мне удобнее, – усмехнувшись, полоснул он Евсея тугим взглядом.
Кирьян Инютин с семьёй уехал из Михайловки через неделю. А ещё через две вездесущая Василиса Посконова, ездившая на воскресный шантарский базар, доставила известие, что Инютин тоже поступил на те самые курсы при МТС, о которых говорил Фёдор.
– Обои с тетрадочками под мышками теперь ходят, на одной скамеечке курсы постигают… – звонила она, захлёбываясь от торопливости.
– А про Анфиску его что слыхала, нет? – любопытствовали бабёнки.
– Да что… – виновато крутилась Василиса. – Где ж прознаешь за день? Кабы я хучь недельку там пожила…
Покачивали головами михайловские бабы и мужики, дивовались на такую дружбу Фёдора и Кирьяна.
* * * *
21 июня, поздним вечером, Антон Савельев приехал в Перемышль.
Чумазый, задыхающийся на подъёмах паровозишко еле-еле волок с полдюжины скрипучих деревянных вагонов, подолгу отдыхая на каждом полустанке. Во время остановок вагоны облепляли розовощёкие торговки в нарядных фартуках, наперебой предлагали отведать дымящихся вареников, запечённых в сметане грибов, жареных цыплят…
Из Харькова во Львов Антон переехал сразу же после освобождения Западной Украины. Тракторный завод тогда посылал в освобождённые районы группу специалистов. В глубине души Антону не хотелось сниматься с обжитого места, но он никому об этом не говорил, только на беседе у секретаря парткома завода спросил:
– Что же я делать там буду? Во Львове пока нет тракторного…
– Работа найдётся, – ответил секретарь. – Направляем тебя в распоряжение парторганов.
Во Львовском обкоме партии Антону предложили должность начальника цеха будущего крупного машиностроительного завода, а пока он строится, поработать снабженцем на этой же стройке. И вот теперь он приехал в Перемышль, чтобы поторопить местный кирпичный завод с отгрузкой кирпича.
Вечер был тёплый и тихий. Но из-за Сана всё равно тянуло бензиновой гарью, и Антон вспомнил последние тревожные разговоры в обкоме партии, где он почти ежедневно бывал по делам стройки: на той стороне реки скапливаются подозрительно большие соединения германских моторизованных и пехотных войск. По этому поводу высказывались разные предположения, в том числе и такое, что немцы просто отводят сюда на отдых свои войска из Франции. Но Антон чувствовал – на душе у львовских партийных работников беспокойно. Да и было отчего. Немецкие самолёты всё чаще и чаще нарушали границу, иногда подолгу кружили над Львовом, в городе и близлежащих посёлках часто вылавливали бандеровцев. Недавно одного из таких молодчиков сам Антон приволок в НКВД. Проходя в обеденный перерыв по территории стройки, он услышал за стенкой дощатой бытовки говорок:
– Гроб с крышечкой скоро будет Советской власти, чтоб мне не дожить до вечера… Так что зря, хлопцы, спину ломаете на этой стройке… А уж крышечку завинтим поплотнее…
Антон свернул за угол бытовки, увидел человек пять каменщиков, расположившихся на обед.
– Кто это тут крышку Советской власти завинтить собирается? – спросил он, подходя к ребятам.
Те нехотя встали. И тут только Антон сообразил, что поступил неосторожно, угол был глухой, поблизости ни души.
– А я, допустим, – усмехнулся верзила в обляпанном известью пиджаке и зыркнул по сторонам.
– Кто такой? Как фамилия? – Отступать было поздно.
– Карточку показать или на слово поверишь? – И верзила распахнул пиджак. На груди чернел вытатуированный трезубец – эмблема бандеровцев.
Терять времени было нельзя. Почти не размахиваясь, Антон саданул верзилу в заросший подбородок.
– Что стоите? Бей гада! – заорал тот, выхватывая нож.
Антон поднял с земли обломок кирпича – больше ничего не оказалось под рукой. Но кирпич был уже не нужен, четверо каменщиков навалились на бандеровца, скрутили ему руки…
Раздумывая обо всём этом, Антон шагал по тихим, утопающим в садах улочкам Перемышля к гостинице. На кирпичный завод он решил идти завтра с утра – завод работал и по воскресеньям, – а сейчас хорошо бы побриться и поесть.
Несмотря на поздний час, ему удалось отыскать ещё не закрывшуюся парикмахерскую.
Брили в этих местах не так, как в Харькове. Цирюльник сперва тёр лицо мыльной палочкой, потом ладонью долго втирал в кожу мыльную пену. То же самое он проделывал со вторым клиентом, с третьим. А потом уже брал бритву и возвращался к первому.
Но сейчас клиентов не было, и Антон побрился быстро. Парикмахер, старый, седой еврей, так стремительно махал бритвой, что было удивительно, как он ухитряется при этом не порезать кожу.
– Что за Саном делается, не слышно? – спросил Антон.
– Откуда же я знаю, что за Саном? – ответил парикмахер с отчётливой еврейской интонацией. – Или вы думаете, я туда хожу обедать сквозь пограничные кордоны?
Но, кончив бритьё, добавил:
– На днях, по слухам, напротив Перемышля какая-то танковая часть остановилась. Как вы думаете, что здесь надо германским танкам?
– Не знаю, – вздохнул Антон.
– Да, да… – вздохнул и парикмахер. – Но ведь не может этого быть. У Советского Союза же с Германией пакт о ненападении…
Потом Антон сидел в маленьком уютном буфете при гостинице. Здесь, как во львовских буфетах, давали такие же «гастечки» – микроскопические пирожные – и небольшие бутерброды – «канапки». Только кофе был не таким крепким, как во Львове, жиденьким и почти безвкусным.
Улёгшись на койку в своём номере, Антон долго ворочался, никак не мог уснуть. «Как там дома, Лиза? И приехал ли Юрий?» – почему-то беспокойно думал он. Единственный его сын Юрий, токарь на Харьковском тракторном, сегодня должен был приехать в гости, на весь отпуск.
Постепенно сон брал всё-таки своё. Последнее, что он услышал, – за тонкой дощатой перегородкой кто-то без конца мурлыкал весёлую львовскую песенку:
Во Львове идёт капитальный ремонт,
Шьют девушки новые платья…
Проснулся он от страшного грохота.
Вскочив на кровати, Антон в первые секунды не мог сообразить, где он и что происходит. Потом на стенах заплясали отсветы огня – что-то вспыхнуло недалеко от гостиницы. Почти одновременно что-то взорвалось перед самым окном, железные брызги ударили в стену над его головой, и проём окна словно заткнул вспучившийся столб огня и дыма.
Надёрнув брюки и схватив пиджак, Антон ринулся к двери. «Неужели война?» – подумал он на бегу, холодея от этой мысли. Из номеров выскакивали заспанные, полураздетые постояльцы, с криком бежали по коридору. Дико выла в каком-то номере женщина, и пронзительно плакал ребёнок.
Едва Антон выскочил на улицу, небольшая двухэтажная гостиница вздрогнула, кирпичная стенка, возле которой он стоял, вдруг повалилась на него, рассыпаясь. Антон успел отскочить и уже с противоположной улицы увидел, как медленно начала крениться черепичная крыша гостиницы и вдруг рухнула, провалилась между стен.
И только тут отчётливо и больно застучало в голове: «Это война!.. Война!.. Война!..»
На улице было почти совсем светло, но вокруг стоял невообразимый грохот, рвались снаряды. «Ведь они же оттуда, из-за Сана, стреляют прямой наводкой!» – сообразил Антон, хотел бежать к вокзалу. «А где же та женщина, что кричала? Успела она выскочить? Помочь… Помочь…»
Но это было неосознанным порывом, потому что в следующую секунду Антон понял – помогать некому: на месте гостиницы лежала куча кирпича и черепицы. Натянув пиджак, он побежал в сторону главной улицы, на которой разыскивал вчера парикмахерскую. Из домов выскакивали люди, из окон выбрасывали чемоданы, подушки, одежду, вязали это в узлы и с криком, с воем тоже бежали куда-то, падали, запинались о брошенные чемоданы, о всякую рухлядь. Ругань, стон, плач, взрывы, грохот – всё перемешивалось, превращаясь в сплошной неиссякаемый рёв, ещё больше усиливая панику.
Наконец толпа обезумевших людей вынесла Антона на центральную площадь, обсаженную низкорослыми пока каштанами, растеклась по ней, начала рассасываться по расходящимся от площади улицам. Антон остановился, соображая – куда же теперь ему идти? И здесь опять больно прошила голову вчерашняя мысль: «А как там, во Львове? Приехал ли Юрка?»
Из какого-то проулка выкатился зелёный броневичок и, протиснувшись меж людей, встал посреди площади. На броневичок вскочил человек в военной форме, поднял ко рту рупор.
– Товарищи! Не создавайте паники! – разнеслось от площади. – Возможно, это просто провокация… На всякий случай – всем отходить по Дрогобычскому шоссе, потому что вокзал и железнодорожные пути разрушены. В лесу, южнее Самбора, организован эвакопункт. Там вас ждут автомашины…
Толпа с узлами, мешками, чемоданами хлынула обратно в ту же улицу, по которой только что выкатилась к площади. В это время обстрел города внезапно прекратился, грохот разрывов умолк.
И тогда все услышали в небе надсадный прерывистый гул.
Над городом пузырились кроваво-чёрные клубы дыма. За этим дымом вставало солнце, проглядывая временами сквозь клубы огромной и тяжёлой, распухшей подушкой.
Туда, за эти дымы, навстречу солнцу, летели самолёты. Они летели низко, по три в ряд. На их крыльях отчётливо и зловеще чернели кресты…
* * * *
Июньский день пылал. Кособочилась деревянная крыша на шантарской пожарной каланче, потрескивала, раскалённая зноем, будто она-то и собиралась вот-вот вспыхнуть.
Несмотря на воскресный день, Вера Инютина, двадцатилетняя, полненькая, с редковатыми веснушками вокруг носа и припухших губ, с утра печатала на расшатанном, грохочущем «Ундервуде» доклад Кружилина на предстоящем в среду районном партийном активе. Сам Кружилин тоже с утра был в райкоме, и через открытые двери своей комнатки Вера слышала, как он беспрерывно крутит ручку телефона и хрипло кричит:
– Алло, алло! Станция?.. Катя!.. Это ты, Катя?.. Что там Новосибирск?.. Не отвечает?.. А квартира секретаря обкома… Тоже молчит?.. Куда ж они попровалились все? Ты вызывай обком через каждые пятнадцать минут.
Вера здесь работала уже два года, работа ей не нравилась. Сжав зубы, она с ненавистью выстукивала фразы, по-военному повествующие о том, сколько зимой и по весне было вывезено на колхозные поля навоза, сколько прополото посевов. Время от времени подходил Кружилин, молча брал отпечатанные листы и молча уходил.
– А-а, Яков Николаич! – промолвил он вдруг, взяв очередные листы. – Ты ко мне? Заходи.
– Зайду, – сказал Алейников, стоявший в дверях Вериной комнатки. – Сейчас зайду.
Кружилин, удивлённо глянув на Алейникова, направился к себе. А Яков прошёлся по комнатке, сел на подоконник. Он был в гражданском. Новый, совсем ещё не смятый парусиновый костюм и белая рубашка ярко оттеняли его посиневший с годами рубец на щеке. Поперёк этого рубца билась вздувшаяся красная жилка.
Вера боялась неразговорчивого, вечно хмурого Алейникова, из глаз которого, почти скрытых нависшими бровями, всегда лился знобкий, пронизывающий до сердца холодок. Она впитала эту боязнь с детства. Мать, укладывая в постель неугомонного Кольку, частенько говорила в сердцах:
– Да что за ребёнок, язви его! Вот погоди, кликну Яшку Алейникова, что с рубцом на щеке, он живо приедет…
Но Алейников к ним не приезжал. Зато Вера помнит, как Алейников приезжал ночью, перед рассветом, к Маньке Огородниковой.
Это было давно, через год после возвращения из Михайловки. Вера и Манька были почти ровесницы, они сдружились, целыми днями бегали по степи, играли в прятки, благо Громотушкины кусты подступали чуть не к избёнке Огородниковых, стоявшей на самой окраине Шантары.
Однажды они с Манькой долго читали при свете керосиновой лампы какую-то книгу, а когда закончили, Вера побоялась идти домой по тёмным улицам и осталась ночевать.
Сквозь липкий, тяжёлый сон она слышала, как заурчала под окнами машина, раздался какой-то стук, голоса. Когда протёрла ладонью глаза, увидела под лампой Алейникова – в тяжёлой, длиннополой шинели, в фуражке, пристёгнутой к подбородку глянцево-чёрным ремешком. У дверей стояли трое незнакомых людей в таких же шинелях, как Алейников. Манькин отец, густо, до самых глаз, заросший рыжей бородой старик, дрожащими руками натягивал сапоги. Алейников спокойно курил.
Манькин отец – Ерофей Кузьмич – был ей неродной – трёхлетней девчонкой взял её из детдома. Он работал в промкомбинате сапожником. Жили они вдвоём, потому что жены у Ерофея Кузьмича не было.
Вера помнит, как Огородников обулся, выпрямился.
– А за что? – спросил он.
– А там объясним, – вяло ответил Алейников, раздавливая тупорылым сапогом окурок на половице. – Думаешь, бородой закрылся, фамилию переменил – так и не разыщем? Разыскали.
– Прощай, Маньша, – повернулся к приёмной дочери Ерофей Кузьмич. – Ты уж подросла, ничего. Подвернётся хороший человек – замуж иди. Ничего, изба есть…
Говорил он спокойно и просто, будто уходил на работу, а к вечеру рассчитывал вернуться, только глаза лихорадочно горели.
…Алейников сидел на подоконнике, глядел на улицу, где под райкомовским палисадником, в полосатой тени от деревьев, и подальше, на замусоренной сенной трухой коновязи, куры разгребали сухую пыль.
Напротив, через дорогу, стоял просторный, под железной крышей, деревянный дом, в котором жил секретарь райкома. Дом был огорожен со всех сторон плотным деревянным забором.
Так ничего и не сказав, поднялся, вышел. И Вера совсем забыла про машинку, долго сидела не шевелясь, прижав ладонь к гулко стучащему сердцу. «Зачем, зачем он приходил сюда?» – туго и больно колотилось в голове.
* * * *
– Слушаю тебя, – сказал Кружилин, поднимая тяжёлую, давно поседевшую голову навстречу Алейникову.
Но Яков, как в комнате машинистки, молча сел на подоконник, стал угрюмо смотреть на улицу.
– Алло, Катя?.. Ну что, не отвечает Новосибирск? Нет? – опять принялся Кружилин вертеть ручку телефона. – Ну, ты скажи, будто вымерли все…
– Воскресенье же. Кто на рыбалке, кто бражничает, – промолвил Алейников. – Это мы всё работаем, работаем…
Кладя трубку, Кружилин покосился на Алейникова, опустил глаза на бумаги, разложенные на столе.
– Ты по делу? – спросил он, не поднимая головы.
– А без дела и зайти нельзя? Друзья всё же, – усмехнулся тот.
Тупое и тяжёлое раздражение разлилось по всему телу Кружилина. Он даже чувствовал, как копится внутри у него это раздражение, как тяжелеют лежащие на столе руки.
– Друзья, говоришь?
Поликарп Матвеевич, в отличие от Веры, не боялся Алейникова. Он, Кружилин, вообще никого и ничего на свете не боялся, даже смерти, которая не раз примеривалась, с какого боку его свалить.
Поликарп Матвеевич понимал необходимость и важность для революции той работы, которую делает Алейников, работы подчас трудной, грязной, может быть, и всегда опасной. Но он не понимал самого Якова, не понимал, что с ним произошло…
…После колчаковщины Кружилин взял Алейникова к себе в волисполком, секретарём. Но работать вместе пришлось недолго, потому что весной 1920 года в окрестностях Шантары вместо недавно разгромленной банды Кафтанова появилась новая. Налетая на деревни, бандиты поголовно уничтожали всех бывших партизан кружилинского отряда, вырезали их семьи, не щадя ни женщин, ни детей, сжигали их дома.
– Зиновий это, сын Мишки Кафтанова, по почерку вижу, – не раз говорил Алейников. – Поликарп Матвеич, дозволь мне, а? Я его, гада одноглазого, через месяц к тебе приволоку. А то этим… губошлёпам из Чека его сроду не изловить.
Яков говорил, глаза его нетерпеливо блестели, косматые брови подрагивали от возбуждения.
В конце концов Кружилин договорился с руководителем шантарской Чека – человеком вялым и беспомощным, явно сидевшим не на своём месте, чтобы Алейникову поручили организовать из чекистов и бывших партизан специальный отряд для ликвидации банды. И Яков, правда, не через месяц, а только глубокой осенью того же 1920 года прямо в кабинет Кружилина заволок бельмастого, лет тридцати пяти человека.
– Вот, как обещал… Стой прямо, стерва, перед Советской властью!
Это был действительно Зиновий Кафтанов, старший сын Михаила Лукича Кафтанова.
После этого Поликарп Матвеевич сам порекомендовал в Чека Якова Алейникова на место прежнего беспомощного руководителя. И не ошибся, потому что Яков, кажется, попал в свою стихию, быстренько выгреб из звенигорских ущелий и громотухинских лесов всякую нечисть, навёл в волости порядок. И очень сожалел, что Алейникова вскоре перевели в Барнаул. А потом обрадовался, когда Яков опять оказался в Шантаре.
– Ну, давай, Яша, помогай, – сказал он ему. – Время беспокойное настаёт, кулачьё во время нэпа притихло, сейчас опять зашевелилось.
Время наставало действительно беспокойное, начиналась коллективизация. Кружилин тогда работал уже секретарём райкома партии.
Яков Алейников будто нюхом чуял, где и что замышляет кулачьё, вовремя обезвреживал заговоры, подсекал главарей. День и ночь он мотался по району, почернел, похудел, но был неизменно весел, добродушен и открыт.
– Трудненько, Яша? – иногда спрашивал Кружилин. – Одни брови да рубец на щеке и остались.
– Выдюжим, – отвечал Алейников, обнажая в улыбке крепкие белые зубы. – Я завтра в Белый Яр махну. Там мои люди давно присматриваются к двум колхозничкам. Какие-то гости их временами навещают. Всегда тайно, ночью. Подозрительно.
– Подозрительно, – соглашался Кружилин. – По весне, перед самой пахотой, там пятнадцать лошадей пало. Объелись, говорят, чего-то…
– Выясним. Я буду с тобой связь держать. Если что – сообщу, посоветуюсь.
Он действительно всегда советовался, держал райком в курсе всех своих дел.
А потом Яков Алейников стал меняться. Он стал молчаливее, скрытнее, в райкоме появлялся хмурый, небритый. Кружилин как-то не уловил, когда, собственно, началась в нём эта перемена. Попервоначалу Поликарп Матвеевич думал, что Яков просто чертовски устаёт да и годы идут, вот и не выдерживают нервы чудовищного напряжения. В райкоме он появлялся всё реже и реже.
– Может, тебе, Яков, капитально отдохнуть, а? – сказал как-то Кружилин. – На курорт куда съездил бы.
– Наотдыхаемся… на том свете, ежели сейчас поводья отпустить, – мрачно ответил тот.
У Алейникова появился новый метод работы. Выслеживая какого-нибудь затаившегося врага Советской власти, Яков сперва создавал вокруг него пустоту, по первому подозрению хватая каждого, кто, по его мнению, мог как-то с этим человеком общаться. Тюремные камеры при НКВД были всегда переполнены. Зато потом, когда тот, за кем он охотился, неизбежно попадал в его сети, Алейников тщательно проводил расследование, пачками выпуская людей на волю.
– Ты эти штучки брось-ка, Алейников, – потребовал Кружилин, узнав о таком методе. – Невиновных сажать – за это знаешь ли… Ты не царской охранкой командуешь…
Позже Кружилин расплатился за эти слова. Правда, довольно своеобразно. В одну из поездок в Новосибирск по делам района его вдруг пригласили в краевое Управление НКВД и продержали там почти трое суток. Ночи он проводил на потёртом кожаном диване в одном из кабинетов, а днём с ним «беседовал» молоденький оперуполномоченный по фамилии Тищенко, без конца выясняя, где он, Кружилин, родился, чем занимался в юности, кто его родители, в каких местах воевал в гражданскую, кто были его боевые товарищи и т.д.
Это случилось где-то в середине 1936 года. Поначалу Кружилин недоумевал: чего же от него хотят? Потом не на шутку возмутился:
– Чёрт знает что такое?! Что вы ходите вокруг да около? Что вам нужно, говорите прямо.
– Скажем… – кивал головой оперуполномоченный. – Значит, и Фёдор Савельев был у вас в отряде?
– Да, был. Он командовал эскадроном. Лучший командир эскадрона был в полку.
– Так. А его брат Иван в прошлом году осуждён за вредительство. Знаете?
– Да, знаю. Хотя – не верю…
– То есть как не верите? Советским чекистам не верите? – пытаясь изобразить строгость на своём безусом лице, спрашивал Тищенко.
– Вы меня не пугайте. Не верю в то, что Иван Савельев вредитель.
– Ну, а факты? Ведь было же следствие…
– Да, факты… – устало проговорил Кружилин. – Потерялись две лошади, помню. Иван Савельев в банде Кафтанова был…
– Да, да, в банде Кафтанова… – повторил Тищенко, прошёлся по кабинету, явно с удовольствием прислушиваясь к скрипу новых сапог. – Тут ведь всё очень странно. Этот Иван Савельев в прошлом бандит. Его брат Фёдор – лихой партизан, но он женат на дочери Кафтанова.
– Дочь Кафтанова, Анна, тоже партизанила в моём отряде. Иван Савельев, бандит, в конце концов застрелил атамана банды Кафтанова. За участие в банде был осуждён, отсидел. Но в нём проснулся человек, он в последнее время…
– Давайте по порядку, – прервал Кружилина оперуполномоченный. – Анна, говорите вы, партизанила. А может быть, она… попросту шпионкой была в вашем отряде?
– Это исключено. Она порвала с отцом, с семьёй. Она очень любила Фёдора Савельева, моего командира эскадрона…
– И из-за любви пошла с красными? – улыбнулся Тищенко.
– Что же… Любовь – дело серьёзное.
– Когда дело касается классовых идей, то любовь… Впрочем, хватит на сегодня, – сказал вдруг оперуполномоченный, собирая бумаги. – Вы пока отдыхайте тут. Завтра продолжим. Поесть вам принесут. Туалет за этой дверью.
– То есть как – тут?.. Как – завтра?!
Но оперуполномоченный, не отвечая, вышел, щёлкнул английский замок в двери. Телефона не было, кабинет на четвёртом этаже. Да и не прыгать же в окно, если бы кабинет был и на первом.








