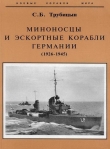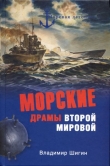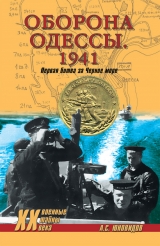
Текст книги "Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Черное море"
Автор книги: Анатолий Юновидов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
При этом комиссия должна была руководствоваться в свой работе не только регламентирующим ее приказом НКО, но и устными инструкциями и указаниями начальника санотдела ООР о порядке и ходе медосвидетельствования раненых и больных.
Не менее показателен был и состав комиссии – в нее входили 3 военврача 2-го ранга и представитель политуправления Примармии[139]139
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 3, л. 47.
[Закрыть].
Вклад военно-медицинской службы Приморской армии в оборону Одессы трудно переоценить. В условиях, когда на счету был каждый человек, тысячи раненых смогли вернуться в строй и тысячи были спасены и вывезены на Большую землю. Но даже такие невероятно трудные условия явились по воле судьбы для медслужбы Приморской армии всего лишь «репетицией», заложившей основы того, что ей пришлось в значительно больших масштабах делать для спасения людей в осажденном Севастополе.
От истребительных батальонов до Одесской дивизии
25-я, 95-я стрелковые, 1-я кавалерийская дивизии и другие части, входившие в состав Приморской армии и находившиеся в непрерывных боях с противником с первых дней войны, к началу оборонительных боев за Одессу уже имели значительный некомплект личного состава.
Для доукомплектования частей до штата по решению ВС Приморской армии райвоенкоматами г. Одессы была проведена «мобилизация людского состава в возрасте от 18 до 55 лет». Но так как на территории города уже было сформировано 8 истребительных батальонов[140]140
7 районных и один железнодорожный.
[Закрыть] и отряды народного ополчения, составившие так называемый «Одесский полк», то проведенная мобилизация не смогла надолго покрыть потребности армии в живой силе, которые из-за жестоких боев постоянно росли.
В городе помимо партийного набора, осуществленного по инициативе Одесского обкома партии, была проведена и вторичная общая мобилизация, при которой призывались не только состоящие на общем учете[141]141
Таких уже оставалось мало.
[Закрыть], но и лица, состоящие на специальном учете. Кроме того, были переосвидетельствованы «все лица, которые по физическому состоянию здоровья ранее были признаны негодными к военной службе».
Как сообщал Отдел укомплектования штаба Приморской армии, «на пополнение войсковых частей весь людской состав, годный для несения военной службы, в возрасте от 18 до 55 лет, был полностью призван и направлен в войсковые части». Таких оказалось 16 743 человека.
Большинство этих людей не имело ни опыта военной службы, ни военной подготовки, так как при обоих мобилизациях в городе был привлечен тот контингент, который по каким-то причинам не был призван с началом войны.
Все пополнение, призванное по мобилизации райвоенкоматами г. Одессы поступало в 136-й запасной стрелковый полк. Считалось, что в него должно поступать и «все пополнение, прибывающее с маршевыми ротами». Они должны были задерживаться в полку на 1–2 дня, где за это время проверялась их подготовка. Последующая отправка пополнения из полка в действующие части должна была производиться «исключительно из числа обученных».[142]142
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 32, л. 331.
[Закрыть] Однако на самом деле значительная часть пополнения (по некоторым данным, до 15 тыс. человек, т. е. почти половина всех прибывших) была направлена сразу на передовую, минуя полк.
Это объяснялось прежде всего исключительной напряженностью обстановки, не позволявшей задерживать поступающее пополнение на требуемый срок в тылу, а иногда и значительным количеством поступающего одномоментно пополнения. Пополнения в Одессу подвозились на крупных транспортах, доставлявших и по 5 тыс. человек за раз, что превышало пропускные способности полка, и так обучавшего одновременно 4–5 тыс. человек[143]143
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 32, л. 330.
[Закрыть].
Сам полк также не все время имел возможность проводить подготовку мобилизованных и необученного контингента из маршевых рот, так как во время кризиса под Беляевкой в полном составе был отправлен по решению Военного совета на укрепление Южного сектора обороны, где был почти полностью уничтожен фактически за один день боев.
Вместо полка был сформирован запасной стрелковый батальон, который через неделю также убыл на фронт, на этот раз в Восточный сектор, после чего полк сформировали во второй раз.
Сама Приморская армия также, как могла, пыталась пополнять некомплект личного состава за счет внутренних резервов. По решению Военного совета армии был «пересмотрен весь красноармейский и младший начсостав тылов армии и дивизий, откуда были изъяты и переданы в боевые части бойцы молодых возрастов, и взамен их были даны бойцы более старших возрастов, причем все тыловые подразделения были оставлены в сокращенном составе, которые со своими задачами вполне справлялись»[144]144
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 32, л. 331.
[Закрыть].
Сокращения штатной численности затронули и начсостав Приморской армии. Особенно радикальными они оказались в Полевом управлении штаба армии, где было сокращено 58 % личного состава. Все сокращенные были отправлены на вакантные командные должности в боевые части.
Одновременно было произведено и изъятие большей части табельного оружия из тыловых подразделений, которое «немедленно было передано в боевые части, где ощущалась острая нужда». При этом выяснилось что во многих тыловых подразделениях, даже в госпиталях и квартирно-эксплуатационной части, обнаружилось значительное количество неучтенного оружия, в том числе и остродефицитного автоматического. В различных службах и учреждениях тыла армии, в госпиталях и квартирно-эксплаутационной части изымались автоматические винтовки, пистолеты-пулеметы Дегтярева[145]145
Которых во всей армии имелось всего около 600 штук.
[Закрыть] и даже станковые пулеметы.
За время обороны Одессы в ней было сформировано 29 новых частей, в том числе одна дивизия[146]146
Несмотря на название «Одесская», формировалась она из частей Восточного сектора обороны, а одесситами лишь пополнялась.
[Закрыть], один полк, 4 отдельных батальона, 9 отдельных рот, 3 отряда и 3 бронепоезда.
В то же время на протяжении всей обороны города отношение командования армии к призванным в нее одесситам было устойчиво негативным[147]147
Доклады о низких боевых качествах одесситов направлялись даже Мехлису.
[Закрыть] и оставалось таким даже почти через полгода после окончания обороны города, в марте 1942 г. когда, отчитываясь о деятельности отдела укомплектования штаба Приморской армии командование армии отдельно указало, что «отмечая хорошие, высокие боевые качества пополнения, прибывшего с маршевыми ротами из СКВО, следует отметить, что среди пополнения, призванного по г. Одессе, оказалось немало лиц, проявивших трусость, дезертирство и сдачу в плен».
Во время обороны города командование армии стояло на еще более жестких позициях по отношению к одесситам. 11 октября отозванные из всех частей красноармейцы-одесситы были заблаговременно эвакуированы из Одессы, за день до того, как приказ об эвакуации был доведен до командиров всех частей[148]148
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 32, л. 308.
[Закрыть].
Приказов, донесений или каких-либо других документов, поясняющих причины возникновения такого поведения командования армии, мне обнаружить пока не удалось. Защитники Одессы защищали город с исключительной самоотверженностью, и в условиях организованно и последовательно ведущейся обороны города фактов переходов к врагу и сдачи в плен было довольно мало. По всей Приморской армии за весь 73-дневный период обороны зарегистрировано всего 336 подобных случаев. При этом массовых случаев перехода на сторону врага зафиксировано не было. Наибольшими были переходы 7–10 человек[149]149
В одном случае бойцов полка НКВД.
[Закрыть] Были зафиксированы случаи подобного поведения бессарабцев, и даже сотрудников органов НКВД, информация же о подобных случаях среди одесситов на настоящий момент мне не известна.
Как бы то ни было, подавляющее большинство сражавшихся с врагом жителей города честно выполнили свой долг перед Родиной и вместе со всеми заплатили высокую цену за победу.
Из 16 743 одесситов, добровольно ушедших на защиту города и призванных по мобилизации, 11 октября на транспортах «Земляк», «Чехов» и «Волга» было эвакуировано не более 4 тыс. человек.
Вдали от переднего края
В то время как части Одесского оборонительного района вели жестокие бои с противником на оборонительных рубежах города, тылы армии жили своей особенной жизнью, законы которой не всегда диктовались только сложившейся в осажденной Одессе обстановкой.
Во время самых ожесточенных боев в конце августа группа контроля при Военном совете ООР занималась тем, что она называла «ликвидацией случаев политической беспечности и повышение революционной классовой бдительности».
Повышение бдительности осуществлялось ловлей тыловых работников на том, что они допускали представителей этой самой группы к исполнению ими своих служебных обязанностей[150]150
То есть проведению проверок.
[Закрыть] по контролю, не требуя у них удостоверений личности.
Таким путем было выявлено немало проявивших «политическую беспечность и благодушие». Среди «утративших высокое чувство ответственности за сохранение военной государственной тайны, за повышение революционной и классовой бдительности» оказались начальник тыла 2-й кавдивизии, начальник головного обувно-вещевого склада Приморской армии, командир 136-го запасного стрелкового полка и другие «большие и малые начальники».
Учитывая статус проверяемых персон, никаких оргвыводов сделано не было, если не относить к таковым предупреждение командующего ООР, что «впредь за проявление подобных безобразий буду привлекать к суровой ответственности вплоть до отстранения от должности»[151]151
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 3, л. 49.
[Закрыть].
Вместе с тем, даже по линии политико-воспитательной работы в среде начсостава Приморской армии имелись куда более серьезные проблемы. В результате невыносимо тяжелых условий на передовой процветало пьянство. Насколько широко оно было распространено среди командного состава, можно судить по сообщениям командования ООР о том, что «в последнее время наблюдаются случаи, когда некоторые командиры и политработники занимаются чрезмерным употреблением спиртных напитков, в результате чего в нужный момент оказываются не способными руководить боевой деятельностью вверенных им частей».
По этому поводу выходили многочисленные приказы и распоряжения, которые по существу являлись лишь официальной реакцией на очередной громкий случай.
Громкими случаями считалось пьянство среди командиров и комиссаров дивизий и полков, но меры в подобных ситуациях применялись довольно мягкие.
И самым громким было дело начальника оперативного отдела Резервной армии (штаб которой создавался в Одессе в августе 1941 г. на базе штаба Одесского военного округа) генерал-майора Егорова, который «прибыл в штаб ОдВО и, не приступая к работе до 15 августа с. г., пьянствовал в санатории комсостава»[152]152
ЦАМО РФ, ы. 96а, оп. 1711, д. 1,л. 45.
[Закрыть]. Егоров был арестован и в сентябре был отдан под суд «за пьянство и невыполнение боевого приказа» с согласия самого Верховного Главнокомандующего, о чем была издана специальная директива Ставки[153]153
ЦАМО РФ, Ф. 48, оп. 3408, д. 4, л. 178.
[Закрыть].
Выговоры за пьянство с предупреждением, что при повторении подобных случаев они будут преданы суду, получили комиссар 25-й СД старший политрук Халин и исполняющий обязанности комиссара 287-го СП старший политрук Разоренов.
Прежний комиссар 287-го СП, батальонный комиссар Широков был наказан более сурово: приговором военного трибунала армии осужден за пьянство и дебош к 5 годам лишения свободы, без поражения в правах, с лишением звания «батальонный комиссар». Но решением командарма приговор исполнением до окончания военных действий был приостановлен с условием, что «если тов. Широков проявит себя стойким защитником Родины, то приговор в его отношении не будет приведен в исполнение»[154]154
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 12, л. 21.
[Закрыть].
Больше всего шуму после истории с Егоровым наделал случай с командиром 2-й кавдивизии полковником Рябченко, который за пьянство был снят с должности «как не справившийся с возложенными на него обязанностями по управлению частями» и назначен командиром стрелкового полка, после чего «в состоянии опьянения был ранен и от ран умер».[155]155
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 3, л. 50.
[Закрыть].
Еще более острой, чем на передовой, ситуация с пьянством была в тылу. Большая часть тыловых служб Приморской армии из-за относительно малых размеров оборонительного периметра находилась в Одессе.
И как с удивлением отмечало командование ООР, «вместо полнейшего порядка и организованности, которые должны быть прямым следствием расквартирования в городе большого количества военнослужащих, наблюдается обратное… Тылы частей и соединений, расположенных на территории г. Одесса, чрезвычайно разбросаны и растянуты. Растянутость и бесконтрольность создает почву для самовольных отлучек, пьянок».
Бардак в тылу носил масштабный характер. За две недели в городе только комендантскими патрулями было задержано 1042 человека рядового и младшего командного состава, не имеющих увольнительных.
На то, чтобы найти в Одессе тыловые подразделения своей части, у бойцов иногда уходили целые дни. Случалось, что расположение тыловиков не знало и их командование. Занятие зданий без разрешения и самовольная смена адреса были широко распространенной практикой.
Никем не контролируемые тыловики нарушали правила расквартирования, приводили в расположение частей женщин легкого поведения и сами периодически устраивали самые настоящие притоны.
«По ул. им. Пастера № 25 в квартире гр-ки О. была задержана группа командиров, которые систематически привозили туда продукты, спиртные напитки и устраивали пьянки, такой же притон был обнаружен на 10 ст. Большого Фонтана». Доходило до того, что командование ООР предлагало «специальным приказом по тылу определить точные границы тылов, частей и соединений Одесского Оборонительного района. Не допускать растянутости и неразберихи. Не допускать сосредоточения боеприпасов в одном месте, что имело место до сих пор», видимо, серьезно опасаясь, что «неразбериха и злоупотребления в тылу могут привести и к взрывам боеприпасов»[156]156
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 3, л. 51–52.
[Закрыть].
Массовый характер носили и случаи мародерства. Начальник штаба Одесского оборонительного района генерал-майор Шишенин констатировал в своем приказе, что «со стороны отдельных красноармейцев… допущен ряд преступно-нетерпимых случаев, позорящих звание воинов Красной армии.
В колхозе „Червоный партизан“ Сухомлинскго сельсовета у колхозников уведены две коровы, телка, застрелена свинья. В колхозе „Вольный бурлак“ застрелены 4 свиньи.
В колхозах пригородной зоны г. Одессы со стороны отдельных красноармейцев практикуется самочинство, носящее характер хищения отдельного имущества и продуктов»[157]157
Картофеля, свеклы, моркови и т. д.
[Закрыть].
Случаи мародерства постоянно происходили в колхозах пригородной зоны, а не в полосе действующей армии, в основном в колхозах «Червоный партизан», «Вольный Бурлак», «Карла Либкнехта», «20 лет Октября» и «Перекопской Победы». В большинстве случаев такого рода хищения колхозных продуктов проводились «под угрозой применения оружия и с участием вольных граждан, перевозимых на машинах из частей г. Одесса до колхозов и обратно»[158]158
ЦАМО РФ, ф. 288, оп. 9900, д. 4, л. 16.
[Закрыть].
После того как положение на фронте удалось стабилизировать с прибытием в Одессу 157-й СД, командование ООР получило возможность навести порядок и в тылу.
Начальнику управления тыла ООР были установлены жесткие сроки «искоренения всех указанных безобразий», и к 21 сентября порядок в городе был наведен. Он оказался действительно прочным. Во время беспорядков, произошедших в Одессе 9 октября из-за появления в городе слухов о прорыве румын в районе Татарки, решающую роль в наведении порядка в городе сыграл именно одесский гарнизон.
Флот ведет бой
Огневая поддержка
(18–28 августа)
6 августа командование Черноморского флота для защиты Одессы с моря сформировало отряд кораблей Северо-западного района Черного моря в который вошли крейсер «Коминтерн», эсминцы «Шаумян» и «Незаможник», 2-я бригада торпедных катеров, отряд сторожевых катеров, дивизион канонерских лодок и вспомогательные суда.
По мере продвижения противника к городу перед командованием ООР все острее вставал вопрос о недостаточности имеющихся в его распоряжении огневых средств. Отряд кораблей Северо-западного района, в который изначально были включены наименее ценные в боевом отношении корабли, не мог решить постоянно возраставших задач по огневой поддержке войск ООР. Эсминцы «Шаумян» и «Незаможник», построенные еще в годы Первой мировой войны, и совсем дряхлый крейсер «Коминтерн»[159]159
Построенный и вовсе 60 лет назад.
[Закрыть] давно устарели и ни по своим ходовым качествам, ни по дальнобойности установленных на них орудий не годились даже для эффективной огневой поддержки войск в условиях активного противодействия дальнобойной артиллерии и авиации противника.
Поэтому с двадцатых чисел августа в помощь северо-западному отряду стали привлекаться сначала эскадренные миноносцы современной постройки, а потом и более крупные корабли.
Начало привлечению в Одессу дополнительных сил Черноморского флота положила исключительная ситуация, неожиданно возникшая 18 августа, после получения контр-адмиралом Жуковым, формально являвшимся на тот момент еще командиром Одесской военно-морской базы[160]160
Директива Ставки о назначении его командующим вновь создаваемого ООР пришла только в ночь на 19-е августа.
[Закрыть], срочной радиограммы Октябрьского. Командующий флотом сообщал, что «из Сулины вышли 8 крупных и 4 малых транспорта противника с десантом, в охранении 10 катеров. Вылетела наша авиация. Вам приготовится уничтожить корабли противника внутри минного заграждения».
Зам. начальника штаба базы капитан 3-го ранга Деревянко в докладе по оценке обстановки высказал сомнение относительно того, что на транспортах находится именно десант, указав, что румыны не имеют такого количества крупных транспортов, и вероятно, авиаразведка напутала с определением их размеров. Эскорт из 10 катеров также вряд ли мог сопровождать крупное десантное соединение. Для этой цели румыны использовали бы имевшиеся у них эсминцы и вспомогательные крейсера. Также в состав конвоя не входили и тральщики, которых для преодоления советских минных заграждений требовалось не меньше одного-двух десятков.
В итоге Деревянко сделал вывод, что обнаруженный отряд судов не может быть десантным, направляется не к Одессе и скорее всего, осуществляет какие-то внутренние перевозки.
Начальник штаба базы, капитан 1-го ранга Иванов, согласившись со сделанными в докладе оценками и выводами предложил не отвлекать значительных сил отряда Северо-западного района от огневой поддержки войск и конвоирования транспортов. После размышлений Жуков решил во исполнение приказа командующего флотом выслать против каравана противника лишь отряд торпедных катеров, канлодку и эсминец. Высланные корабли вернулись к утру 19-го августа, не обнаружив противника. В последующие дни из штаба флота, над которым витал призрак захвата немцами Норвегии с моря, снова поступали сообщения о выходе из Сулины[161]161
Так как она являлась ближайшим к Одессе пунктом базирования румынского флота.
[Закрыть] отряда судов противника, но штаб Одесской ВМБ больше никого на их перехват не посылал, ограничиваясь информацией об этом всех кораблей отряда Северо-западного района и приказами об усилении наблюдения за морем.
Однако на этом история с мнимым десантом не закончилась. Утром 19 августа после безрезультатных поисков десанта на одесский рейд неожиданно прибыл отряд кораблей из состава второго дивизиона эсминцев, включавший лидер «Ташкент» и эсминцы «Бодрый», «Безупречный» и «Беспощадный». Уже в базе отряд получил приказ вице-адмирала Октябрьского нанести удар по войскам противника в районе сел Свердлово и Визирка. Указанные села на момент получения приказа находились в тылу противника. Возможно, там находились румынские резервы, но стрельба из-за удаления от передовой и невозможности корректировки могла вестись только по площадям и, следовательно, при нахождении противника в полевых условиях, вне стационарных сооружений не могла оказаться высокоэффективной – он просто успевал покинуть зону обстрела.
Проведенный согласно полученному приказу огневой налет полностью это подтвердил. По разным данным, во время обстрела было выпущено от 490 до 1000 130-мм снарядов, но особого эффекта обстрел не дал. В отряде кораблей Северо-западного района Черного моря за 12 дней его существования уже успели освоить стрельбу с применением корректировочных постов и пользовались только ею. У командования Одесской базой возникло сильное желание использовать неожиданно появившиеся в городе корабли более эффективно, но в наличии не имелось свободных корректировочных постов, так как все имевшиеся средства давно были задействованы для ударов по врагу[162]162
И их все равно не хватало.
[Закрыть].
По приказу Жукова было немедленно развернуто создание «резервных корректировочных постов». Меньше чем за сутки такие посты были созданы. «Ташкент» и «Бодрый» ночью по распоряжению командования флотом ушли в Севастополь, а «Беспощадный» и «Безупречный» половину следующего дня провели в Одесском заливе, обстреливая по данным корректировщиков позиции противника. Однако к обеду оба эсминца вернулись в гавань, так как скоро выяснилось, что ни один из них не подготовлен к ведению длительного огня на боевом маневрировании.
У «Беспощадного» начались неполадки в штурманской и электромеханической боевых частях, а у «Безупречного» артиллерия не выдержала темпа стрельбы и нарушилась радиосвязь.
Отправляя корабли обратно в Севастополь, командование базы передало с командиром «Беспощадного» Негодой письмо начальнику штаба флота, в котором просило не ставить больше задач по обстрелу тыловых объектов противника. В письме также сообщалось об организации корпостов, которые уже назывались не резервными, а создаваемыми для обеспечения кораблей флота. При этом особо подчеркивалась необходимость создания корпостов и на всех кораблях флота, которые будут придаваться базе.
Сама Одесская военно-морская база располагала уже 4 резервными постами[163]163
В дальнейшем их стали называть просто базовыми.
[Закрыть], созданными в результате появления в Одессе кораблей 2-го дивизиона. Одесские корректировочные посты впоследствии оказались лучшими на флоте. Возглавляли их только профессиональные артиллеристы со значительным опытом, в звании не ниже старшего лейтенанта. Пост, специально предназначенный для корректировки огня тяжелых кораблей, возглавил флагманский артиллерист базы, капитан 2-го ранга Филиппов.
Каждый корпост имел в своем составе 12 человек, что в 2–3 раза превышало численность корабельных корпостов. По сути они представляли из себя корректировочное отделение, способное в случае необходимости эффективно прикрыть отход артиллерийского офицера-корректировщика. Каждый из постов имел двух радистов, и был обеспечен в качестве дополнительной еще и телефонной связью, использовавшейся в местах, где можно было проложить кабель. Это делалось для облегчения маневра огнем, так как телефонная связь в ООР подключалась в единую сеть, по которой можно было связываться и с разными командными пунктами, и переключаться на различные батареи. Таким образом, корректировочные пункты Одесской военно-морской базы имели возможности, не доступные армейским и флотским корректировщикам. Впоследствии корректировочные посты базы уже по образцу флотских стали вооружаться автоматическим оружием и пулеметами, что еще более повысило их боевую устойчивость.
Письмо возымело действие. Военный совет Черноморского флота решил привлечь к огневой поддержке крейсеров «Червона Украина», «Красный Крым» и «Красный Кавказ», а также лидеров – «Харьков» и только что вступивший в строй «Ташкент». Правда, при этом корабли должны были одновременно решать и задачи конвоирования идущих в Одессу и из нее транспортов и сами осуществлять, доставку пополнений и военных грузов, а также эвакуацию раненых. Поэтому огневую поддержку корабли могли оказывать в основном только во время пребывания конвоируемых ими транспортов в порту, а иногда, и находясь под разгрузкой[164]164
Во время обороны Севастополя случалось, что корабли вели огонь и при производстве ремонта в Корабельной бухте.
[Закрыть]. Поэтому для экономии драгоценного времени, в течение которого корабль мог вести по противнику огонь из своих орудий, Одесская военно-морская база нередко высылала корректировочные группы, снабженные рациями, еще до прихода корабля в порт. На подходящий к Одессе корабль по радио передавались координаты целей, и корабельная артиллерия открывала огонь, как только противник оказывался в зоне досягаемости ее орудий.
Такая тактика не отличалась высокой эффективностью: боевые корабли грузовых трюмов не имеют, и в результате удавалось разместить на них не очень много груза, который мешал работе экипажа во время боя и снижал остойчивость корабля при волнении моря, ухудшая его маневренность. Еще одним фактором, снижавшим эффективность огневой поддержки, оказалась недостаточная довоенная подготовка команд части боевых кораблей. Некоторые корабли не имели опыта стрельбы по указаниям корректировочных постов и на учениях освоили лишь метод стрельбы по площадям, который мог использоваться только при налетах на вражеские базы, а при стрельбе по технике и живой силе противника был малоэффективен и совершенно не годился для ведения огня по войскам противника с больших дистанций и для подавления вражеских батарей.
22 августа в Одессу прибыл первый отряд кораблей, приданных базе исключительно для осуществления огневой поддержки. В него входили крейсер «Красный Крым» и эсминцы «Фрунзе» и «Дзержинский». Теперь на всех кораблях уже имелись корректировочные посты. Тогда же в связи с неудачным опытом стрельб «Беспощадного» и «Безупречного» впервые была введена проверка боевых кораблей, придаваемых базе на боевую готовность. Крейсер и эсминцы получили задачи по огневой поддержке войск. При этом крейсеру выделили корпост базы, а корпосты эсминцев стали проходить практику под руководством корректировщиков базы.
Ввиду сложности обстановки огневая поддержка не прекращалась и с наступлением темноты. Правда, корректировщики кораблей с этим справиться пока еще не могли, поэтому корабли получали целеуказания по радиосвязи от корректировщиков базы. При этом с учетом ночных условий огонь сначала двух, а потом и трех кораблей был сосредоточен на одном участке. И результаты стрельбы в этот раз оказались высокими. Весь следующий день противник в районе, обстреливавшемся накануне кораблями, больше не предпринимал атак. После этого крейсер, сопровождаемый «Дзержинским», ушел в Севастополь, а «Фрунзе» остался в Одессе.
25 августа произошла смена кораблей. В Одессу, охраняя очередной конвой, прибыл эсминец «Беспощадный», вооруженный новыми 130-мм орудиями, а «Фрунзе» ушел в Севастополь.
Вместе со сменой кораблей произошел и обмен письмами между штабами ЧФ и Одесской ВМБ. Флагарт эскадры кораблей Черноморского флота капитан 1-го ранга Руль, которому командир «Красного Крыма» кавторанг Зубков доложил о результатах дневных и ночных огневых налетов, просил прислать документацию по организации и использованию корректировочных постов базы. Штаб базы подготовил и отправил требуемые документы.
На подходе к Одессе эсминец пробовал подавить вражеские батареи, ведшие огонь по охраняемым им транспортам. В районе Новой Дофиновки «Беспощадный» поставил дымзавесу между транспортами и обнаруженной им по вспышкам батареей и вступил с ней в огневую дуэль.
Но румынам с первых залпов удалось добиться накрытия эсминца, и «Беспощадному» пришлось уйти в собственную завесу. В районе Фонтанки, где находилась еще одна вражеская батарея, имевшая, по данным разведки 120-мм орудия, командир эсминца, капитан-лейтенант Негода, возможно решил взять своеобразный «реванш».
Когда конвой подошел в темноте к месту ее нахождения, Негода отдал приказ вести огонь по предполагаемому месту ее расположения. Особой необходимости в этом не было, так как конвой, шедший в темноте, вряд ли мог быть обнаружен противником. Обнаружив эсминец по вспышкам, батарея открыла ответный огонь. Эсминец, уточнив координаты батареи, повел по ней беглый огонь из всех орудий. Но батарея противника оказалась способной быстро пристреляться, несмотря на темноту. Эсминец вынужден был перейти на зигзаг, но снаряды продолжали падать все ближе. После того как осколки стали обсыпать палубу, «Беспощадный» выставил дымзавесу и отправился догонять успевшие уйти за время боя вперед транспорты.
После тот как транспорты добрались до порта, эсминец был оставлен до утра в распоряжении командования базы. В полночь на нем приняли радиограмму от командующего ООР контр-адмирала Жукова: «Нанести артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника в районе Гильдендорф, Визирка – поддержать морскую пехоту». Получив радиограмму, в которой не указывалось время нанесения удара, Негода связался с главным корректировочным постом базы. С него передали: «Ждать до утра». Опасаясь, что утром эсминец может подвергнуться налету авиации, Негода снова связался с корректировочным постом и в результате имел разговор уже с командиром 1-го морского полка. Осипов сообщил командиру эсминца координаты и раздраженно ответил: «Огонь откроете по моему приказу». Приказ об открытии огня поступил на рассвете. В этот раз «Беспощадный» стрелял успешнее и продолжал обстрел берега до тех пор, пока на транспорт «Армения» не погрузили около тысячи человек раненых. Конвоируя транспорт, эсминец отправился в Новороссийск.
А 26 августа впервые был применен метод использования в качестве корректировочных постов и самих кораблей. Во время очередного обстрела порта сигнальщик-наблюдатель крейсера «Коминтерн», находившегося на территории порта, сообщил: «Вижу несколько выделяющихся орудийных вспышек». Возможно, обнаружению дальнобойных орудий противника способствовала и погода – висевшие над горизонтом облака усиливали вспышки отблесками. Взятые по компасу пеленги на вспышки не менялись. Хронометраж показал, что от момента вспышки до разрыва проходит 24 секунды, что было типичным для ведения стрельбы дальнобойной батареей. Пеленги, взятые с крейсера и с Жеваховой горы, где находился главный корпост базы, которым командовал флагманский артиллерист базы Филиппов, сошлись на высоте 65,9, расположенной в 17 км от порта.
После доклада флагарта командир базы принял решение подавить дальнобойную батарею противника огнем 180-мм береговой батареи № 411 капитана Никитенко. После третьего залпа батареи вражеские снаряды перестали рваться в порту. Случай произвел на командование ООР сильное впечатление. Начальник гидрографической службы базы, капитан 3-го ранга Слободник, получил распоряжение инструментально засекать стреляющие батареи. Для этого на трех наиболее высоких зданиях города были установлены теодолитные посты, снабженные телефонной связью. Недостатка в практике у них не было, и поэтому очень скоро вражеские батареи стали засекаться уже после второго залпа.
27 августа в Одессу пришел эсминец «Смышленый», сменивший «Беспощадный». Такая частая смена эсминцев объяснялась параллельным выполнением ими задач по конвоированию транспортов. Корабли вели огонь только в течение времени, необходимого для разгрузки с транспортов доставленных грузов и погрузки на них раненых и эвакуируемых.
На борту «Смышленого» находился корректировочный пост, подготовленный уже в соответствии с рекомендациями базы. Для экономии времени обучение состава поста проводилось прямо на борту эсминца, во время его следования к Одессе. Однако готовность и самого эсминца, и корректировочного поста к проведению боевых стрельб оказалась низкой.