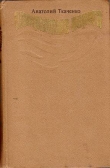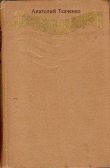Текст книги "Собака пришла, собака ушла"
Автор книги: Анатолий Ткаченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Анатолий Ткаченко
Собака пришла, собака ушла
Обсерватория стояла в роще, на берегу Амура. Из окна радиорубки виднелся раздольный плес, заливные луга по ту сторону, лодки рыбаков. Иногда проходили белые медлительные пароходы, как по экрану кино. Я надевал наушники, садился за стол так, чтобы краем глаза видеть Амур, и, слушая попискивание мембраны, записывал пятизначные цифровые группы. Первая означала точку на карте мира, вторая – давление атмосферы, третья – направление ветра и т. д. Группы выстраивались в столбцы, заполняли листы, а листов скапливались вороха. Я слушал беспрерывное зудение морзянки, она как бы сама вливалась в меня и цифрами выходила из-под руки. Это ничуть не мешало мне думать, смотреть на Амур, даже напевать песню, если мне этого хотелось: радист я был армейский, первого класса.
Недавно я демобилизовался, привыкал к жизни по гражданскому распорядку, с великим счастьем носил широченные матросские штаны, купленные на барахолке, и белую рубашку, которую мать стирала мне каждый вечер, смотрел все фильмы подряд, а если заводились деньги, навещал хорошие рестораны. И работа после армейской службы была для меня веселой обязанностью, я удивлялся даже: «За что платят деньги?»
Входила женщина-техник, брала листы и в другой комнате наносила «данные» на синоптические карты. Старый синоптик Макаров расчерчивал карты изотермами и изобарами, потом, склоняясь над ними, смоля папиросой, предсказывал погоду на сутки вперед.
Кончался сеанс, я выключал приемник, выбегал из радиорубки, делал на турнике несколько упражнений. Размявшись, шел в рощу или сбегал под гору, к Амуру. У берега всегда стояли плоты, лодки, с них мальчишки ловили рыбу – карасей, сомов, касаток. Можно было порыбачить, выпросив у кого-нибудь удочку, можно было искупаться, хорошо было и просто посидеть у рыжей амурской воды на чуть качающихся бревнах. Минут за пять до начала сеанса синоптик Макаров появлялся на обрыве и, сложив у рта ладони, звал меня.
На работу я ходил с окраины города, где тогда жила моя мать, километра за четыре. Дорога тянулась сначала по берегу – и это была самая веселая ее часть, – после голыми увалами, распаханными в войну под огороды. Летом, когда на увалах зеленела картошка, они смотрелись не так грустно, зато осенью и ранней весной меня расстраивала их серая пустынность. Особенно были неуютны овраги с глинистыми оползнями, поздним или ранним снегом, грязными ручьями. Их было пять на моей дороге, и каждый я преодолевал бегом: не хотелось дышать горклым воздухом.
На второй год, весной, я шел, как обычно, в обсерваторию. Выбежав из пятого, последнего оврага, увидел куцую белую собачку. Она суетилась в кустах голого тальника, поднимала лапку, обнюхивала пеньки, смешно морща нос. Я покликал ее, она мельком глянула в мою сторону, занялась своим делом, а когда я пошел дальше и уже позабыл ее, она догнала меня, отрывисто тявкнула.
Я потрепал собачку, поговорил с ней; мы вместе пошли к обсерватории. Всю дорогу я пробовал угадать имя собачки и, наверное, не угадал: ни на одно она не отозвалась. Я назвал ее Шарик – мне подумалось, что именно таких маленьких кудлатых собачек называют Шариками, – мы быстро подружились, чему я ничуть не удивился по тогдашней своей беззаботной общительности.
В комнате синоптиков Шарика окружили и, как бывает в таких случаях, заойкали, заговорили. Макаров погладил его табачной рукой, женщина-техник угостила кусочком хлебца, другие женщины просто назвали его «милашкой», «пупсиком», «кудлашкой». Лишь сторожиху, тетку Скибину, Шарик слегка цапнул за палец белыми крошечными зубками. Но никто на него не рассердился: за войну тетка Скибина, нажив много денег торговлей овощами, вконец испортила себе характер, сделалась ехидной и злой.
Шарик вертелся возле меня, заглядывал в глаза и хотел, чтобы я все время улыбался. К морзянке он отнесся вполне равнодушно, поняв, что это не птичий писк, но мешать мне не стал – свернулся под стулом и задремал. Обедать мы пошли вместе, немного задержавшись, чтобы в столовой меньше было народу; я получил по талону еду и поделился с Шариком тем, что можно было положить ему на пол. Весь обед он терпеливо сидел под столом, зная, наверное, что если высунется, его тут же выставит за дверь официантка, худые ноги которой сердито скрипели половицами.
Зажили мы весело. Со смены отправлялись домой, перебегали овраги, на берегу Амура болтали с рыбаками, смотрели рыбу. Дома нас кормила мать, и спали мы в одной комнате: я на довоенном, провалившемся диване, он на мешке у двери.
Отдежурив как-то раз в радиорубке, мы отправились домой и по пути заглянули в городской парк. Был жаркий день, с тополей опадал пух, в траве жужжали пчелы. Одинокие старушки сидели в тени под деревьями, подремывали, отдыхая от страшной войны, может, вспоминая погибших. И только у киоска, где обычно продавали мороженое, толпились любители холодного и сладкого.
Шарик пробежал по аллее, взбил носом пух на обочине и направился к очереди: он знал, что я обязательно куплю мороженое и после дам ему полизать картонный стаканчик.
Стали в самый хвост, на солнцепек. Переминаясь с ноги на ногу, я смотрел на сонные деревья, дальние дома, текучую воду реки – томился и ждал, а Шарик, как более нетерпеливый, высунув красный язык, сновал от пенька к пеньку, обнюхивал подгнившие углы киоска. Подумав, чем бы еще заняться, он просеменил вдоль очереди, всем улыбаясь, и ткнулся носом в ноги девушки в белом платье.
Нос у Шарика всегда мокрый и холодный, и девушка, вскрикнув, оглянулась. На мгновение я увидел ее расширенные влажные глаза, чуть искривленный маленький рот, морщинки на лбу, – сразу вспомнил о войне, подумал, что вот эта девушка еще совсем не отошла от переживаний, и испугалась потому, что еще всего боится, – быстро оттолкнул ногой Шарика, краснея сказал:
– Ничего, он не кусается…
Девушка повела взглядом за Шариком – тот уже, мелькая короткими кривыми лапами, бежал в тень к старушке, поманившей его, – и вдруг сощурилась, хихикнула.
– Что вы, – сказала она, – я не боюсь. Какая собака!
Очередь двигалась медленно. Продавщица, хоть и была вконец изморена жарой, но вешала аккуратно, каждый раз зорко прицеливаясь к птичьим носам весов. Шарик подбегал ко мне, проверял, не съел ли я без него мороженое, снова исчезал в зеленой глубине парка. Девушка следила за ним и, когда он выделывал что-нибудь смешное, тихонько хихикала. Я заметил – у нее и возле губ тоненькие складки, и губы в частых трещинках (как у пожилых женщин). Но если она улыбалась, лицо ее делалось совсем девчоночьим, как у пятиклассницы, и можно было догадаться, какой она станет красивой потом, когда отменят карточную систему, когда много будет конфет, пирожных, веселых платьев и смеха.
Девушка купила мороженое, отошла в тень, поманила Шарика. Тот сообразил: верная пожива! – вильнул хвостом, однако подбежал не сразу, дав понять, что у него есть достоинство, хоть и собачье. Девушка сорвала широкий тополевый лист, деревянной лопаточкой положила на него мороженое. Шарик принялся нежно слизывать розовую сладость, а девушка трогала его голенастой ногой и что-то тихо говорила.
Я подошел к ним. Девушка сощурила на меня глаза (в них были слезы, выдавленные смехом) и, удивляясь и как бы прося за что-то извинить ее, сказала:
– Какая собака!
Я скормил Шарику все свое мороженое, и мы пошли в конец парка, где деревья в страхе толпились над обрывом и сам обрыв рыжими оползнями, островками травы и кустов обреченно падал в Амур. Помолчали, слушая дикий клекот воды внизу, отошли под деревья: здесь, перекосясь, стояла старая облупленная скамейка. Сели на разные ее края. Мне захотелось припомнить, была ли до войны на этом месте скамейка? Спросил девушку, она помотала головой, а спустя минуту, ответила нехотя, чтобы не молчать:
– Не знаю. Я ведь беженка.
Мне сделалось неловко: зачем я о войне? Люди устали, люди живут сейчас так, будто и не было ничего. Чтобы отойти, чтобы набраться душевных сил на потом – для настоящих, больших воспоминаний о войне. Даже обрыв, этот обвалившийся в воду берег, напомнил ее… Я заметил, как у девушки быстро сбежались и застыли морщинки на лбу.
Отсюда, со скамейки, был виден солнечный плес Амура, лодки в мареве у того берега, железнодорожный мост вдали – как игрушка из детского конструктора, – можно было говорить о чем-нибудь веселом. Но я не родился говоруном, а девушка, кажется, и вовсе не хотела говорить. Она играла с Шариком, запускала в его кудлатую шерсть длинные пальцы с синеватыми ноготками, валяла его по траве и, когда он, тявкая, убегал за кусты, кричала:
– Собака! Собака!
У нее посвежели щеки, чуть растрепались волосы, она поцарапала шиповником ноги. Шарик бегал, задыхаясь от собачьего восторга, ронял с языка слюну, и как-то так получилось – укусил девушку за палец. Он не хотел, конечно, кусать, просто чуть резче стиснул зубы, а кожа у девушки была тонкая, прозрачная. Девушка подняла к лицу руку – на пальце вспухла капелька крови. Я вскочил, хотел поймать Шарика, но он, поняв, что нашкодил, лохматым клубком укатился в кусты.
У меня было такое чувство, будто это я сам укусил девушку, я что-то говорил, извинялся, вынул носовой платок, но снова спрятал: он показался мне недостаточно чистым. Девушка своим платком промокнула каплю крови, глянула на меня – я, видимо, был уж очень растерян – и засмеялась.
– Что вы! – сказала она. – Я не боюсь! Я же на врача хочу учиться.
Она села на скамейку, аккуратно расправив подол платья (я заметил, она была какая-то нежно-опрятная, и это белое платье у нее, наверное, долго не мнется и не пачкается), послушала, как клокочет под обрывом вода, вздохнула.
– Да, хочу. И знаете, где буду учиться? В Москве. В московском медицинском. И мама меня просила: «Аня, учись на врача». Вот еще немножко поработаю, чтобы легче там было, – и поеду. У меня в Москве бабушка живет, старенькая, но еще живет… Я в Москву хочу. Очень! Верите? Когда вижу, пароход идет или поезд, – будто это я в Москву еду. Я никогда не жила в Москве, но меня возили, раз только. Я вот такая была, – она показала рукой на тоненький ольховый куст, – и, знаете, что запомнила? Стеклянный, какой-то блестящий киоск и пиво в больших кружках. Желтое пиво. Мне дали попробовать, а было жарко… Нет, неправда. Много всего видела, но позабыла. И все равно Москву полюбила, она прямо вот здесь у меня осталась, – Аня прижала ладони к груди. – Да, не верите?
Она опять вздохнула, а я не знал, что ей ответить. В Москву я не собирался, видел ее только в кино и, хоть никогда не забывал о ней, была она для меня как далекая планета: светит где-то в мироздании. Но чтобы стать жителем ее, – в голову ничего такого не приходило.
– Верю, – поторопился выговорить я, чтобы не обидеть Аню своей растерянностью.
– Вот и хорошо. Спасибо вам!
Аня вскочила, позвала: «Собака! Собака!», побежала искать Шарика. Он лежал под кустом, зыркал на нас слезливыми глазками. Аня склонилась над ним, Шарик перевернулся на спину, прижмурился. Аня отшлепала его, пощекотала, он понял, что вполне прощен, завертелся вокруг ее ног. Через минуту они скрылись в глубине парка.
Когда я вышел на жаркий пятачок с клумбой желтых и красных саранок, обозначавшей центр парка, Аня стояла в очереди за мороженым, а Шарик суетился возле скамеек, веселя печальных старух.
Купили по стаканчику розового, брусничного, покормили Шарика с тополиного листа. Мороженое быстро растаяло, выпили его прямо из стаканчиков. Посмотрели на очередь – слишком длинная, чтобы выстоять еще раз, пошли в город.
У госбанка Аня сказала, что здесь она работает, помахала нам рукой: кончился обеденный перерыв. Ее проглотила старая дубовая дверь. Немножко подождали от нечего делать, глядя на окна всех этажей, но нигде не мелькнуло Анино платье.
Сутки спустя я пришел на свое следующее дежурство. В комнате синоптиков, как только я перешагнул порог, все обернулись в мою сторону. Это смутило меня (неужели кто-то видел нас в парке?) и не сразу догадался, что совсем другое вызвало ко мне интерес: оказывается, входя, я довольно громко напевал послевоенную лирическую песенку «Хороши весной в саду цветочки». Видимо, никто в обсерватории не думал, что я когда-нибудь запою, хотя все здесь обычно мурлычут себе под нос разные мотивчики.
– Собинов… – проворчал, усмехаясь, старый синоптик Макаров.
– Кто, кто? – подняла маленькую голову женщина-техник, готовясь посмеяться (она была женой старшего пехотного офицера и относилась ко мне так, будто я еще носил сержантские погоны).
Другая женщина, метеонаблюдатель, курящая, одинокая, – у нее даже на войне никто не погиб, – с радостью удивилась:
– Не знаете Собинова? Не зна… да?..
Женщина-техник вспыхнула свежими щеками, капризно нахмурилась, выше вскинула маленькую голову, но не успела ответить: начальник смены Макаров хлопнул ладонью по синоптической карте (удар пришелся в центр Сибири) и этим прекратил разговор.
– Был такой, – подтвердил он, ведя красную линию изобара от Байкала на северо-восток, к Камчатке.
Я проскочил в радиорубку, стыдясь за «цветочки» и за то, что тоже не знал Собинова. Сел к приемнику, стиснул ободом наушников голову, почувствовал, что испортилось настроение: до боли сердечной я боялся насмешек. Лишь когда залепетала морзянка, потекли на бумагу бесконечные группы цифр – индексы, давления воздуха, температуры, – мне сделалось легче, почти как всегда.
Прошел час, другой. Я писал и писал. Огромный эфир потрескивал грозовыми разрядами, где-то рядом суетливо пиликали другие радиостанции, мой приемник мигал зеленым глазом, и мне чудилось – голубой эфирный холодок струится в радиорубку. Я смотрел на онемевший Амурский плес, на громоздкие кучевые облака, между которыми грозно синели глубины, чувствовал напряжение в небе и на земле: скоро ударит гроза! И она грянула обвалами громов, отвесными плесами воды; стало сумеречно; я выключил оглохший приемник, подошел к окну.
Деревья плескались, весело лопотали, будто мыли зелеными ветками свои корявые бока, ручьи уносили под гору мусор, клочки бумаги – вон мелькнул обрывок с моими цифрами… Мне вдруг подумалось: «А ведь грозы в прогнозе не было! Ее не предсказывали…» Но как хорошо, что она нагрянула, не спросясь, сама по себе!
Вышло из-за притихших облаков солнце, я настроил приемник. Шарик проснулся, спросил глазами: не пора ли обедать? – и побежал, толкнув лапами дверь, смотреть, что нового случилось на улице после дождя. Снова потекли из эфира на бумагу синоптические цифры.
Вечером, после смены, еще пахло грозой, кое-где росилась трава, не скрипели доски тротуара. Шарик бойко трусил впереди, оглядывался, улыбался мне, я думал о грозе и верил, почти знал, что в парке встречу Аню.
И не удивился, когда увидел ее на скамейке, недалеко от ворот. Она читала книгу. Шарик бросился к ее ногам, тявкнул, и Аня вскрикнула так же, как тогда, в очереди за мороженым.
– Какая была гроза… – сказал я.
Аня кивнула, последила за Шариком, сморщилась от смеха.
– Какая собака!
Шарик уже бежал по аллее к пятачку, где стоял единственный в парке киоск. Мы пошли за ним, но мороженое не продавали, Шарик помигал, не понимая, на окно, заставленное изнутри деревянным щитом, и поднял лапку на подгнивший угол киоска. Аня не отвела взгляда, не смутилась: она и это простила Шарику, будто он был всего-навсего забавной игрушкой.
От танцплощадки донеслись прерывистые звуки труб – солдаты настраивали духовой оркестр. Аня прислушалась, как-то вмиг посерьезнела. Мне показалось, что вот сейчас она поведет меня туда, а я не умею танцевать, ее кто-нибудь пригласит… И отчаянно неожиданно (хотя, может быть, днем и думал об этом) я выговорил:
– Приглашаю в ресторан.
– Да? – удивилась Аня.
– Тут прилично кормят, – сказал я и отвернулся, застыдившись: слова-то были не мои, услышанные на улице.
– Да? – еще больше удивилась Аня. – А я никогда… Нет, была раз. Одни военный… Убежала.
Я коснулся Аниного локтя, как бы подтолкнув ее, Шарик, повертевшись вокруг нас, безошибочно выбрал направление – покатился к открытой веранде ресторана «Амур».
– И он приглашает, – Аня показала рукой на Шарика.
Веранда была пуста, и еще не горели лампы под ее брезентовой крышей. Мы прошли к угловому столику – здесь хорошо виднелся вечерний плес, живее ощущалась прохлада, – сели, и я поспешно сунул руку в карман. Деньги имелись, даже на вино хватало. Оказывается, из дома я прихватил полсотню и на обеде сэкономил десятку.
Шарик проник под столик, Аня трогала его ногой, он незло сердился, клацал зубами.
– Давайте его за стол, а? И салфеткой повяжем. – Аня сказала это без улыбки, даже с обидой за Шарика, и я так же серьезно ответил:
– Нельзя. Выгонят. – И подал ей меню в захватанной картонке, на которой было напечатано «Прейскурант». Она не стала смотреть, кивнула:
– Я все ем.
Официантка не подходила, ее голос слышался за занавеской, она что-то там рассказывала буфетчице, хохотала. Вспомнив ее имя, – ее звали Аня, – я зябко передернул плечами: вот ведь, и такие могут быть Ани! Была она толстая, всегда ярко накрашенная, вела себя нахально и, конечно, любила встречать тех, у кого денег побольше: загулявших рыбаков, офицеров, кавказцев, торговавших вином и фруктами на рынке. Я пожалел, что не подумал об этом раньше, но тут же успокоил себя: в зале ресторана сейчас душно, и Шарика туда не пустят.
Вспыхнули лампы, померк амурский плес, пространство по ту сторону реки и ввысь, к небу, сделалось глубоким, непостижимым. На утесе кричали мальчишки, ловили сачками корюшку; зашипел и гукнул хрипло, по самой воде, буксир; стало еще тише, и звонко, совсем стеклянно плескались волны.
– Все равно здесь хорошо, – сказала Аня, поняв, что нам долго ничего не дадут.
Вдруг я догадался, как надо поступить. Нет, не требовать «Книгу жалоб», не ругаться (после даже вина выпить нельзя будет: Аня-официантка сама напросится на скандал и вызовет милиционера, – время еще военное). Сделать надо вот что… Я встал, твердо прошагал к занавеске, вежливо распахнул ее.
– Прошу вас, – слегка поклонился буфетчице и воззрившейся на меня яркой Ане. – Еду на Север, в экспедицию. Получил подъемные. Вот с девушкой…
– Что же ты! – хлопнула себя по бедрам Аня-официантка. – И молчишь? Я же не вижу, дорогой товарищ. Заказывай!
Перед нами на столе возникли два фужера с шампанским, две рыбы-желтощека, два пирожка с капустой, два клюквенных киселя. Гора вкусной еды, и все сверх нормы, положенной по карточкам. У Ани выкатились глаза, хоть ладони под них подставляй, я вставил ей в руки фужер, слегка ударил в него своим. Она отхлебнула большой глоток шампанского, задохнулась, смигнула слезы.
– Ой, как бомба атомная!
Нам сделалось весело. Посмеиваясь, мы принялись за рыбу с пирожками, отщипывали кусочки, сколько кому было не жалко, бросали под стол Шарику. Он ловил на лету, щелкал зубами. Входили люди – матросы, офицеры с девушками, – рассаживались, дисциплинированно ждали, когда обслужит их толстая, ленивая Аня-официантка. А нам было хорошо: мы заняли лучшее место, дышали свежим воздухом, видели черную воду реки, и в фужерах у нас было еще вино.
Аня попросила меня придвинуться ближе, ей захотелось что-то рассказать. Я сел так близко, что чувствовал своим коленом ее колено, ловил ее дыхание, чуть пахнущее губной помадой, и почти ничего не понял. Остались такие слова: «госбанк… бухгалтерша… замуж… муж нашелся… обморок…» Но все равно кивнул Ане, засмеялся.
– Ничего смешного, – сказала она.
К нам подсел пожилой гражданин, очень упитанный, одышливый (видно, в войну не служил), с двумя крупными перстнями на левой руке. Он взял корочки прейскуранта, достал и нацепил на нос пенсне. И вдруг лицо у него осело на плечи, морщины сбежались на лбу в мелкую гармошку, пенсне спрыгнуло ему в ладонь… Он вскочил, и вместе с его криком: «Вы! вы!..» – раздался визг Шарика.
Мы тоже вскочили. Я не успел понять, в чем дело, как стул гражданина упал, сам он попятился от стола и выволок на белой полотняной штанине рычащего Шарика. Веранда задвигалась, захохотала, заохала. Я упал к ноге гражданина на колени, вцепился пальцами в горло Шарика, придушил слегка и оторвал его от штанины.
Поднявшись, сунул Шарика себе под мышку, а вокруг уже собралась толпа, галдела, сжималась теснее. Аня тоненько кричала:
– Собака! Ой, собачка!..
– Твоя собака? – жал животом гражданин. Он вполне ободрился, спокойно и брезгливо хмурился, будто ему только слегка досадили. Эта его уверенность напугала меня.
– Милицию надо! Чья же еще?
– Чего там, пустяки!
– Милая собачка…
– Звоните. Милицию!..
Я шагнул к деревянному барьеру веранды, перегнулся и бросил Шарика в темноту: там внизу – я помнил – росли мелкие кусты орешника и была густая трава.
Гомон стих. Одни засмеялись, радуясь моей находчивости, других это разочаровало, даже обидело: какой скандальчик назревал! Третьи… Третьи под шумок захватили Аню-официантку, увели к своему столику и поспешно заказывали ужин.
– Ну вот, – сказал кто-то, – человек, можно сказать, спас гражданина, а его же ругают.
– Так и бывает…
Аня стояла у барьера, заглядывала в темноту. Я взял ее за руку, повел к выходу. По пути сунул официантке все шестьдесят рублей, она кивнула: понимаю, мол, потому и о собачке промолчала, – и мы выскочили в парк.
Посмеялись, стоя на берегу у воды, вспомнили о Шарике. Бросились искать его. Обошли вокруг ресторана, покликали. Обшарили кусты, траву: может, притаился где-нибудь? Не нашли, не отозвался.
Аня всхлипнула.
– Брось, – успокоил я, – домой убежал.
Но сделалось грустно. Стало заметно, что очень темно – куда-то делись звезды, – сыро, беспокойно, диковато шумит вода. На буксирах хрипло кричали матросы, и было нехорошо их слушать: ведь они поплывут в низовье Амура, к морю, в шторма, и кто-нибудь из них может погибнуть.
Сели на скамейку, мокрую от дневной грозы, Аня сказала:
– Хожу по ресторанам, как… А мне готовиться надо. Мне обязательно надо поступить, – она чиркнула ладонью по своей тоненькой шейке, – мама велела. И в Москву хочу. Прямо до смерти… А ты что сказал ей, что она так быстро нам подала?
– В экспедицию еду, на Север.
– Молодец. А ты поезжай вправду, а? Вернешься отважным… – И совсем неожиданно, вздрогнув, как от холода, сказала: – Ой, сколько наших погибло…
Я проводил Аню домой (она жила в общежитии для эвакуированных), как можно быстрее зашагал к себе на окраину: мне надо было перебежать пять оврагов, пройти шесть увалов.
Дома я спросил у матери, прибегал ли Шарик. Сонная, едва подняв голову над подушкой, она ответила, что, кажется, был, хлебал в сенях воду. Было поздно, и я лег спать. Утром осмотрел сени, сарай, ближние кусты за огородом: может, Шарик ушибся, отлеживается? – но не обнаружил его. Не появился он и сутки спустя. На дежурство пришлось идти одному.
В обсерватории сразу заметили, что я без «хвостика», и каждый по-своему отнесся к этой перемене. Синоптик Макаров промолчал (у него был неудачным прошлый прогноз), сторожиха Скибина порадовалась: «Это же не псарня у нас – организация?», жена офицера строго сказала: «Собаке хозяин нужен» (все знали, что всю войну она продержала здоровенного бульдога, недавно он получил медаль), и только женщина-метеонаблюдатель (наверное, чтобы досадить офицерше) пожалела: «Ласковая собачка была».
Привычно отдежурил, исписав цифрами гору бумаги, собрав в нее погоду всей планеты Земли, – и спустился к Амуру, на пляж: здесь мы договорились с Аней встретиться.
Купальщиков было много, вся широкая полоса песка пестрела от маек, трусов, купальников. Сверкала, шумела вода. Кричали ребятишки. На буксире, уткнувшемся в берег, матросы крутили пластинки с лирическими песенками. Я не стал искать Аню, решив, что ее еще нет, но она подбежала ко мне откуда-то сбоку, как бы появившись из ничего, крикнула:
– Где собака?
Аня стояла передо мной в стареньком розовом купальнике – кое-где пробились дырочки – смотрела мокрыми и оттого очень большими глазами, нервно пританцовывая, и я сказал:
– Дома. Отдыхает.
– Честное слово?
Я разделся, побежал к воде, до устали наплавался. Потом мы лежали на горячем песке. Аня молчала. Я вспомнил вечер в ресторане, официантку, гражданина. Смеялся. Но смех у меня получался ненастоящий – я не умел хорошо играть, – Аня лишь слегка улыбалась. Я сыпнул ей на спину песку, она отодвинулась. Скрестила руки, положила на них голову. Долго, не мигая, смотрела на воду. Понемногу глаза ее закрылись.
Шумел, говорил, хохотал пляж. С буксира обрывками неслась музыка – вальс «На сопках Маньчжурии». Скрипели уключины лодки, кто-то за кем-то гонялся, задыхаясь, кто-то тоненько кричал: «Тону!» И в этом шуме, движении, неразберихе я почувствовал себя одиноким. Аня не двигалась. Теперь, в купальнике, она не казалась мне уж очень худенькой. У нее было гибкое, «экономное» тело (должно быть, занималась гимнастикой) и поэтому, наверное, она сделалась чужой, непонятной. Я поднялся потихоньку и пошел к воде.
Опять плавал долго, до устали – чтобы вконец выдохнуться, чтобы не осталось силы на грусть, обиду, чтобы вернуться веселым, беззаботным. Выбрался из воды, медленно пришел к месту, где лежала Аня, и не увидел ее. Не обнаружил платья, босоножек. На песке было крупно нацарапано:
«Ты обманул. Собака ушла».
Я поднялся в город, побродил по улицам, дважды прошел мимо общежития, после отправился в свой длинный путь на окраину, домой, и все рассуждал сам с собой:
«Ну и что из того, что я обманул? Я хотел сказать, что собака придет, но побоялся. Ты какая-то была не такая… Но ты же догадалась. Это же не обман. Да и собака может прийти. А если нет… При чем тут я? Собака пришла, собака ушла. Она не моя, не твоя. Может быть, она вернулась к хозяину. Может, ее подобрали и унесли, когда я бросил ее с веранды. Почему же ты рассердилась? Мы бы поговорили, разобрались. Ведь ты смеялась, когда я обманул официантку. Это же пустяки. И собака не самая лучшая, можно найти другую. Видишь, я совсем не виноват…»
Прошло одно, второе дежурство. Аня в парке не появлялась. Я пошел в госбанк, попросил вызвать ее. Женщина в милицейской форме долго не могла разобраться, кто такая Аня (фамилии ее я не знал), потом принялась неторопливо обзванивать все этажи, кому-то описывала меня (кажется, Аниной начальнице), и наконец сообщила, что Аня очень занята, выйти не может. На улице я остановился, глянул на фасад госбанка и увидел Аню: она четко мелькнула своим белым платьем в окне третьего этажа.
И еще раз я видел ее – как-то в воскресенье, на главной улице. Она шла, помахивая старенькой довоенной сумкой, из которой торчала бутылка рыночного молока. Меня не узнала.
Вскоре и я позабыл о ней.