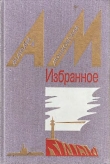Текст книги "Огонь"
Автор книги: Анатолий Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Рябинин радостно улыбался.
– Эх, братцы, братцы, а помните наши встречи? Велосипеды! Музыку как слушали, спорили до ночи? Пашка, ты приходи, угощу тебя джазом. Теперь у меня стереофоническая радиола, два магнитофона, семьдесят кассет, я тебе такие джазы выдам, Каких ты и у себя в Москве не слышал. Женя, скажи?
– Правда, это так, – сказала Женя, не глядя ни на кого.
– Приходи завтра!
– Не знаю, как у меня сложится. Но буду ещё несколько дней.
– Прекрасно! Договорились в принципе. Дураки, не могли подождать, задняя комната уже свободна.
– Вот наконец спрошу специалиста, – сказал Павел. – Меня мучает давно один пустячный кулинарный вопрос. Чепуха, но никак не могу понять.
– Давай хоть сто вопросов!
– Почему в столовых такие котлеты?
– То есть… а как ты хотел?
– Подожди, я объясню! Приезжаешь в Улан-Удэ или в какой-нибудь посёлок, которого на карте нет, заходишь в столовую. Привет! Котлеты точно такие, цвет, вкус, подливка, как где-нибудь на Таганке в Москве. Ну, прямо, как домой попал!
– Технология общая.
– Это что, у вас в учебниках такая технология, что ли: чтоб брать продукт – и переводить? Нет, чёрт возьми, это же надо учиться, это же надо специально стараться, чтоб из хороших продуктов сделать такую дрянь! В чём ваш профессиональный секрет, скажи?
– У нас калькуляция, раскладка, – сказал Рябинин, добродушно улыбаясь. – Общий стандарт, точно всё отмерено, не беспокойся, без воровства.
– Ладно, калькуляции, раскладки, стандарты… Тогда скажи мне: как вы изловчаетесь гробить просто картошку?
– А ты что, фельетон будешь писать? Напиши!
– Нет, – сказал Павел, смеясь, – это я для себя хочу уяснить.
– Ах, чудак, чудак! – сказал Рябинин. – Приходи ко мне домой, я покажу тебе своё умение.
– Да я прочёл вашу стенгазету, видишь ли…
– Это я писал, – гордо сказал Рябинин.
– Ты?!
– Я! – Рябинин весело смеялся, этакий довольный, жирный, благодушный, почёсывая волосатые руки. – Конечно, не всё сам, с «Блокнота агитатора» содрал… А что ж ты думал: только вы одни строчите? Ну, ладно, так договорились, я тебя жду.
Он вскочил и убежал, потому что его давно уже звали из-за стойки; помахал рукой, улыбающийся, довольный, трясущий пузом.
– Ты что, в самом деле к нему пойдёшь? – спросила Женя.
– Всё очень странно… Вы все.
– Рябинин – явление, пойди, посмотри, как он живёт! Это, может, и серьёзнее домны… Строить домны до неба мы, в общем-то, умеем… Я тебе книгу правильно выбрала? Доволен?
– Да, да, хорошая, – рассеянно сказал Павел. – Я даже срисовал…
– Покажи.

Он достал записную книжку. Косо-криво – схема, упрощённая.
– А это что рядом? Домик для сравнения?
– Да, – сказал Павел, чувствуя себя как чертёжник несколько смущённо, – а этот прямоугольник слева – тридцатиэтажный дом.
Глава 5
Так валит толпа с футбольного матча в Лужниках. Все шли только к заводу, ни одна душа навстречу. Ледяной воздух, казалось, вибрировал от сплошного шороха и скрипа ног по снегу. Площадь перед входом была беспорядочно забита маленькими пузатыми автобусами, которые, сигналя, рассекали толпу, высаживали кучки приехавших из города и окрестных посёлков, вливающиеся в общий поток.
Автобусы только высаживали, трамвай только высаживал, ворота только ненасытно проглатывали.
Вокруг была мгла, туман опустился с ночи, скрывая горизонты, начисто скрыв завод, и даже крыша управления терялась в тумане.
Только из-за ворот, из мглы долетал приглушённый грохот, гул и свист – картина фантастическая, поскольку глаз видел только море людей, куда-то идущих из мглы во мглу.
В дороге Павел промёрз, у него забило дыхание тяжёлым холодным воздухом, а может, и от этой, такой невероятной картины, – ничего подобного он не видел прежде, он подумал, что, окажись на его месте гениальный режиссёр, как Эйзенштейн, Антониони, он бы это снял…
Был предпусковой день, 25 января. Накануне Павел уехал с таким пузатым автобусом: ему сказали, что это удобно, он вскочил, а потом в городе не знал, куда себя девать, досадуя и не понимая, зачем уехал, слонялся в одиночестве, осмотрел здешние новые «Черёмушки», театр, цирк.
Зато утром Павел уже знал, где ловить рабочий автобус, втиснулся, быстро доехал, хотя всю дорогу пришлось стоять, согнувшись, зато было весело, все шутили, парни прижимали девчонок, а старики толковали о расценках.
Павел сразу не пошёл в ворота, а, выбравшись из толпы, вбежал по лестнице управления, подёргал запертую дверь поста содействия стройке, подумал, что это даже к лучшему, что там никого нет, и направился наверх.
Он вошёл в партком в тот момент, когда там кипел великий спор.
За столом стоял пожилой, худой и длинный, как жердь, человек с узким длинноносым лицом, пронзительно взглядывающими зелёными глазами, но, пожалуй, главной и забавной его особенностью была растительность на голове. Он сильно облысел, макушка так и блестела гладким полушарием, но вокруг неё волосы продолжали расти и держаться крепко, густыми кустами, и над центром лба упрямо сохранился спутанный, сильно прореженный клок, этакий наглый, бессовестный остаток прежней роскоши, неизвестно, что с ним делать: сбривать смешно, стричь нечего, а ходить с такой пародией на кок – тоже не фонтан.
Автоматически приглаживая рукою кок, парторг увлечённо и страстно спорил по телефону. Вокруг стояли люди и тоже спорили между собой, разделившись на двойки и тройки.
Двое махнули рукой и ушли, яростно хлопнув дверью, но тут же поспешно вернулись, крича новые аргументы, которые, видимо, пришли им в голову там, за дверью.
Тема дискуссии была: свалились сметы, которые неизвестно какой головотяп составлял, неведомо где и кто утверждал, в которых перепутаны божий дар с яичницей, которые надо немедленно пересоставлять, так как они режут без ножа под корень, и это не укладывается в голове, не лезет ни в какие ворота и что в механическом цехе четвёртый раз срываются политзанятия.
Виновник срыва, маленький лысый толстячок, покаянно вздыхая, кивал головой, охотно и сразу признавая свою вину.
Но парторга, видимо, это не устраивало: ему нужно было спорить как следует, чтобы сперва ему возражали, потом оправдывались и лишь потом признали свою неправоту.
Павел постоял, послушал, решил выручить лысого толстячка и протянул парторгу своё удостоверение.
Тот машинально взял его сухими, жилистыми руками с длинными пальцами, стал читать, быстро успокаиваясь, протянул руку Павлу.
– Иващенко, Матвей Кириллович, очень приятно. – И тут же пустил в лысого толстячка ещё одну стрелу: – Пожалуйста, товарищ из газеты, я вот дам ему факты о вас, прославитесь на всю страну!
Толстячок совсем уж покаянно сник, готовый и к славе на всю страну. Другие спор прекратили и как-то быстренько, боком стали рассасываться из кабинета.
– Пуск домны, как я понял, завтра? – прежде всего спросил Павел.
– Кто вам это сказал? – удивлённо спросил Иващенко.
– Да ребята с поста содействия стройке. На домне даже плакат висит…
Парторг хмыкнул:
– Гм… Может, они и пустят завтра… гм. Чего же вы тогда у меня спрашиваете? Они сказали – пусть и задувают.
– Но когда же?'– немного испуганно спросил Павел.
– А вот это если бы кто-нибудь мне самому сказал… Скоро уже! Вот-вот. Тут голова во-от таким кругом идёт. Извините, давайте в темпе ваши вопросы, в темпе, в темпе!
– Ну, естественно, я прошу подсказать, – заторопился Павел, – на что главное стоит обратить внимание, прежде всего на каких людей?
– Ясно. Назвать вам список передовиков?
– Ну, хотя бы…
– Поразительно! – закричал Иващенко, воздевая руки к потолку. – Просто поразительно, как вы начинаете с этого и только за этим идёте ко мне! А вы пойдите, а вы посидите, а вы потрудитесь, а вы разберитесь, а вы составьте список свой, свой, свой!
И на Павла обрушился тот самый неизрасходованный запас стрел, от которого он так непредусмотрительно заслонил лысого толстячка:
– Па-ни-ма-ете! Изволь им завтра пустить домну! Немедленно! Они спешат! Дайте им список передовиков и факты героизма! Может, мне ещё писать за вас? А?
Саркастически задав этот убийственный вопрос, он на секунду замолчал. И в этот момент в тишине растворилась дверь, пропуская стройного, модно одетого мужчину с фотоаппаратурой на боку. Ничего не подозревая, широко улыбаясь, он направился к столу.
– Вот! – торжествующе закричал Иващенко, указывая на него. – Вот и второй за списком! Стой!
Мужчина так и застыл, широко улыбаясь.
– Не, не, не, я не к вам, Матвей Кириллович, бог свидетель, я не к вам, я вот за ним! – воскликнул он. – Витьку Белоцерковского-то хоть вспомнишь, Павлушка? Я услышал: ты здесь… Нет, нет, мне не надо списков, Матвей Кириллович!
– Вы должны ходить ногами, вы должны смотреть, изучать жизнь! – гневно кричал Иващенко. – По кабинетам нечего ошиваться!
– Ого, начальство сегодня не с той ноги! – сказал Белоцерковский. – Ночью во сне вас, видно, на бюро драили, Матвей Кириллович?
– Вот я тебя продраю!
– Один только фактик, Матвей Кириллович! По старой дружбе!
– Иди, иди! К людям идите! Убирайтесь с богом!
– Извините меня, – искренне сказал Павел, – я думал… так лучше.
– А у нас не лучше! – ударил ладонями по столу парторг, так что подскочили телефоны.
– Бежим! – схватил Павла за плечи Белоцерковский. – Пока в шею не дали. Дочке привет, Матвей Кириллович! Как у ней зачёты?
– Выперли. Нормально, – сказал Белоцерковский в коридоре, обнимая Павла. – Вижу, я вовремя явился. Не обижайся на него, он добрый старик, но должность беспокойная. Иной раз и покричит, а в целом ничего, живой, на днях в клуб автолюбителей записался, говорит: «Как меня из-за всех вас прогонят, уйду на пенсию, куплю “Запорожца”, кто мне его будет водить?»
– Что он на журналистов зол?
– Да это я его замучил. Иной раз неохота по территории шляться, идёшь в партком, фамилии, цифры списал – информация готова. Ну, он терпел, терпел, видит, что я совсем обнаглел… Отлично, Пашка, что ты здесь, гульнём же мы с тобой!
– Я ненадолго.
– Всё зависит от того, как насыщать время. Пустые полгода не стоят единого насыщенного дня… Слушай, а давай свернём вот тут за угол, отличнейший магазинчик, и продавщица знакомая, она нам и стаканчик даст.
– Ну, с утра пить…
– Как джентльмены! Только одну! Я сам не могу много, у меня машина, я за рулём.
– Тем более, – сказал Павел. – Я, понимаешь, если с утра выпью – потом весь день торчком летит.
– А! Это бывает. Ну, смотри… А то у меня тут пара бумажек завелась, контрабандный гонорар с радио, вне домашнего учёта, прямо карман жгут… Пошли!
– Потом, потом.
– У тебя какие планы?
– Смотреть домну.
– Господи, это пара пустяков, домна как домна, чуть больше других, поглядишь, как задуют её, опишешь дым, реку металла, озарённые лица горновых, мне ли тебя учить?
– Я хочу серьёзно.
– Ну и дурак. Извини, я без зла.
– Значит, ты в газете?
– Да, сооружаю что угодно – от стишат до фоторепортажей.
– Знаешь, у меня до сих пор в памяти некоторые строчки из твоих тогдашних модерных стихов…
– О, Пашка, это я выбросил, начисто. И, кстати, не заговаривай со мной, даже не напоминай о стихах.
– Почему?
– Потому, что, как мы говорили в детстве, кончается на «у». Я знаю, что я с тобой сейчас сделаю. Идём вместе, и я в два счёта открою тебе на этой домне самое главное, самую, так сказать, глубоко скрытую суть. Потому что у нас по редакции я к ней прикреплён, на ней зубы проел. Меня тебе сам дьявол послал. Радуйся! И быстренько освободимся.
Завод утопал во мгле. Из неё причудливо выступали коленчатые конструкции, а над головой было сплошное молоко. Туман смягчал грохоты и свисты, словно закладывал уши, но вздрагивание земли замечалось сильнее. Проехал, сильно дымя, паровозик с огненно-пышущими ковшами, но своими ватными клубами дыма ничего не добавил к окружающей мгле.
– Так вот, крупнейшая в мире домна-гигант! – закричал Белоцерковский. – И в сутки будет пожирать шихты примерно…
– Десять эшелонов!
– Совершенно верно, и эти эшелоны будут зелёной улицей мчаться по стальным магистралям, ведомые знатными машинистами-богатырями, под лозунгом «Всё для руды!», и при нашей великолепной электрифицированной, самой протяжённой в мире сети железных дорог это главное! Курская магнитная аномалия содержит глобальные запасы железа, потому эти чудовища будут расти, пока не станут впритык, и каждое – четыреста, пятьсот тонн пыли в воздух. Задачка для школьников: четыреста тонн умножить на икс, ответ в конце задачника. Ты это пиши, пиши! Отрази!
– У меня это уже записано, – улыбнулся Павел.
Тем временем они оказались в царстве неподвижных транспортёров, и Павел узнал это место: Белоцерковский вёл его точно таким же путём, каким вчера шли с Селезнёвым.
– Бункерная эстакада, яркий пример трудового героизма! – торжественно объявил Белоцерковский.
Они подошли поближе. Вчерашняя бригада во главе с пожилым дядей, дружно навалясь, передвигала железные рамы. Белоцерковского приветствовали, как старого знакомого, весело, несколько иронично, а на Павла опять настороженно покосились.
– Становись, Михалыч, надо тебя снять, – велел Белоцерковский, открывая аппарат и лампу-вспышку. – Тьфу, вид у тебя, извини…
– Такая работа, – пробормотал смущённо бригадир.
– Небритый! На! – Белоцерковский достал из кармана бритву «Спутник», быстро накрутил её. – Из-за вас, несознательных, специально бритву носи. Брейся и заодно отвечай – пишу. На сколько процентов?
– На двести.
– Пойдёт. Кто отличается?
– Да все…
– Не пойдёт. Конкретно три фамилии.
– Ну, давайте на этот раз… Кузькина, что ли? Петрухина, Сомова.
– Готово. Давай бритву. Шапку надо сменить. Павел, дай ему свою шапку. Ну вот, другое дело… Улыбка! Взгляд вперёд и ввысь!
Белоцерковский несколько раз щёлкнул, бригадир изо всех сил пыжился, ребята похохатывали над ним, скаля зубы, потом Павел получил обратно свою шапку, бригада снова навалилась на раму, а Белоцерковский весело сказал, направляясь к лесенке:
– Полста строк на первую страницу в кармане. С фотографией плюс. «Образцы вдохновенного труда доказывает, ведя последние предпусковые работы, славный коллектив…»
– Ты гангстер пера, – сказал Павел. – Как же тебя в газете держат?
– А, брось! Кто не гангстер, тот тупой мул, как этот Михалыч, на котором ездят все, кому не лень. Или убеждённый мул, как Фёдор Иванов.
– Как ты сказал – Фёдор Иванов?
– Убеждённый мул. Такая жизненно необходимая категория. Без вопросов. На полном серьёзе залит по уши своим металлом и, кроме металла, ничего в жизни не видит. Металлические мозги. А был когда-то простой, приятный мальчишка, слушал наши беседы…
– Да! – сказал Павел. – Скажи, долго ещё у вас сохранялся кружок, когда я уехал?
– Нет, почти сразу и распался. Ты уехал, у Фёдора сломался велосипед. Он им в проволоку врезался, и рама – пополам, а сам в больнице лежал… А потом ведь все расползлись учиться, кто куда.
– Я вспоминаю наши встречи, словно это было вчера…
– Чёрт его знает, маленькие мы все прелесть, вероятно, потому, что всё спрашиваем. А потом уже не спрашиваем, а утверждаем – и превращаемся в какие-то столбы.
– Себя ты к столбам не относишь?
– Себя я отношу к огородным пугалам. Но этим я горжусь, ибо пугало – это всё-таки личность, неповторимая индивидуальность, и его ночной горшок на голове – личный горшок, совершенно не такой, как у других.
– А что случилось с Женькой? – спросил Павел.
– Женька отличная была девчонка, помнишь, блестящие глазки, стремления, мечты, кристальность. Теперь – непроницаемое лицо, глухая усталость от жизни плюс высокомерие. Её личная жизнь не удалась – значит, виноваты во всём мужчины двадцатого века, злодеи. Она всё поняла и решила жить в высокомерном одиночестве, под ручку не ходит, водку не пьёт, гнусные предложения отметает. Ненавижу таких святых дур!
– Так злобно говоришь, – сказал Павел, – потому что это твои гнусные предложения отметены?
– Ладно, она женщина, не будем говорить о ней гадости. Самым человечным, реальным и остроумным оказался, как это ни странно, Миша Рябинин, любитель джаза. Всё это, конечно, весьма относительно, но мыслит он трезво, хотя, к сожалению, дурак.
– У него были уникальные математические способности, что с ним стало?
– Ничего не стало. А он их применяет сейчас более чем остроумно. О, как применяет! Ух, торгаш, захапистый мужик, шкура! Я к нему иногда захожу, глушим коньяк. Мишка очень забавный, только жаль, что дурак, такой врождённый, без фантазии, и потому хоть и сволочь, но чересчур уж примитивная… Но кого я ненавижу по-настоящему, зверски – так это Селезнёва Славку. Вот где мразь! Этакий розовощёкий, бодренький трепач, фарисей, дармоед, лодырь, карьерист, лицемер, общественный благодетель!
– Хватит! Стоп! – закричал Павел, дивясь. – Ты мне выдал целый зоопарк. Слушай, нельзя же так в конце концов односторонне и пристрастно…
– Ты не привык к моей манере, ещё не то от меня услышишь, – небрежно, но не без кокетства возразил Белоцерковский. – Я именно тем и славлюсь, что говорю то, что думаю. Они балдеют, думают – шучу. Одни считают меня шутником, другие шизофреником, третьи неопасным дураком…
Среди строительного хаоса, примостившись у рельсов, закутанная тётушка в белом переднике продавала пирожки, словно в городе на углу; из алюминиевых кастрюль, накрытых марлей, шёл вкусный пар.
– С чем пирожки? С котятами?
– С котятами, сынок!… Гар-р-рячие, кому, с мясом!…
– Дайте шесть штук!
– Только бумаги у меня нету…
Они набрали пирожков, стали есть их, обжигаясь, измусолив руки. Полезли по трапу к железным дверям доменного цеха.
– Это верно, – сказал Белоцерковский, – я такой злой, потому что с утра не жрал. Но Селезнёва ненавижу не меньше.
– Тогда вы особенно дружили. Он смотрел тебе в рот, души не чаял, был влюблён в тебя!
– А такие-то, братец, влюблённые потом становятся врагами насмерть!
Он показался Павлу ещё более грандиозным, этот цех, а выпуклый бок домны ещё внушительнее, чем вчера.
Туман проник сюда, стелился под потолком, и мощные лампы светили сквозь него мутными, в ореолах, шарами.
В отличие от вчерашнего у домны теперь не было ни души. Только белел плакат «Дадим металл 26 января!», причём ноль был так хорошо переделан в шестёрку, что самый придирчивый глаз не заметил бы следов.
В полном безмолвии, спотыкаясь о разные железяки, громко переговариваясь, Белоцерковский и Павел полазили везде, как мальчишки, подобрались к дыре лётки и посмотрели в неё.
Она невольно вызывала уважение: шутка ли, именно здесь будет литься огненная лавина, а сейчас так себе, просто дыра в кирпиче, немного заиндевевшая, да ещё в неё гулко свистал, всасываясь в домну, воздух. Вдруг Павел заметил в чёрной глубине дыры какие-то световые блики. Что-то там, внутри печи, звякнуло, возился кто-то живой.
– Эге-ге-ей! – закричал в лётку Белоцерковский. – Ку-ку!
– Бу-бу-бу!…– ответил человек изнутри, как из преисподней.
И между ними состоялся такой короткий диалог:
– Алло! Задувка когда?
– Скоро!
– Как скоро, сегодня, завтра?
– Скоро, вот-вот.
– А что из работ осталось-то?
– Кой-чего осталось.
– Ну, бог в помощь!
– Бу-бу-бу!…
В лётке зашуршало, и что-то полезло. Белоцерковский отскочил. Вылезла тонкая железная труба, покрутилась вокруг оси и замерла.
– Ясно, что ничего не ясно, – сказал Белоцерковский. – А поехали-ка мы домой. Закоченел я, как собака. Поверь моей интуиции, что задувка состоится через неделю, не раньше…
Глава 6
– Нет, нет, верный признак, – говорил Белоцерковский, живо ведя Павла к воротам, – если нет начальства и корреспондентов. Едем ко мне на хату, выпьем, вспомним былое, и это будет самое разумное. Ну, что ты можешь придумать умнее?
– Библиотека, учебник доменного дела…
– И-ди-от! – захохотал Белоцерковский. – Во-первых, Женька Павлова – это пас, полный пас! Во-вторых, лично я – кладезь местных знаний, я выдам столько, что никакой учебник не сравнится! Левое плечо вперёд, сюда, вот это моя телега, ничего?
– Ничего.
– Все четыре колеса, только заводится несколько, гм, иррационально. В крайнем случае толкнём.
У заводских ворот, лихо заехав на тротуар, стоял заиндевевший «Москвич», старый, со следами царапин и вогнутостей. Белоцерковский открыл ключом дверцу, влезли внутрь, как в холодильник. Застывший мотор действительно долго не хотел заводиться. Белоцерковский открыл дверцу и кликнул парней, кучкой стоявших у проходной. Дружно, смеясь, они навалились и погнали машину по улице, к удовольствию прохожих и мальчишек. Павел, проваливаясь в снег и спотыкаясь, тоже изо всех сил толкал, а Белоцерковский из кабины кричал указания. Метров через пятьдесят драндулет затрясся, зачихал и завёлся. Павел на ходу вскочил на переднее сиденье.
– Понимаешь, – сказал Белоцерковский, – у меня там шаром покати, ни крошки нет, так мы заедем в магазин, сделаем закупки, и для скорости предлагаю разделить: один– горючее, другой – закуску. Ты что берёшь?
– Всё равно.
– А мотор оставим работающим, не бойся, теперь уж не остановится до страшного суда.
Магазин, в который приехали, оказался великолепным, отделанным по последнему слову – сплошь стекло и дневной свет.
Белоцерковский развил бешеную деятельность, толкался у прилавков, лез без очереди в кассу с криком «Доплатить!», накупил целую охапку колбасы, сыру, конфет, камбалы в томате, шпротный паштет, голубцы в банке, всего, кроме вина. Он хотел коньяку, а его не оказалось.
Сложив покупки на заднее сиденье, отправились по дороге из Косолучья в город вдоль трамвайной линии ехать было трудно, дорога скользкая, машину заносило, и водитель из Белоцерковского был дрянной. Сам он, впрочем, был другого мнения, кажется.
– Что не восторгаешься мною за рулём? – спросил он гордо. – Мечтал я о машине, считай, с пяти лет – и, кажется, это единственная моя мечта, которая исполнилась… Невольно станешь пессимистом в этом болотистом мире.
– Ты хочешь сказать, что ты законченный пессимист? – спросил Павел, насторожившись.
За какой-нибудь час-другой общения с Белоцерковским у него появилось почти физическое ощущение чего-то нечистоплотного. Он уже жалел, что поехал. Следовало остаться и посидеть над книгами. С другой стороны, отличный случай понять, что же такое теперь Белоцерковский. «Спокойнее, спокойнее, не спешить делать выводы. Смотреть, слушать», – приказал себе Павел.
– Пессимист не пессимист… Всё сложнее, – продолжал говорить Белоцерковский. – Знаешь эти две притчи? Оптимист входит в театр и говорит: «Зал наполовину полон», – пессимист входит и говорит: «Зал наполовину пуст». Пессимист пьёт коньяк, морщится и говорит: «Как пахнет клопами!», – оптимист давит на стенке клопа и говорит с удовольствием: «Коньячком пахнет!» Ну так вот. Я не подхожу ни под одну из этих схем. Я считаю, что зал уже наполовину, если не более, пуст, но клопов в нём развелось пропасть, и все пахнут коньяком!
Видимо, Белоцерковский раздразнил себя такими разговорами, потому что, приехав в город, заявил, что сейчас умрёт, если не достанет коньяку.
Поехали в Заречье, в Кусково, обследовали «Черёмушки», даже базар и два ресторана по пути, добрались до вокзала. Наконец из вокзального ресторана Белоцерковский выбежал с сияющим лицом. В каждой руке – по бутылке, завёрнутой в бумагу.
– С ума сойти: болгарская «Плиска»! Лишь потому, что директор знакомый. Я кретин, следовало сразу к нему, но я приберегал его уж как последний шанс. Хитрая лиса, всегда держит запас для особых гостей. Вот отрази-ка это ты в своих писаниях. Куда там, ведь не станешь, не возьмёшься!
– Взяться можно, но дело не в том, – рассеянно сказал Павел. Ему уже в третий раз за эту поездку приходил на ум тот странный сон в номере с Димкой, жаловавшимся на разговоры вещей, – и вспомнилась чёрная глыба с золотыми буквами. Каким-то странным образом и этот сон и эта глыба имели прямое отношение к Белоцерковскому, ко всему происходящему сейчас, но Павел ни за что не смог бы объяснить, какое именно. Дима Образцов и Белоцерковский – что общего? Решительно ничего. Дима умер, лежит сейчас там, среди плит, далеко. А здесь затевается обыкновенная выпивка, и Белоцерковский говорит, говорит…
– Есть коньяк – теперь у меня настроение на сто делений вверх… Посиди минутку, мне ещё надо позвонить.
Звонил он не минутку, а добрых полчаса. Истратил много монет, бегал по киоскам, меняя мелочь, снова упорно звонил, глядя в какие-то бумажки, записи. С кем-то подолгу говорил, улыбаясь и заискивая, то гневно ругался, швырял на рычаг трубку, то опять набирал номера, любезничал, убеждал. Павел совсем закоченел в машине, ожидая, но Белоцерковский пришёл довольный, загадочно сказал:
– Боролся за радость бытия, прости, что долго. Поехали!
Машина углубилась в проулки, долго петляла и выехала на самую окраину города, за которой простиралось гладкое белое поле, точно такое же, как перед окном Павла в гостинице. Открытый всем ветрам, стоял последним в улице длинный, облупленный, баракоподобный дом, утонувший в сугробах, едва пробились к нему по скверно расчищенному проезду.
Белоцерковский посигналил, но это было лишнее, потому что из подъезда уже бежали две девушки, застегивая на ходу пальто.
Одна из них была высокая, с огромнейшей причёской на голове, которую не смог целиком покрыть довольно объёмистый платок, и она была ярко накрашена, как для выступления на эстраде. А другая, наоборот, совсем ненакрашенная, с круглым лицом, круглыми испуганными глазами, толстая, так что пальто на ней чуть не лопалось.
Потеснили провизию на заднем сиденье, втиснули девушек. Представились:
– Зоя.
– Таня.
– А он – писатель из Москвы, – важно сказал Белоцерковский. – Великолепно, имеем полный комплект. Теперь, Пашка, поедем на мою хату, дворец такой, какого сроду ты не видел!
«Хата» оказалась весьма далеко, за рекой, на противоположном конце города. С трудом, буксуя в снегу, въехали во двор, полный сугробов, обстроенный старыми каменными домами, готовыми, кажется, развалиться, возможно, доживающими последние сроки перед сносом. Во всяком случае, красно-бурые кирпичи так и вываливались из стен, дома выглядели как побитые снарядами и осколками. В глубине двора стояла такая же дряхлая, разваливающаяся церквушка с заколоченными оконными проёмами, и вместо куполов торчали одни голые рёбра каркасов, образуя ажурные луковицы.
Павел ничего не сказал, но про себя удивился, что Белоцерковский живёт теперь в таком доме, но ещё больше он удивился, когда тот повёл всех не вверх на крыльцо, а куда-то под него, в полуподвал, по скользкой каменной лестнице, облитой помоями.
Миновали тёмный тамбур, заваленный хламом, о который все по очереди споткнулись, свалили что-то, загрохотавшее жестью. Белоцерковский нащупал щеколду, открыл низкую, перекошенную дверь, и за ней оказалось жарко натопленное просторное помещение, оно же и передняя, и кухня, и жильё, судя по вешалкам, плите с кипящими чугунками и топчаном с матрацем и подушками.
На топчане сидел густо заросший чёрной бородой, цыганского вида мужчина, латал валенок. Сухопарая старуха шуровала в топке. Они не очень приязненно ответили на приветствия, подозрительно-хмуро уставились почему-то на Павла.
Белоцерковский непринужденно болтал, распоряжался, помогая девушкам снимать пальто, а старуха метнулась в соседнюю комнату и выволокла оттуда за руки двух детей, мальчика и девочку.
С полными руками провизии, с бутылками все проследовали туда. Было это узкое, но длинное помещение с признаками попыток поддержать порядок: этажерка застлана старой газетой, вытертый коврик на стене. Но пол был совсем прогнивший, с огромными зияющими щелями, а стены бугристые, в клочках сизых обоев. Под длинной стенкой стояли в ряд продавленный диван и узкая колченогая кровать с проржавевшими спинками. Свет в помещение едва проникал сквозь занесённые снегом полуподвальные окна, тусклая лампочка под потолком немного к тому добавляла.
Старуха вбежала, извиняясь, подобрала с пола куклу и игрушечный грузовичок без колеса, которыми, видимо, играли дети.
– Вот это и есть моя сногсшибательная хата, – объявил Белоцерковский, торжественно выставляя бутылки на шаткий стол, покрытый стёртой и порезанной клеёнкой. – Никто о ней не знает, особенно – леди и джентльмены, прошу учесть! – моя дражайшая жена. Только для посвящённых!
– Мда-а…– сказал Павел, озадаченно оглядываясь. – Чёрт возьми, я думал, такие уже не сохранились. А оно… не завалится?
– Нас с тобой оно, конечно, не переживёт, держится, как бы сказать, на пределе, но в том-то и экзотика, шик-модерн! И ужасно дёшево снимаю, почти задаром, но все довольны. Я могу сюда в любой момент приехать. Да вы рассаживайтесь. Девочки, вы – дома. Погодите… Тут у меня для полного шумового эффекта…
Он полез под кровать и вытащил проигрыватель «Молодёжный» с кипой пластинок и белых плёнок, вырезанных из «Кругозора». Загремели ритмы. С помощью девушек закипела хозяйственная деятельность: принесли от хозяев кипу разномастных, надколотых блюдец, гранёных стаканчиков, да заодно солёной капусты с огурцами. Резали колбасу, сыр, вскрывали банки, расставляли по столу. Белоцерковский распоряжался и торопился так, что, казалось, дрожал: одной рукой менял пластинку, а другой уже разливал коньяк.
– Взяли, леди и джентльмены. За английского короля! – возгласил он, молниеносно рассказал старый анекдот, и девушки охотно, несколько визгливо рассмеялись.
Павел выпил, надо сказать, с удовольствием, предвкушая тепло, последующее за сим, а закоченел он, пока сидел в машине, сильно, да и в подвале только сперва показалось тепло, а на самом деле чуть не пар изо ртов шёл, особенно когда закрыли дверь из проходной комнаты с плитой.
Коньяк сработал быстро и вкрадчиво, распустив тепло до самых костей. Но настроение не хотело подниматься. Видимо, это было заметно, потому что Белоцерковский обиженно закричал:
– Вот уж мне эти сложные натуры, сидит с постной рожей! Ты веселись! Восторгайся!
– Чем?
– Коньяком, женщинами, хатой, мной, собой, наконец, чучело! Леди и джентльмены, давайте сразу, с ходу по следующей. За жизнь и за отсутствие в ней смысла!
– Послушай, Виктор, – сказал Павел. – Ты прикидываешься или ты в самом деле такой дремучий пошляк?
Виктор на секунду раскрыл рот, как бы задохнулся, всё ещё весело глядя на Павла, но в глазах его появились ледяные искры. Молча, залпом он выпил свою рюмку.
– Прикидываюсь, – криво улыбнувшись, не то сознался, не то сыронизировал он. – Ну, слушай, ну, нельзя же постоянно быть вечно серьёзным, вечно умным. А куда глупость девать? Пьянка тем прекрасна, что всем глупостям дает выход. О, господи, я тебе ещё не то выдам! Это я ещё мудрый. «За отсутствие в жизни смысла» – разве это такая уж глупость?
– Махровая, – сказал Павел.