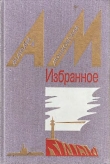Текст книги "Огонь"
Автор книги: Анатолий Кузнецов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– А теперь навестим Федьку Иванова! – кричал Слава, ведя Павла по немыслимым трапам среди железных стен и шипящих труб; они ползали тут, как мухи, и, останься Павел один, он бы, пожалуй, и выхода сразу не нашёл.
– Он на заводе? – закричал Павел, чувствуя лёгкий толчок удовлетворения, что «предсказание» насчёт Иванова сбылось.
– Ага, обер-мастер доменного цеха! Держи карман!
Они нырнули в железную дверь и очутились в огромном, как дворец спорта, цехе, но в отличие от дворцов тёмном, закопчённом, полном едкого дыма.
Одна стена его была полукруглая, выступающая, как бочка, и Павел понял, что это бок домны, что цех пристроен к ней. В самом низу этой бочки имелось ослепительное отверстие, из которого в канаву лилась белая жидкость.
– Хорошо попали, как раз плавку дают! Вон он, вон он!
У канавы в сизом дыму стояли несколько человек в поблескивающих робах, болтали. Ослепительный металл бежал и бежал себе, домна словно истекала неторопливо. Всё было очень прозаично, только дым уж очень ел глаза. Но ничего общего с виденными Павлом киножурналами, никаких снопов искр, шурующих металлургов в войлочных шляпах, сдвинутых на самую спину. Наоборот, все были в простых ушанках, только очень уж затрёпанных. И на гигантов не походили: жиденькие такие, невзрачные мужички.
Подошли ближе. Фёдор Иванов охнул, и они с Павлом обнялись.
О, как Фёдор за эти годы катастрофически повзрослел! Чтобы не говорить, постарел… Лицо у него и прежде было своеобразное: близко поставленные маленькие глаза, крупный нос, большой рот, выступающие скулы и торчащие уши. Теперь глаза совсем провалились под нависшие, кустистые брови, нос стал красный, рот ещё больше растянулся и окружился складками, и лоб весь в морщинах, и на переносице глубокие морщины – признак вечной озабоченности. А уши торчали, как бурые жёваные оладьи, и из них росли кустики волос.
Одет он был не лучше. Ватная телогрейка, на голове бесформенный блин кепки, блестевшей так, что она казалась металлической. На ногах рыжие, сбитые сапожищи, в которые заправлены штаны.
– Пошли, что ли, в красный уголок? – пробормотал Фёдор, и Павел со Славкой охотно поспешили за ним, потому что тут от дыма у них уже подкатывало к горлу.
Прошли через будку мастеров, где на циферблатах дрожали стрелки, ползли валики самописцев, торчали внушительные рычаги, и вдруг оказались в длинном низком зальчике со сценой, рядами скамей, разными знаменами и вымпелами по стенам и кумачовым плакатом над сценой «Труд в СССР – дело чести, доблести и геройства».
– О! Стенгазету так и не сменили! – с порога завёлся Слава.
– Гм… Я им говорил, – почесал затылок Фёдор Иванов. – От… мудрецы…
– Слаба, слаба стенгазета! Нет, так дело не пойдёт: полное отставание! – разорялся Слава, и уже кто-то побежал кого-то звать, искали ему какие-то сведения.
– Ну, вот так, значит…– сказал Фёдор угрюмо; он огляделся, сел посреди зала на скамью, и Павел сел, чувствуя себя так, словно скоро начнется кино. – Да, ты всё такой же, Паша, возмужал приятно.
– Ты тоже возмужал.
– Старею я…
– Все стареем. Это потому ты такой мрачный?
– Да не-е… Извини, настроение испортили, печь расстроили… мудрецы.
– А!
– Ты его обязательно отрази! – крикнул издали Слава Селезнёв. – Орёл! Гигант! Во всех газетах портреты! Большой человек!
Фёдор Иванов смущённо-криво улыбнулся, передёрнул плечами, как бы от холода.
– Да ну… врёт всё! Работа, как везде. Ты надолго приехал?
– Пока домну пустите.
– Ага, ну да… Ну, тогда ещё увидимся.
– Слушай, ты ведь кончал что-то для этой работы?
– Политехнический.
– Институт?
– Ну да, наш. Потом сразу сюда… Что они там делают, мудрецы, что они там делают?! – воскликнул он, прислушиваясь. – Извини…
– Беги, беги, понимаю!
– Понимаешь, такая работа… Балет сплошной! – виновато сказал Фёдор и поспешно убежал.
«Уставший, тупой, узко заспециализировавшийся, – с болью подумал Павел. – Домино во дворе, пожалуй, исключается… Такая работа: балет! Гм…»
Ему уже было совестно и неловко, что они вообще со Славкой сюда явились. Там печь расстроили, а тут изволь беседовать. Эту сторону журналистской деятельности он терпеть не мог: отрывать людей от дела, задавать им вопросы, записывать в блокнот; чувствовал себя в таких случаях чем-то вроде тунеядца.
– …В каждой графе подробные сведения, не просто прочерк или «да – нет», а укажите, сколько, когда, почему, – втолковывал Славка парню, слушавшему с видом жертвы.
Павел потянул его за плечи, и они пошли вон. Над канавой с бегущим металлом стояла ругань. Правда, когда Славка и Павел проходили мимо, ругань прекратилась. Славка сделал всем общий привет:
– Ну, мы пошли! Желаем удач! Работайте!
Уже пролезая в железную дверь на свежий воздух, Павел уловил, как возле канавы посыпался раскатами трёх– и четырёхэтажный мат.
– Ну, теперь героиня наша, Домна Ивановна! – кричал Слава, продолжая обязанности гида. – Тут, брат, только обойти комбинат – неделю надо. Считай: доменный цех, литейный, сталеплавильный, кузнечный, механический, прокатный, электроремонтный, кислородный, водоснабжения, электростанция, паровоздуходувная, агломерационная фабрика… Один комплекс только одной этой домны – восемьдесят шесть объектов! Ну-ка, отрази!
Павел только головой крутил. Он ощутил полную беспомощность, у него возникли сомнения насчёт будущего очерка: сможет ли он когда-нибудь разобраться хотя бы в одной этой домне? Техника, техника века, человек тонет в ней…
Опять нырнули в железную дверь и оказались в чём-то таком беспредельном, что Павел остановился, потрясённый.
Это был тоже доменный цех, но раза в три больше того, который они только что оставили. Под потолком горело несколько звёздно-ярких ламп, но отсюда они казались тусклыми, и дальние углы этого чёрного зала терялись во мгле. Здесь можно было бы устраивать хоккей или футбольные матчи, собирая под крышей десятки тысяч зрителей.
Выпуклая, бочкообразная стена домны поражала размерами. Сперва цех показался Павлу безлюдным, потом он разглядел множество людских фигурок, только они не замечались сразу, они были как соринки по корпусу домны.
На огромной трубе, опоясывавшей домну, висел белый плакат, издали казавшийся приколотым к ней листком из блокнота:
ДАДИМ МЕТАЛЛ 20 ЯНВАРЯ!
– Плакат устарел, – сказал Павел.
– Эх, чёр-рт! – рассвирепел Славка. – Кричи-кричи, говори-говори – всё как об стенку! Подожди меня, я сейчас им всыплю! Стыд!
И он убежал, а Павел прислонился к железной колонне, и в голове у него уже творился полный кавардак, калейдоскоп от всех этих шумов, дымов, циклопических размеров…
«Выплавка металла, – подумал он, – во все века была таинством, почти колдовством. Были умельцы, были секреты. Могла быть „лёгкая рука“ мастера и наоборот… Но теперь это… это чёрт знает что! Это ни с чем не сравнимо. Прозаическое, реальное, научное… сверхколдовство! Если растут, как грибы, такие вот домны, то это означает не просто количественный рост промышленности. Это серьёзнее, ибо количество переходит в качество…»
Он вспомнил кедринское стихотворение о хлебе и железе. Кедрин писал с любовью о хлебе, а о железе – зло.
Но, не будь железа, была бы цивилизация? Цивилизация не может быть злом.
– Один только ноль переделаешь, в шестёрку! – говорил Слава Селезнёв, ведя какого-то долговязого парня. – Вместо «20» «26» – очень легко! Понял?
– Понятно.
– Как оно у вас вообще? Работа идёт?
– Да работаем…
– Ну, работайте, работайте!
Славка потащил Павла прочь, спохватившись, что уже опаздывает на заседание. Он был всё так же возбуждён, весело потирал руки, полный радостной энергии и жизнедеятельности, кругленький и розовощёкий, но Павел поймал себя на том, что не чувствует к нему симпатии.
– Кого ещё из наших? – сказал Славка. – Постой, дай вспомнить… Северухина ты не знал? Нет. Мишка Рябинин. Ты его должен, конечно, помнить. Математик-то наш – повар! Да, да, повар столовой. Здесь у нас несколько столовых – и на заводе, и на стройке, и ещё городские. Вот тут на стройке в одной из них Мишка шефом работает. Вон она, хреновая столовка, каждый день жалобы, драим её, драим – как об стенку!… Женька Павлова – та сейчас в библиотеке технической, в управлении, на втором этаже. Выходила замуж, неудачно, чёрт их разберёт, что там случилось. В общем, живёт одна, учти. Настроение у неё вечно этакое ин-тел-лекту-альное, высокие материи и печаль… Да, вижу иногда Белоцерковского, конечно, этот в городской газете молодёжной, не то литработник, не то фотограф, не то сволочь. Кажется, всё вместе! Вот кого я, Паша, ненавижу!… Ух, видеть его харю не могу! Опустился, спился, алкаш законченный, гад и мерзавец.
– Витька Белоцерковский? – не поверил ушам Павел.
– Извини, не могу о нём говорить спокойно, спроси кого-нибудь другого, а то я буду необъективен. Я бы таких на месте стрелял!
– Ну и ну!…– пробормотал Павел, прекращая расспросы; от таких характеристик его прямо покоробило, но со своими выводами он не хотел спешить.
В комнате поста содействия стройке печальный художник играл в шахматы с каким-то лохматым и чумазым типом, отпустившим пейсики до самого подбородка. При виде Селезнёва тип нехотя поднялся, расставив ноги, раскачиваясь и заложив руки в карманы.
– Ну, зачем вызывали?
– Ага, явился! Почему вчера не вышел на работу?
– Квартиру искал.
– Полюбуйтесь! Квартиру ищут в нерабочее время!
– А мне жить негде!
– Ты ведь жил у какой-то бабки?
– А я с ней поругался.
– Ну вот, ты с бабкой ругаешься, а я тебе что, квартиру ищи? Ну и что ж теперь?
– В сарае ночевал.
– Так помирись!
– Не помирюсь. У неё взгляды отсталые.
– Ладно…– вздохнул Слава. – Пиши заявление, отдашь Коблицевой, я поддержу… Бежим, Пашка, умоемся, как черти мы стали. Сажа эта, пыль от аглофабрики, подсчитали, ежедневно четыреста тонн вылетает в отход.
– Четыреста тонн?
– Четыреста тонн в атмосферу. Можешь этого не записывать и не отражать: никакой редактор не пропустит.
Уборная была в конце коридора, и там никого не оказалось, только бурно бежала вода из скрученного крана. На двери выделялось глубоко процарапанное химическим карандашом сообщение: «Николай Зотов, старший горновой. Твоя жена гуляет с Ризо, а ты, дурак, ходишь с ней по ресторанам».
– Ноги гудят, – признался Славка. – Вот так на6егаешься туда-обратно!
– Ты бы со своим постом переселился поближе к домне, что ли.
– А мы и так близко. Первый этаж, первая дверь.
– Да, да…– сказал Павел. – Сейчас ты на завком?
– Да, я член завкома. Извини, я тебя не приглашаю, – сказал Слава виновато. – Там будут одни недостатки… сор из избы. В общем… Я откровенно!
– Я и не собирался, – заверил Павел. – Мне нужно что-нибудь почитать, ибо я смотрю и хлопаю ушами. Возьму учебник, проработаю.
– Ну, работай, работай! – одобрил Слава.
Глава 4
От библиотеки веяло суховатой технической строгостью. Хотя в ней, как и во всём здании, было тепло и даже жарко, уюта при этом не ощущалось. Голые учебные столы стояли в три длинных ряда, за каждым зачем-то по два стула, – расчёт на уйму народа, но во всём зале был один-единственный читатель, да и тот забился в дальний угол, сложив на подоконник пальто.
Дубовый барьер отделял читальный зал от собственно библиотеки, стеллажи которой с несметными книгами уходили в тьму. За барьером сидела и что-то писала Женя Павлова. Она подняла глаза, и Павел споткнулся, зацепившись за половик.
Он ожидал всего: что она постарела, располнела, возмужала, поблёкла – всё, что угодно, но, чтобы она стала ослепительной красавицей, не ждал.
Была прежде этакая здоровая, упругая девочка с мальчишескими ухватками, с вечно запачканными руками, оторванными пуговицами, в царапинах и синяках, потому что всюду лезла очертя голову, а сейчас из-за барьера, широко раскрывая глаза, поднималась ему навстречу изящнейшая, тонкая, законченная женщина. Именно филигранная законченность была в ней, та законченность, которую драгоценный камень приобретает после шлифовки мастера.
Она была яркая, словно сошла с цветной обложки модного журнала. Чёрные, как смоль, волосы, уложенные по самой последней моде; большие голубые глаза – редкое сочетание; очень нежный цвет лица; ярко очерченные малиновой помадой губы; пурпурное платье с глубоким вырезом; и в этом вырезе, вокруг изящной, точёной шеи, бронзовое ожерелье с позеленевшими подвесками, словно вчера выкопанное в каком-нибудь древнем кургане. Ошеломлённый Павел в первую минуту говорил какие-то слова, Женя радостно улыбалась, и он радостно улыбался, но всё это без участия его сознания, которое тем временем панически барахталось.
– Да, да, – говорил он, смеясь, – запиши меня в число читателей.
– Надолго ты?
– Не знаю сам.
– Послушай, сколько ж это лет?
– Славка сказал, что ты в библиотеке…
– Где ты остановился? Или ещё нет? Я спрашиваю, потому что у тебя никто не спросит, а у меня знакомые…
– Нет, я в гостинице, спасибо, это всё уже в порядке.
– Ну, я рада!
– Я тоже рад, – сказал он, всё ещё не отрывая от неё глаз, но уже приходя в себя. – Так ярко помню всё: велосипеды, разговоры, споры, а ты готова драться была за Чайковского…
– Чайковский – выше всех.
– Что, и сейчас?
– Конечно!
– Вот где постоянство!
– Я всё твоё читала. В одной книге есть на обложке справка: родился там-то, вырос в Косолучье.
– Скажи мне о себе! Я вспомнил: волосы каштановые были…
– Ну! Крашусь десять лет.
– Очень идёт, ты стала прямо как кинозвезда.
– Спасибо. Только счастья не приносит.
– Ты всё мечтала быть актрисой, потом геологом: Тянь-Шань, Памир, восток Сибири…
Женя грустно улыбнулась.
– Кто не мечтал!
– Да, ты ж ведь и стихи писала. Помнишь, нам читала? И мы орали от восторга, по траве катались. Они сохранились?
– Да ну тебя! – вдруг с досадой сказала Женя, в глазах её мелькнуло раздражение. – Давно я ничего не пишу и ни о чём не мечтаю.
– Привет. Что значит «ни о чём»?
– Нет, вру. Мечтаю. Хочу поехать за границу по туристской путёвке.
– Жень! – сказал он, вспомнив. – А почему ты здесь, в библиотеке, как это вышло?
– Как? Очень просто. Закончила наш «пед», потом Ильин сюда устроил.
– Какой Ильин?
– Ну, мужа брат… Да, ты же не знаешь.
– Не знаю…
И вдруг всё оборвалось. Оба замолчали, и неприятно замолчали, причём Павел начал понимать, что он тому причиной, напомнив, кажется, не то, что нужно, и спрашивая не то, что надо.
– Тебя записать? – спросила Женя, помолчав.
– Да… Понимаешь, мне писать о домне. А в этом деле я профан профаном… Ты можешь дать мне что-нибудь такое, как для школьника, «от печки»?
– Давай твой паспорт.
– У, как строго!
– Ну, по всей форме… Тебе ведь всё равно, а мне – число читателей.
– Всё так, – весело сказал он, отдавая паспорт, и всё-таки почувствовал укол обиды.
– Ты случайно зашёл? Или знал, что я здесь?
– А мне Славка Селезнёв сказал.
– Мне неприятен этот тип, Славка. Ты начал уже с ним водиться?
– Полдня ходили по заводу. Я только ведь приехал…
– Да, – сказала она рассеянно. – Заполни эту вот анкетку.
Тут пришёл из дальнего угла читатель, стал требовать какие-то таблицы, непременно «Металлургиздата», последнее издание, потому что все другие «похабно устарели», и Женя поспешно, слишком поспешно, чуть ли не угодливо бросилась искать, а Павел машинально заполнил анкетку, получил обратно паспорт и спохватился, что не понаблюдал, как его Женя листала, потому что когда женщине попадает в руки мужской паспорт, она непременно хоть мельком взглянет на некоторые страницы.
Он хотел ещё говорить с ней, но читатель мешал. Женя небрежно сунула Павлу растрёпанное «Доменное производство», продолжая заниматься с читателем, лицо её вытянулось, став непроницаемо-усталым. Павел покрутил в руках книгу, постоял. Грохнула дверь, ворвались два чрезвычайно пижонистых молодых инженера, чуть не с порога потребовавших срочно-пожарно что-то о флюсах… А сами смотрели на Женю оценивающе-жадными глазами. Она изящно ходила, чуть покачивая бёдрами, вдоль стеллажей, прекрасно зная, что на неё смотрят, и как на неё смотрят, и каково от неё впечатление, и что от флюсов трёп перекинется на темы, от металлургии далёкие.
Павел выбрал себе стол, устроился у окна с раскалённой батареей под ним. Окно выходило на площадь перед заводскими воротами, пустынную в этот час. Пошёл снег, густо повалил хлопьями, значит, потеплеет. Павел развернув книгу и принялся за работу.
Книга была толковая, и видно было, что написана она доступно, популярно, но половину текста Павел всё-таки не понимал. Читал глазами слова, предложения, перечитывал и всё равно не понимал, как если бы книгу эту писали люди на другой планете. Такие же люди, как у нас, но… на другой планете.
Воюя с текстом, он иногда забывался, глаза скользили по строчкам, а мысли текли в другую сторону. Области людской деятельности расходились из одной точки, как лучи, и всё длиннее, шире, и всё дальше друг от друга. Кажется, последний, кто ещё мог охватить хотя бы самые главные эти лучи, был Леонардо да Винчи. Но теперь… Едва хватает жизни человеческой, чтоб охватить информацию и стать специалистом одной узкой, строго очерченной линии. Некоторые линии требуют, чтоб человек посвящал себя им уже с раннего детства. Цирковая акробатка и учёный-генетик, физик-атомник и лингвист, всю жизнь разрабатывая только свою линию, расходятся так далеко друг от друга, что поговорить между собой могут разве лишь о погоде и спорте.
Однажды Павел был в гостях у конструктора счётно-вычислительных машин. Когда темы погоды, последних фильмов и книг были исчерпаны, Павел попросил хозяина растолковать ему суть кибернетики. Но только просто, предельно просто, как пятилетнему ребёнку. Мучительно выбирая самые понятные слова, упрощая, как для ребёнка, конструктор говорил полчаса. Павел ничего не понял. «Но проще уже невозможно», – сказал, обидевшись, конструктор. Павлу тогда удалось взять относительный реванш, заговорив о потрясающих записках Аввакума; выяснилось, что конструктор и не слышал, что был такой протопоп.
Всё это было бы забавно, если бы стихийный и необратимый этот процесс имел какие-нибудь границы, но он безграничен, и к тому же мы вступили лишь в самую начальную фазу его… Что будет дальше? Уже сейчас, если не будет найден способ убыстрения учёбы или не будет вдвое, вчетверо, впятеро продлена человеческая жизнь, встаёт угроза, что человеку придётся только учиться с пелёнок до гроба, овладевая пропастью информации одной только узкой, специальной линии, а на новые открытия и действия не останется времени. Сейчас это – ещё преувеличение, но что будет дальше, если и сейчас уже обыкновенная выплавка металла становится сложна, как вычисление орбиты спутника?
– …Что? – сказала Женя, собирая по столам журналы. – Ты что-то сказал?
То ли от густого снега, то ли от приближения сумерек в читальном зале стало темно. Читатели ушли.
– Если бы я был царь, – сказал Павел, – я бы издал указ, чтоб все думали над продлением человеческой жизни. И если бы в моём царстве была академия, я бы всем академикам, от самого важного до самого глупого, повелел бы работать над этим…
– Зачем?
– Не хватает этой жизни. Просто не хватает…
– Некоторые не знают, что и с такой жизнью делать. Сделали два выходных, так многие знаешь что? Спят. Говорят: скука. Устраиваются все эти дискуссии о проблеме свободного времени.
– Ты куда собралась?
– Обедать. Сиди, я оставлю тебе ключ, запрись и работай, я быстро – в столовую.
– Нет! Я тоже, – сказал Павел.
Он подал ей пальто, снова поразившись тому чуду совершенствования, которое случилось с ней. Но она застегнула пальто – и вдруг словно погасла. Словно выключила свет.
Пальто было старое, сильно заношенное, совершенно не в комплекте с пурпурным платьем. Закутавшись в платок, подняв линялый воротник, Женя в один миг превратилась в прозаичную, задёрганную заботами, усталую служащую, и даже, казалось, лицо её приобрело забитое выражение. Парадный вид у неё, оказывается, был один: за стойкой среди книг.
– Мишу Рябинина ты видел? – спросила она, запирая дверь.
– Нет.
– Тогда пойдём к нему в столовую. Что-что, а столовая у него знаменитая!
Знаменитая столовая внутри представляла собой вопиюще большой, светлый, но какой-то неуютный зал, хаотично заставленный тьмой одинаковых голых столов на трубчатых ножках и таких же стульев, и все они были заняты, так что шум голосов, звяканье ложек, звон посуды сливались в один мощный звук, слышимый даже снаружи, как если бы тут работала какая-то необъятная машина. Это был крупный, поточный, массовый блок питания. Один за другим от стойки шли едоки, осторожно неся подносы с тарелками, стараясь ни с кем не столкнуться и не поскользнуться на гладком кафельном полу, который казался жирным.
Дух в этом зале стоял типично «столовский», пресный.
Раздаточных стоек было три, но работала почему-то только одна, и к ней стоял такой длинный и закрученный хвост, что Павел испугался, но Женя успокоила, что очередь пройдёт быстро. Тут всё по конвейеру.
Собственно, помещение само по себе было неплохое, и при желании его можно бы сделать приятнее, если бы кого-нибудь это интересовало: чтоб окна не были просто дырами, например, а стены не так свирепо голы, но, к сожалению, единственным украшением стен была стенгазета «Пищевик», висевшая как раз над головами очереди.
Как и та, которую Павел видел давеча у монтажников, она была из фанеры и аппликаций, вся в знамёнах, золотой и серебряной пудре, но на неё никто не обращал внимания, и Павел оказался, кажется, единственным читателем из всей очереди.
Передовая статья «За отличное обслуживание!» начиналась с анализа международного положения, переходила к достижениям нашего общества за пятьдесят лет в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, а в конце было сказано, что работники общественного питания, «как и весь наш многомиллионный народ, должны ещё более настойчиво бороться за достижение новых успехов, внедрять прогрессивные методы труда».
– А вон и сам он! – сказала Женя, указывая на кухню, которая вся была видна сквозь этажерки стоек.
– Рябинин! – заорал Павел сквозь стойку.
Тот узнал, расцвёл, подбежал с той стороны, протягивая руку.
– Ста-рик! Пашка! Глазам не верю! Какими судьбами? Да что это вы, с ума сошли, в очереди стоите? Идите в ту дверь! Хотя стоп… нет. Совещание как раз кончилось… Вот чёрт! Минут пятнадцать подождёте?
И вдруг Павел буквально затылком ощутил холодок людей, стоявших вокруг в очереди, они даже как будто отодвинулись от него,
– Брось ты, что ты!…– пробормотал он. – Мы здесь. Перестань!
Но Рябинину, наоборот, очень хотелось угодить, и он продолжал уговаривать, крича, что там чисто, и тихо, и надо ведь поговорить, и ах, как неудачно, что там сейчас полно.
– Стоп! – воскликнул Рябинин. – Я сейчас распоряжусь вам без очереди… Фрося, подайте вот этим двоим!
– Не надо! – зло остановил его Павел, не зная уже, куда и деваться. – Не надо, сказал!
Женя вмешалась и выручила:
– Миша, оставь! Ему, как человеку пишущему, надо знать, как люди живут, пусть постоит, как все.
– Ах ты, человек мой пишущий, – сияя, говорил Рябинин, – как же я рад тебя видеть! Ну, извини, извини… там приёмка как раз… Не надо, Фрося!… Я к вам ещё подойду!
Он бодро ушёл, а Павел, чувствуя, как у него горит лицо, не смел взглянуть на очередь, и Женя тоже не смотрела на него.
К счастью, черёд их скоро подошёл. Меню выбора не представляло: в нём было тринадцать названий, но большинство вычеркнуто. Из первых только «щи из кваш. кап. с/м». Была это мутная белёсая болтушка, в которой всё разварилось, но плавал небольшой, аккуратный квадратик мяса.
Парень, который стоял за Павлом, охотно объяснил, хотя его никто не спрашивал (вероятно, в расчёте на то, что «человек пишущий»):
– «С/м» – с мясом значит. Варят щи отдельно, мясо отдельно. Потом по кубику на тарелку, сверху заливают. А без кубика, то уже будет «б/м».
На второе были котлеты с синевато-сизым картофельным пюре. На третье – компот из сухофруктов. Правда, и стоило это совсем недорого.
Балансируя с подносами, Женя и Павел долго были озабочены поисками места, но им повезло: освободились два стула у стенки, они только немного подождали, пока уборщица собрала гору посуды.
Павел быстренько отнёс подносы, прихватил по паре алюминиевых, почему-то погнутых ложек и вилок. Походил между столами, поискал соль, потому что щи оказались совершенно несолёными. Посмотрел на часы – все процессы самообслуживания заняли всего каких-нибудь тридцать минут. Отлично!
– Так! – весело сказал он, принимаясь за щи. – Расскажи о себе. За все эти годы… Я почти ничего не знаю.
– А какое «почти» ты знаешь? – спросила она.
– Что ты разошлась с мужем, что-то там случилось… Живёшь одна. Настроение у тебя сложное…
– Прекрасная информация, – сказала она.
– Извини, – сказал он. – Я задаю вопрос не из одного любопытства… Мне это надо. Как тут живут? Чем тут живут? Если не хочешь, не надо, давай о другом…
– Нет, почему?… Живу я хорошо. Ни на что не жалуюсь.
– Ты очень изменилась, очень.
– В чём?
– Например, вокруг тебя стоят прочные стеклянные стенки, ты их поставила. Может, это только по первому впечатлению, но…
– Нет. Это точно. А мне так надо. Во всяком случае, спокойно.
– Погоди, спокойно – разве это надо?
– Очень надо, Паша, – осторожно, почти незаметно вздохнула она. – Очень.
– Потому ты живёшь одна, больше замуж не выходишь?
– Кому я нужна!
– Перестань. На недостаток успеха ты не можешь жаловаться. Не так?
– Господи, какой это успех! Какой? Нет, причина другая, проще. Женщин у нас больше, чем мужчин. Должны же оставаться какие-то женщины одни. До того дошло, в песенках по радио поют: «На десять девчонок по статистике девять ребят». Я десятая.
– Что-то не верю, – признался Павел. – Ты красивая. В форме, как говорят пижоны, очень в форме.
– Тряпки и косметика, все это умеют, много она мне стоит, эта «форма».
Тут только он, пристальнее вглядевшись, заметил на её шее поперечные морщины, которые искусно скрывало зеленоватое ископаемое ожерелье. Лицо её было свежо и молодо, но выдавали руки – сухонькие, жёлтые, в той обильной микроскопической сети морщинок, которую упорное смазывание кремами, кажется, только усугубляет. И когда он это увидел, в нём что-то дрогнуло. Стеклянная стенка вдруг стала мягкой.
– Ты красива, – упорно сказал он. – И не лги, одна ты не потому.
– Я по идейным соображениям, – сказала она, смеясь.
– О! Это уже что-то!
– Да, по идейным… Слушай, ты не женщина, вам это трудно понять. Но знаешь ли, что сотворила эта статистика, когда её объявили, эти самые песенки?… А мужчины моментально приняли это к сведению, женщины тоже. Мы перепугались, а вы, особенно молодёжь, вы стали такими самоуверенными! Куда же: «Мы дефицитные мужчины, мы ценность!» Жена говорит мужу: «Я от тебя уйду». Он отвечает: «Уходи, десять других найду». А как сейчас ведут себя парни? Они хамят, грубят, издеваются, девчонки терпят, хихикают, словно так и надо: ведь это к ним снисходят, одаряют вниманием!
– Допустим, девчонки ныне сами… такие хамоватые.
– Это защита! От страха и борьбы за жизнь, а иначе ведь с вами пропадёшь! Так и вылетишь в десятые.
– Гм…
– Они только не знают, что и в девятке остаться не великое счастье. Современный этот самоуверенный нахал, превратившийся в мужа…
– А, в этом и причина, что ты решила быть одна?
– Что ты, конечно, нет.
– Не понимаю.
– Я нарочно завела этот разговор, чтоб ты перестал проникать мне в душу: стеклянные стенки, видишь ли, и прочее… Извини ещё раз.
– Всё в порядке. Я думаю, это была последняя война, когда так выбили мужчин. В новой войне мы уже будем гибнуть одинаково: мужчины, женщины, дети, так что всё выровняется.
– Ты так безнадежно говоришь, словно война завтра…
– О, я ничего не знаю!… Была у нас читательская встреча в цехе. Я пошла посмотреть плавку – красиво. Стою, думаю: вот, как вы пишете, из этого металла будут тракторы и комбайны. И ракеты. Может, я стою над этим ручьём, а это льётся как раз та самая ракета, и я смотрю на свою смерть, Вот так, тут, возле домны начиналась.
– Наши с тобой смерти плавятся скорее всего где-нибудь в Руре, – заметил Павел. – Но ты не бойся: у нас есть чем защититься от их ракет!
– Слушай! – вдруг, склонившись к его уху, быстро спросила она. – Я точно ещё не старая? Скажи только правду! Очень прошу тебя! Я пригляделась, сама себя уже не вижу. Ты вот… свежим взглядом… Я старею?
– Господь с тобой…
– Только не лги! Пашка!
– Женька! Всё хорошо, – улыбаясь, искренне сказал Павел. – Я, знаешь, как тебя увидел, просто был… ну, повержен. Да.
– Спасибо. Ты сам не знаешь, как меня утешаешь!… О боже мой, столько в этой жизни чудовищного: болезни, заботы, холод, старость, смерть, – а они ещё – эти ракеты, бомбы, ракеты, бомбы!… И чем же это мы, люди, занимаемся, вот ответь ты мне, писатель? Ты оптимист или пессимист?
– Помесь, – сказал Павел. – Сложный оптимист, по Ромену Роллану: сквозь тернии к радости, с окровавленными ногами, но обязательно к радости. Насколько я помню, Ромен Роллан был твой любимый писатель.
– Был… Забавно, на госэкзамене в пединституте он мне достался…
– Почему ты не стала преподавать?
– Я два года преподавала.
– Ну и что?
– Не умею. Вернее, не то. Школа требует долбёжки. Я этого не смогла.
– Долбёжки не надо.
– Ну, это идеально, так все и говорят, но когда доходит до дел… Вероятно, я была неопытная, поддалась панике. В общем, ушла в библиотеку – тут в сто раз спокойнее.
– Опять спокойнее?
– Ладно. Давай о другом.
– Где ты живёшь?
– Литейная, семь, квартира семь. Счастливые цифры.
– Я не о том. Это отдельная квартира?
– Нет, коммунальная. У меня комната. Любопытные соседки.
– Не очень приятно.
– Я привыкла, не обращаю внимания.
Он представил себе на миг её жизнь: приходит с работы, готовит что-нибудь на общей кухне, потом закрывается в комнате, лежит, читает книги. Иногда приходят знакомые, мужчины; соседки подслеживают и злословят.
– А твои актёрские способности? Забросила?
– Ага.
– В самодеятельности не пытаешься?
– Да ну!… Расстраиваться?
– Тогда я не понимаю, чем ты живёшь…
– Чем живут многие. Надеждами. Инерцией.
– Ну, братцы, едва вырвался! – раздалось над столом.
Рябинин пришёл прямо в колпаке, в замызганном фартуке, с закатанными рукавами на мощных, поросших рыжими волосами ручищах.
– Что ж, давай обнимемся?… Рад тебя видеть, босяк, без верёвки на шее! Значит, первое: ты обязательно должен прийти ко мне. И уж там-то я тебя накормлю!
– Не этим, ты хочешь сказать? – иронически спросил Павел, отодвигая свою тарелку.
Рябинин засмеялся охотно.
– Вот там, дома, поймёшь, что значит настоящий повар.
– А ты по крайней мере откровенный, чёрт! – сказал Павел.