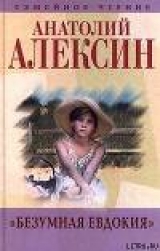
Текст книги "Ночной обыск"
Автор книги: Анатолий Алексин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Отец написал письмо. И один подписал его. И сам отправил. Даже отнести на почту запечатанный конверт он не доверил маме: а вдруг бы она тайно вскрыла и добавила свою подпись?
«Танюшу пожалей». Я не поняла тогда, что это значит…
«Ведь не могли же тех двоих просто так взять и арестовать?» – размышляла я. Но внезапно споткнулась об эту мысль: она почти слово в слово повторяла сомнения, высказанные старичком-химиком. Да, именно им… И все же в чем-то он виноват? Думая так, я, как это ни стыдно, испытывала успокоение: раз мои родители в отличие от старичка ни в чем не виноваты, им ничего и грозить не может.
«Виноватые» стали обнаруживаться и в нашем доме. Мама в полный голос называла их «без вины виноватыми».
– Александр Николаевич Островский придумал этот афоризм для других ситуаций, – поправил ее отец. – Вот при тех ситуациях ее и употребляй. А так не надо… Танюшу пожалей.
Я опять ничего не поняла. «Значит, – думала я, – в чем-то хоть немного, но соседи по дому все же грешны…» Эта мысль казалась мне спасительным кругом: мои-то родители были безгрешны! Чего же тревожиться по ночам? Мамина честность была наступательной, резкой, а отцовская – скромной, застенчивой.
Я перестала вслух горевать по тому поводу, что и физкультурник в школе выстраивал нас по росту, в результате чего я вновь оказывалась «замыкающей».
– Вот видишь, – сказала мама, – все действительно познается в сравнении. На фоне происходящих бед твои недавние переживания кажутся нелепыми и смешными. Ведь правда же?..
Все чаще по утрам гигантский дом, замкнувший в гранитный квадрат наш двор, с первого до последнего этажа пронзала весть: «Ночью взяли…» Фамилию произносили одними губами, родственников «взятого ночью», с которыми еще накануне раскланивались, старались не замечать, обходить стороной. А столкнувшись, не узнавали. Постепенно люди вообще перестали улыбаться друг другу… на всякий случай… Так поступали почти все, кроме мамы. Она звонила даже в те прокаженные квартиры, в которых раньше не бывала ни разу.
– Все выяснится! – успокаивала она. – Напишите товарищу Сталину. Только сегодня же!
– Даешь советы? – с грустью осведомлялся отец.
– А что, ты в них не веришь? В эти советы?
Отец водил руками по голове, будто искал свои исчезнувшие волосы. Один раз он проговорил:
– На мое письмо ответа, как видишь, нет.
– Еще будет, – выразила уверенность мама. – Боюсь, не дошло оно до него. Самое главное – чтобы письма до него доходили. Он ужаснется!
Отец промолчал… Он не запрещал маме действовать столь рискованно. Однако и не поощрял ее действий. Иногда предупреждал об опасности. Но чаще со вздохом предоставлял ей свободу.
У нас с отцом были свои, особые отношения. «Секреты – на стол!» – так не без иронии называла их мама, потому что перед ней я свои секреты на стол не выкладывала. Мама судила обо всем с таких дистиллированно безупречных позиций, что перед ней мог раскрываться человек безупречный. А я себя такой не считала.
Мама страдала лишь одним пороком – «чисто женским», как говорил отец: она была пылко ревнива. Даже меня ревновала к отцу, а его – ко мне. Или, точней, нас обоих друг к другу.
Отец помогал мне утихомиривать ссоры с подругами. А они возникали часто. Потому что я унаследовала мамину прямолинейность, не унаследовав ее храбрости, но добавив от себя бессмысленное упрямство. Впрочем, упрямство всегда бессмысленно, ибо, приобретая справедливость и смысл, оно становится принципиальностью.
Отец не выяснял подробно, кто прав, а кто нет, – он считал, что мириться надо при всех обстоятельствах.
У мамы было время вникать в суть моего характера и противоречий между мною и окружающим миром. У отца же времени не было: короткие общения со мной были для него праздниками. А праздники не принято омрачать… Он и не омрачал их разбирательством, придирчивым проникновением, а все стремился уладить и сгладить. Ныне, через годы и годы, я поражаюсь, как он, спавший иногда по три часа в сутки, все же находил силы для этой миротворческой деятельности. Да еще и притворялся, что в делах моих он отдыхает…
Возвращался он из наркомата почти под утро. А ровно в половине десятого за ним приезжала вместительная машина с «подвижным» верхом, такая вместительная, что в ней были и откидные стульчики. Они производили особое впечатление. Отец до отказа заполнял машину моими подругами, меня усаживая впереди, между собой и шофером (мама посадила бы меня даже не на откидные стульчики, а совсем сзади!). У перекрестка мы с подругами высыпали на тротуар. А отец на прощание покупал нам по порции мороженого. Первую порцию он протягивал мне (мама бы угощала меня последней!). Это бывало не каждый день, но раз в неделю уж обязательно… Подруги перед отцом до онемения благоговели. «Как хорошо, что мы учимся во вторую смену и утром свободны!» – помню, провозгласила одна из них. В этом единственном случае мама не ревновала.
А потом отец стал катать нас с подругами на машине все чаще и все чаще угощал нас мороженым… Словно хотел, чтобы я накаталась на всю свою жизнь и налакомилась тоже на всю жизнь вперед. В этой обязательности утренних праздников появилось нечто совсем не праздничное, какая-то отчаянность, предчувствие обрыва. И конца всяких праздников… Такое предчувствие я уловила даже на лице шофера – то услужливого, то с опаской поглядывавшего на отца и как бы от него отрекавшегося. Я перестала ощущать вкус мороженого – и без прежнего наслаждения глотала его, как проглатывала страницы учебника по ненужному мне предмету или урок неприятного мне учителя.
– Ты не любишь Ларису? – спросил в один из дней отец о кукле, как о живом человеке.
– Почему не люблю? – чтобы не обижать его, солгала я.
– Ты не обязана ее любить только потому, что она… связана как-то со мной. Ничем не отягощай себя. Тягот и так предостаточно. Тебе и мороженое надоело?
– Почему надоело? – опять неискренне удивилась я.
– А чего бы тебе хотелось? Ходить в кино, в театр… или в цирк? Скажи мне. И ходи хоть каждый день! Ладно?
Я почувствовала, что и развлечения он пытается сделать для меня обязательными… что хочет успеть доставить мне удовольствие. И я заранее перестала ощущать их вкус, как и вкус мороженого.
Мама продолжала читать в медицинском институте свои лекции по истории партии. Ее любимым революционным деятелем был Дзержинский. «Железным Феликсом» она его называть отказывалась.
– Железность не сочетается с человечностью. И каким же он был железным, если получил разрыв сердца? Сердце может разорваться только у того, у кого оно есть… Я это сказала сегодня на лекции. Совершенно открыто!
– Пожалей Танюшу… – вновь попросил отец.
– Разве я сказала что-нибудь вредное? Или преступное?
– А наказывают разве только за преступления?
«Наказывают разве только за преступления?» – этот вопрос отца отбирал у меня спасательный круг.
Нет, мамина прямота не была прямолинейностью и железобетонностью, думаю я сейчас. Она была честностью… Облеченной в непривычно открытую форму, но все равно честностью!
– Кому-то выгодно карать невинных людей. Кто-то продолжает дезинформировать партию… и товарища Сталина. А ты как считаешь?
Зеленые мамины глаза обычно вопреки своему цвету перекрывали дорогу другим мнениям. А тут они открыли зеленый свет.
– Но разве его возможно дезинформировать? – двинулся отец по свободной пешеходной дорожке. С необычной чеканностью он почти повторил слова старичка-химика. Но интонация и ударения были совсем иными.
– Кому-то выгодно лишить партию сил.
– Лучших сил, – добавил отец.
– А у товарища Сталина столько всего… что не доходят руки…
– До этого не руки должны доходить… а совесть.
Зеленый цвет маминых глаз, как обычно, стал противоречить себе самому.
– Кому-то выгодна атмосфера окаянного страха! А великий человек так занят, что не ведает…
– Ну, если не ведает того, что все, кроме него, ведают… то какой же тогда он великий?
Отец прошептал эту фразу. Но чтобы совсем заглушить ее в памяти, с настоятельной твердостью, тоже для него необычной, предложил:
– Давай переменим тему. При Танюше… Как ты говоришь? «Не позволяет аудитория!»
Меня опять обозвали тяжеловесным словом. Будто я была помещением для институтских лекций. А может, мама и произносила это слово, потому что привыкла читать лекции?
Заметив, что я огорчилась, и поспешая утешить, отец отвел меня в дальний угол и, как бы выпытывая секрет, спросил:
– А как твои отношения с Ларисой? Все еще сложны? – Он опять осведомлялся о ней, как о живом человеке. – Ты не вникай в наши споры с мамой. Занимайся лучше Ларисой. После школы ты ведь… в медицинский решила? Еще не передумала быть хирургом? Вторгаться внутрь какой-нибудь мысли и то нелегко, а внутрь человека… Не передумала?
До окончания школы было тогда далеко, но я уверенно ответила:
– Не передумала.
– Ты права: в медицинском лучше всего заниматься самой медициной. – Он, наверное, намекнул на маму, которая в медицинском институте занималась историей партии. – Вот и потренируйся на Ларисе, – посоветовал мне отец. – Представь себе, что у нее, допустим, аппендицит. Сделай операцию, спаси ее!.. Тогда она и станет тебе дорога. Мы ценим тех, кому помогаем. Обратной закономерности, к сожалению, нет… Но врачи ведь вызволяют из несчастий не ради благодарности. Так что спаси ее!
Через несколько дней я и правда вспорола Ларисе живот, мысленно удалила аппендикс, а потом все зашила. Это понравилось мне: все-таки обрела власть если не над самой Ларисой, то уж, во всяком случае, над ее здоровьем. «Еще что-нибудь ей удалю! – задумала я. – А потом будут осложнения… И она станет смотреть на меня с мольбой и надеждой, как на спасительницу. Но почему отец так заботился о наших с ней отношениях? – недоумевала я. – Неужели в такое время ему до моих игрушек?..»
– Что это ты сегодня не посадил в машину Надю с пятого этажа? – спросила у отца мама.
– Она сама не подошла к машине.
– А ты знаешь, почему она не подошла?
– Сейчас догадываюсь… А сразу не сообразил. Прости меня.
– Она пусть простит… Усаживай ее рядом с собой. Вместо Тани! Какая ей разница, где сидеть? Завтра же утром усади Надю на переднее место. Не забудешь?
Мама строго звала меня Таней, даже этим как бы воспитывая и подтягивая. А отец звал Танюшей.
– Ты все продумала? Это не будет выглядеть… вызовом? – выверяя свои опасения, спросил отец.
– Вызовом кому? Тем, которые делают вид, что жестокостью утверждают добро?
– Эти самые «те» пока еще обладают правом незваными приходить по ночам. И сутками рыться в чужих вещах, письмах… в чужих жизнях.
– Испугался?.. Вот этого они и добиваются! – вспыхнув и сделавшись вызывающе красивой, воскликнула мама. – Породить ужас и всех им сковать. Но со мной у них ничего не получится.
– Хорошо… Про Надю я не забуду. Можешь не волноваться.
– Хочу, чтоб и вы с Таней волновались по таким поводам!
– Обещаю тебе волноваться… Пока, как говорил мой дальний, заброшенный родственник. Теперь и в самом деле заброшенный судьбой неизвестно куда!
«Пока…» Холодея, я поняла, что имел в виду отец.
И одновременно (в который уж раз!) убедилась, что мама была не просто храбрее нас, а была безогляднее: никакие опасности не заставляли ее отступиться. Теперь вот от Нади с пятого этажа, отца которой уже официально в газетах объявили врагом народа. Я знала этого деликатного человека, который здоровался со мной столько раз в день, сколько встречался. Слово «враг» не могло иметь к нему отношения. Но кому-то понадобилось, чтобы имело… «Зачем?!» – терзала я себя безысходным недоумением с того утра, когда, оглядываясь по сторонам, мне сообщили, что ночью «взяли с пятого этажа».
Надя заняла мое место между отцом и шофером. Это не уменьшило ее горя, но немного облегчило нашу совесть.
После ареста старичка-химика, выражавшего уверенность, что просто так никого за решетку бросить не могут, нарком и комкор перестали бывать в нашем доме.
– Боятся, чтобы их не объявили создателями вражеского центра со штабом в этой квартире?
Мама задала отцу вопрос, не требующий ответа. Но он все же ответил:
– Что касается наркома, то он так занят, как никогда.
– Еще бы: половину наркомата пересажали, приходится потеть за всех выбывших.
– Он и раньше потел с утра до утра. А ты… если не жалеешь себя, то хоть пожалей Танюшу.
Мама неожиданно, что с нею случалось, обмякла. Но так явно и обессиленно, как прежде не бывало…
– Если и можно наступать себе на горло, то ради детей. Я учту твою просьбу.
Мама сникла… Причиной того были не одни лишь застенчивые отцовские просьбы: семь квартир в нашем доме не только посетили ночью, без приглашения, но и замуровали сургучными печатями. Попасть под такие печати было страшней, чем под любую бомбежку: там хоть родные люди страдали вместе, а печать означала, что родные разлучены, быть может, никогда не увидят друг друга… и никогда друг о друге ничего не узнают.
– А ответ от товарища Сталина еще не пришел, – с ироничной безнадежностью отметил отец. – Я думаю, ответы, когда они им написаны, доходят мгновенно.
– Разбираются… выясняют, – ответила мама. – Если он получил!
– Как ты говоришь, «кому-то» удобнее не выяснять.
– Это заговор против партии… Против ее истории! – закричала мама, которая эту историю преподавала. – Наш долг – раскрыть глаза…
– Ему? Он же всевидящий!
«Сегодня весело живется, а завтра будет веселей!» – пели по радио.
– Еще веселей? – спросил неизвестно у кого, завтракая на кухне, отец. Заметив меня, он спохватился: – В цирке мы с тобой в воскресенье были. Следующее воскресенье – Большой театр… Пойдем на «Щелкунчика»! Разве не весело? А прямо из театра можем отправиться на международный футбольный матч! Хочешь?
Отец не был спортивным болельщиком. Он «болел» за меня. Ему хотелось без конца доставлять мне какие-нибудь радости. От его предложений развлекаться я каждый раз вздрагивала.
Раньше наш дом считался привилегированным. Теперь он пользовался лишь одной привилегией: по ночам его навещали гораздо чаще, чем другие дома переулка.
На лицах соседей я читала: «Кто следующий?»
Героем дня в доме чувствовал себя только дворник, верткий человечек, непрестанно двигавшийся, мне казалось, для того, чтобы не дать никому себя разглядеть. Но я все же разглядела его выступавшие вперед хищно обнажавшиеся зубы. Раньше дворника собирались уволить – он содержал двор в той неопрятности, в какой содержал и себя самого: то не убирал мусор, то не счищал снег, то не скалывал лед.
– Переломаем из-за него ноги и руки! – ворчали жильцы. Но теперь ворчать перестали, потому что он мог переломать их судьбы.
Встречаясь с ним, одни заискивали, другие почтительно раскланивались: по ночам он был понятым – и, помогая копаться в чужих квартирах и жизнях, мог давать этим жизням оценки, которые, как сам он горделиво сообщал, «вносились в протоколы дознаний». От бессонных ночей у него появились зловещие круги под глазами. Родом он был из-под Смоленска и летом сорок первого, скрывшись там от военкоматовских повесток, стал полицаем. Опыт ему пригодился.
Он первый во дворе сладострастно оповестил маму:
– А дружка-то вашего с тремя ромбами взяли.
– Откуда вам известно?
– Мне все известно. Про всех! Частенько этот… с ромбами вас навещал. И все вечерами! Все вечерами… – Чистить двор он не умел, но пачкать человеческие биографии обожал. – Говорят, и ордена-то украл. С убитых сымал и на себя вешал. В Гражданскую! Еще тогда продался.
– И что ты ему ответила? – с едва осязаемой дрожью в голосе поинтересовался отец.
– Сказала: «Вы клевещете!»
– А он?
– По-моему, не понял. Ну, не знает, как называется то, что он делает.
– Хорошо… если так.
– Вспомнила… По пути в домоуправление приостановился и, обернувшись, изрек: «Партейных-то в нашем доме почти не осталось». Нечистая сила!
– Стало быть, все понял. И пригрозил.
– Боишься? – впрямую спросила мама, часто обвинявшая людей в трусости.
– Боюсь, – впрямую ответил отец.
Но какая-то была в его ответе двусмысленность, недоговоренность. Мне почудилось, для того чтобы спрятать их, отец торопливо добавил:
– Ты же мне обещала?
– Что?
– Наступать на горло. Ради Танюши.
– Прости, не сдержалась.
– А если и он не сдержится?
– Ты-то сам сдерживаться умеешь… – с непривычно робким укором (если уж она укоряла, то в открытую!) и тоже каким-то вторым, загадочным смыслом сказала мама. – Возвращаешься под самое утро, а спать не ложишься. Вот уже двадцать три дня так… Я подсчитала. Бродишь по квартире, заходишь ко мне… что-то хочешь сказать, но не решаешься. Объясняешь, что бродить тебе полезней, чем спать.
– Я?!
– Ты, ты… Что ты хочешь сказать? Скажи… Освободи свою душу!
– Не позволяет аудитория, – взглянув в мою сторону, машинально проговорил отец.
Раньше он в три или четыре часа ночи подкатывал к нашему подъезду. Подкатывал без шума: колеса солидного, знавшего себе цену автомобиля еле шуршали. Дверца захлопывалась негромко, подчиняясь ночному времени. Но я все равно просыпалась, как только «паккард», украсивший бы ныне выставку необтекаемых, старомодных машин, въезжал во двор. Но потом ночные шуршания шин и ночные хлопанья дверцы улавливал, затаившись, весь дом. Поэтому отец выходил из машины за воротами и старался как можно тише пересекать двор: ночные шаги тоже стали плохой приметой.
И по квартире он ходил так осторожно, что лишь мама ощущала его нервные передвижения.
Но в ту ночь хождений не было. Отец и мама разговаривала впол-, даже вчетверть голоса. Я же так навострилась подслушивать, что, прильнув к двери, не пропускала мимо ушей ни одной фразы.
– Зачем понадобилось арестовать Алешу? – Отец наконец-то назвал комкора по имени. – Ну зачем? Ведь он же в самом деле легенда. Пусть простоватая по форме легенда, но по сути… Человек из песен, из фильмов! Кому это было нужно?
– Тем, кто хочет подорвать партию. – Мама, преподававшая историю партии, употребляла слово «партия» чаще других политических слов. – Тем, кто замыслил унизить ее в глазах наших граждан и всего мира.
Мама говорила это обдуманно, не запинаясь.
– А что же товарищ Сталин?
– Умоляю, не трогай его. На него вся надежда! И она осуществится. Я верю!
Слово «уверена» мама впервые заменила менее утвердительным словом «верю».
– А ты знаешь, что он лично обязан Алеше? Быть может, и жизнью… Это было в Гражданскую, где-то под Царицыном. В других местах товарищ Сталин опасности, кажется, не подвергался.
– Не смей иронизировать! – приказала мама.
– Факты и ирония – разные вещи.
– Я впервые слышу про это… Надо будет напомнить в письме… которое мы напишем.
– Еще одно?
– Не одно… Мы будем писать до тех пор, пока наш голос к нему не прорвется!
– А ты убеждена, что товарищ Сталин любит, чтобы ему напоминали о подобных событиях? Не все ведь жалуют тех, к кому по долгу совести должны бы испытывать благодарность.
– Он, как никто, благороден! И ему можно напомнить… Корректно, разумеется.
– А не кажется ли тебе странным, что Алешу взяли через месяц после Авксентия Борисовича? – Отец и своего заброшенного невесть куда родственника назвал не академиком, как было принято у нас в доме, а по имени-отчеству. – Авксентий Борисович не из героев Гражданской войны! И боль не выносит даже малейшую. Помнишь, как ты ему на даче занозу из пальца вытаскивала? Ну, а если ему не занозу вогнали, а что-нибудь поострее и не в палец, а, допустим, под ногти?
– О чем ты? Такие методы применяли в средневековье!
– Зачем столь дальние экскурсы? И сейчас применяют. Вот, к примеру, в гестапо.
– Но у нас не гестапо!
Отец промолчал.
– Авксентий Борисович, комкор, отец Нади с пятого этажа… – проговорила мама.
– Долго перечислять! – перебил ее отец. – В этих арестах даже логики никакой…
– Почему? Я разгадала их нелогичную логику. Все же я теоретик!
– Любопытно послушать.
– Кто-то хочет создать, как я уже не раз говорила, атмосферу страха. Но не какого-нибудь обычного, маленького… а сатанинского! Тут как раз и нужна непредсказуемость, нелогичность репрессий. Пойми, если они логичны, то не так устрашающи, их можно избегнуть: не буду делать ничего предосудительного – меня не тронут! А нелогичные действуют как бы вслепую, и от них не гарантирован, стало быть, ни один человек. Ни один!
– Жутковато… Но, думаю, ты права.
– Обличать «варфоломеевские ночи» я не боюсь!
– Ты, к несчастью, вообще ничего не боишься.
– Ему надо обо всем сообщить. И как-то так передавать письма, чтобы прямо… из рук в руки.
– Танюшу пожалей…
Отец долго молчал, прохаживался по комнате, потом вновь присел на кровать и склонился прямо над подушкой, над маминой головой. И я уже не слышала его голоса. Чуть в соседнюю, родительскую комнату не ввалилась, так налегла на дверь. Но разобрать ничего не смогла. Голос отца шуршал осторожно. Как шины его длинного вместительного автомобиля в нашем ночном дворе.
А потом мама заплакала. И это я услышала сразу. Никогда за все свои одиннадцать с половиной лет я не видела слез на ее лице. И свои-то обдуманные рыдания я чаще всего адресовала отцу: на него они действовали. Мама отвергала такой «способ доказательств». И вдруг сама… Она обхватила бритую голову отца и стала исступленно твердить:
– Не отпущу… Не отпущу… Не отпущу…
– Тише. Танюшу пожалей, – попросил отец. И снова зашептал что-то маме в ухо. Но это не было успокоением, потому что она стала захлебываться плачем, как захлебываются лишь малолетние и как даже я давно не захлебывалась.
– Не отпущу!
– Прошу, умоляю тебя: потише.
– Из-за этого, значит, ты и вышагивал по квартире? Я думала, что ты сходишь с ума из-за Пашиного и Алешиного несчастий. А ты, оказывается, сходил с ума от…
– Ты права, – перебил отец, чтобы она не смогла договорить свою правду.
– Что ты придумал?!
Мамин крик был особенно жутким, потому что прозвучал в ночной тишине.
– Я ничего не придумал. Так придумала жизнь.
– Тогда я… ненавижу тебя. Не жизнь, а тебя! Презираю…
Мама это прошептала. Но мне показалось, что тоже выкрикнула. И даже громче того, что действительно было криком.
Мама слыла общепризнанной красавицей, а у отца даже волоска на голове нельзя было отыскать. Но он ее не ревновал, а она его ревновала. Страдания без слез бывают особенно заметны. Мамино лицо искажалось мукой, когда она уверяла отца, что он в театре или в гостях на кого-то не так посмотрел.
– Откуда ты взяла? Я смотрел на тебя.
– Наберись мужества и сознайся, что меня ты вообще не замечал. А от нее не отрывал глаз. У тебя такие глазищи, что их не спрячешь…
– Да не смотрел я!
– Смотрел!
Едва я успела накануне подумать, что было бы счастьем, если б вернулись такие вот мамины переживания… как они и вернулись.
– Не отпущу… – заклинала она. – Не отпущу!
Куда? Или к кому? К «кому» было тогда менее угрожающим, чем «куда».
В дни бедствий дети взрослеют быстрей… И чем невообразимее беды, тем раньше настигает их взрослость: нарушение законов общечеловеческих вызывает и нарушение физиологических правил. Когда ныне ликуют по поводу акселерации, я недоумеваю: «Чему, собственно, радоваться? Тому, что от детей до срока уходит детство?»
Атмосфера, в которую опрокинул наш дом тот год, как-то сразу, с жестокой, не желающей ни с чем считаться стремительностью сделала меня взрослой.
«Наверное, мама опять мнительно приревновала отца… и воображает, что он к кому-то собирается уходить» – так примерно я размышляла.
От необходимости непрестанно воспитывать меня маму отбрасывали лишь волны женской ревности. Теряя самообладание (а она теряла его исключительно в этих случаях), мама при мне начинала упрекать отца за его взгляды – не политические, разумеется. А буквальные! За какие-то его «мужские намерения», которые она подразумевала.
В общем-то я понимала маму. Будь моим мужем такой человек, как отец, я бы тоже боялась его потерять! Но что именно отец придумал, если мама не смогла удержаться от вопля? Вопля в ночи?! Что он придумал?
Когда ночь, в которую я увидела и услышала мамины слезы, начала понемногу оттесняться рассветом, отец вошел в мою комнату. И не заботливыми шагами, боящимися разбудить. Ему необходимо было, чтоб я проснулась.
– А я и не сплю, – отвечая его не произнесенному вслух желанию, сказала я.
Отец присел ко мне на постель так же обреченно, как недавно присел возле мамы.
– Ты, вероятно, слышала мамин крик?
– Да… А что? – ответила я агрессивно.
Я не знала, в чем дело, но меня подмывало почему-то быть на маминой стороне, хоть обычно я бывала на папиной.
– Сейчас происходит столько невообразимого, – продолжал отец, – что я не буду убеждать тебя… в возможности невообразимого.
Наши особые отношения заключались и в том, что отец никогда не подбирал слов или фраз, понятных моему возрасту. Но в тот предрассветный час он вовсе забыл о моих годах! Что невообразимое собирался поведать он мне? Меня ожидала невообразимость не радостная, а тяжкая, даже чудовищная – это было понятно. Но какая именно?
– Я давно хотел сообщить вам с мамой… что должен уйти.
– Как уйти?
– В самом буквальном смысле. Покинуть ваш дом, который был нашим. И он дорог мне! Прости за такую сусальную фразу… Дорог, но я покидаю его.
– Насовсем?
– Насовсем.
– Как это? Почему?!
– Потому что я, Танюша… прости меня, умоляю… полюбил другую женщину. Тоже истертая фраза. Но полюбил!
– Больше мамы?
– В каком-то роде… да.
– В каком роде?
– Ты не поймешь.
Раньше он верил, что я все способна понять.
– Но ведь ты всегда говорил: «Пожалей Танюшу…»
– Я и жалел. Долго жалел. Нет, не так… Я и сейчас жалею. Очень, бесконечно жалею тебя.
Отец прижал меня к себе вместе с одеялом, которое накрывало меня, и подушкой, на которой я лежала… Я почувствовала, как прикоснулись к моему лбу его глаза. Они были влажно-жаркими. Но я все-таки вырвалась и оттолкнула его.
– Твой «мозговой трест» в такое время не придумал ничего другого? В такое время?
Наверно, я сказала это немного по-иному, более детскими словами… Хоть наедине с отцом и становилась вроде бы равным ему человеком. С другими я выглядела гораздо младше. Сказать «моложе» не могу, потому что мне было одиннадцать с половиной.
– Я уже не «мозговой трест» наркома, – ответил отец. – Потому что и сам нарком уже не нарком.
Мне стало зябко под одеялом: за наркомом должен был последовать его заместитель… Подумав, что этот страх для меня страшнее страха его ухода к другой женщине, отец, как в прежние, будто уже и не существовавшие годы погладил меня по лицу:
– Не бойся: наркома лишили не жизни, а только должности.
– Пока?
Я повторила любимое словечко дальнего отцовского родственника, которое сейчас уже было для меня не словечком, а словом.
– Не беспокойся за меня, – попросил отец. – Конечно, случается, что страдают невинные… Но не все же подряд.
Он не знал, что я навострилась подслушивать разговоры, происходившие в соседней комнате, всякий раз опасаясь стать неподходящей для них «аудиторией».
– У вас, я думаю, все будет хорошо, – продолжал жалеть меня отец.
– У кого… у вас? У меня и у мамы отдельно от тебя, а у тебя отдельно от нас? С кем?
– Она не виновата… Я повинен во всем!
– Сейчас кругом страдают невинные. А ты, стало быть, в отличие от других виноват?
– Перед тобой и мамой. За это меня можно судить. И судите! Даже в присутствии, как говорится, общественности. Я заслужил. Перед вами повинен. Очень повинен… Но в том смысле будь за меня спокойна.
Странное дело: самообманно успокоившись «в том смысле», я с особым ожесточением набросилась на отца в другом смысле, который касался не Родины в целом, а нас троих. Я все, повторюсь, произносила по-детски и не могу сейчас воссоздать те фразы, но смысл их не искажаю.
– Мама сказала, что ненавидит тебя. Я слышала. И тоже буду тебя ненавидеть!
– Правильно сделаешь.
– Правильно?!
– Это будет справедливо… Нормально!
– Зачем же… зачем же ты… если сам понимаешь?
– Ничего не могу с собою поделать.
– А с нами ты такое… поделать можешь? – Неожиданно для себя самой я соскочила на пол в ночной рубашке. – А где мама? Почему она молчит?
– Я ей дал снотворное. Вместо пилюли от головной боли, которую она просила… подсунул ей другую пилюлю.
– Пилюлю? Ты не пилюлю подсунул, а яд!
В разговорах с отцом я обретала тот стиль, которого требовало наше с ним равноправие.
– Извини меня, если сможешь.
– Не извиню. Не смогу! И презирать буду тебя… как мама.
– Правильно сделаешь.
– Почему ты соглашаешься со мной?!
– Потому что ты права. Абсолютно во всем.
– Объясни все-таки, как ты… в такое время?!
– Влюбляются даже на войне. Даже под огнем… за десять минут до гибели. И я, может, влюбился тоже… незадолго до гибели, – проговорился отец.
– Значит, и то возможно?
Мне стало до того зябко, что я вернулась под одеяло.
– Не страдай из-за меня, Танюша. Я не заслуживаю.
– Но что я скажу… другим людям?
– Как есть, так и скажи.
– Ты не будешь возражать?
– Не буду.
Что было говорить дальше? Я не знала. И произнесла то, что уже через минуту показалось мне непостижимо глупым (но ведь и все происходящее было непостижимым!):
– Подруги спросят меня, почему больше не приезжает машина…
– Многие машины, которые раньше подъезжали к нашему дому, теперь уж не подъезжают.
– Но то, ты знаешь… совсем иное. Про то не спрашивают.
– Скажи всю правду.
– Мы с тобой… совсем не будем больше видеть друг друга?
– Первое время… не будем… Потому что каждый раз возвращались бы к этой ночи, к этому разговору.
– И ты не соскучишься?
– Я поступаю как плохой отец и плохой муж. Так вышло. Изображать из себя при этом хорошего отца значило бы быть и плохим человеком. – Отец через силу добавил: – Хотя плохой отец и есть плохой человек. Но я не хочу быть еще и лживым. Пусть все знают, каков я есть… по отношению к тебе и к маме. Хоть в этом я найду очищение.
Что было еще говорить? И зачем? Но я вдруг спросила:
– Как ее зовут?
– Кого?
– Ну, ее…
– Ларисой.
– Как?! Ты, значит… мою куклу назвал в ее честь?
– В ее… Прости меня. И здесь виноват!
– Но зачем же… зачем, объясни еще раз, ты говорил маме: «Танюшу пожалей»? А сам пожалел Ларису? Нечистая сила! – неожиданно для самой себя произнесла я.
Он еще раз прижал меня вместе с подушкой и одеялом. Но так, что оттолкнуть его я не смогла…
– Отец думал, что я смогу заснуть от снотворного? Но я не спала, – на следующее утро, когда машина с поднятым верхом последний раз прощально отчалила от нашего подъезда, сказала мне мама. – Я слышала звуки ваших голосов – только звуки! – и до утра думала… В том положении, в каком мы с тобой оказались, облегчение вроде бы искать бесполезно: ни друзей, ни отца, ни мужа. Ни справедливости… Ни пощады! Но я поняла, что облегчение все-таки есть. Оно – в нашей с тобой любви. В неспособности кого-либо на земле нас разлучить… Теперь даже спать будем вместе. Ты согласна? Чтобы и ночью не разлучаться.








