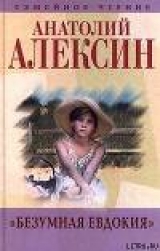
Текст книги "Ночной обыск"
Автор книги: Анатолий Алексин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Алексин А
Ночной обыск
Я не любила эту куклу. Ее рост и внешние достоинства сравнивали с моими, по-взрослому наивно полагая, что доставляют мне удовольствие. Походя, с дежурно-умилительными интонациями восклицали: «Кто из вас девочка, а кто кукла – трудно понять!» Человек непонятлив, когда речь идет о том, на что ему наплевать. Но сразу обретает понятливость, если дело касается его самого…
Я была хрупкой и малорослой. И оттого что взрослые, восхищаясь этой хрупкостью, именовали ее «изяществом», а меня «статуэткой», мне не было легче. Я была самолюбива. И мне казалось, что «статуэтка» – это лишь вещь, украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трех фарфоровых собак, оцепеневших на нашем буфете. Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстраивала нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. Воспитательница так и определяла мое место в общем строю: «замыкающая».
– Не огорчайся: конец – делу венец! – услышала я от отца.
Венца на моей голове, увы, не было, а венценосные замашки имелись. Полвека минуло, но помню: замашки имелись… Уже потом, в школе, я с удовольствием узнала, что Суворов от рождения тоже был хилым. Это меня обнадежило.
– Метишь в генералиссимусы? – спросила мама.
Нет, в полководцы я не метила, но командовать очень любила. Это обнаружилось уже в дошкольную пору.
Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня возвышая. Миниатюрностью своей игрушки подчеркивали, что созданы как бы для подчинения мне. А безраздельно хозяйничать – я сообразила уже тогда – очень приятно. Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, повадками и действиями зверей, которых в жизни боялась. Определяла судьбы своих «сверстников», одетых в такие же, как и я, костюмы, юбки, рейтузы, только меньшие по размеру. Я властвовала, повелевала ими. Они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом.
Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с нерусским лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. Обычное ей бы не подошло. Отец привез куклу из Японии, где был в недельной командировке. Он и имя ей самовольно придумал. Я должна была бы обрадоваться заморской игрушке. Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу же к ней придралась:
– Не русская, а Лариса!
– Обвинять по национальному признаку – это мерзость, – возразила мама.
Не очень поняв, что это значит, но не вынося замечаний в свой адрес, я зарыдала.
Меня принялись успокаивать: отец-де в командировке не ел и не пил, а все откладывал деньги на эту Ларису. «Мог бы не мучить себя до такой степени!» – подумала я, не торопясь «выходить из рыданий».
Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками.
– Любишь наказывать? – вполушутку спросила как-то она. И вполусерьез добавила: – С бессловесными так поступать нельзя. Они же не могут ответить ни на добро, ни на зло.
– На добро отвечают, – возразила я.
– Чем?
– Подчиняются.
– Это оскорбительно. Не для них… Для тебя! – уже совсем серьезно сказала мама.
Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими игрушками. Она вообще была против самовластия. Но я к этому отвращения не питала.
С появлением Ларисы многое изменилось. Игрушечное царство, чудилось мне, послушно задрало голову и взирало на нее снизу вверх. Так смотрела на Ларису и я. Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. Мы и куклой-то ее называть не решались, а именовали только Ларисой.
Отец зачем-то брил наголо свою безукоризненно круглую голову. Эта безукоризненность не выглядела запрограммированной: в ней была свобода горного валуна. Большая отцовская голова состояла, мне казалось, из одного только лба. А глаза были как бы его продолжением. Не размером, не красотой, а выразительностью своей они, как и лоб, отвлекали внимание от всего остального в отцовском облике. Глаза ничего не контролировали, но заставляли собеседников обдумывать фразы чуть дольше, чем они обдумывались обычно.
Лоб и глаза… Это и был мой отец.
Мама же обладала всем, без чего, по моему мнению, просто не мог обойтись красивый человек. Сами собой, как дикорастущие, вились ее волосы. Глаза были зелены, точно поле. Нос, губы и зубы каким-то образом избежали даже малейших изъянов, а шею грех было прикрывать воротником или шарфом. В фигурах я тогда разбиралась слабо, но говорили, что и фигура у мамы была отменной. Одним словом, ей не приходилось соперничать с куклой.
У отца были три закадычных приятеля. А у приятелей – свои дома, семьи и жены. Но по выходным все закадычные оказывались у нас. Их, быть может, и влекли дружественные чувства к отцу, но более всего – чувства к маме. Это меня настораживало. Мы с Ларисой заслоняли отца собой. Я продолжала не любить Ларису. Но разве только друзей делают союзниками в нужный момент?
Говорят, что красивые женщины ни на минуту не забывают о своей красоте. Но мамина внешность существовала вроде бы отдельно от мамы и никакого отношения к ней не имела. Так оригинально мама себя вела. Мне было обидно! Даже подозрительно регулярные посещения закадычных отцовских друзей она сваливала на эту самую закадычность.
– Что значит сила товарищества! – говорила она.
Проявление мужской слабости она зачем-то выдавала за силу.
«О, достанься мне мамина внешность (а досталась мне папина), я бы поступала совсем иначе!» – говорила я самой себе. Теперь, через десятилетия, я все вспоминаю, восстанавливаю картину… А это невозможно без реставраторского умения, которое является к нам лишь с годами.
Похожа я была на отца. Но мужские черты женщину почти никогда не красят. Сейчас мне кажется, что я напоминала шарж, нарисованный на отца, который нельзя было назвать дружеским. Как бы повторяя отцовский облик, я его искажала: отец не был ни хрупким, ни маленьким. И «замыкающим» его невозможно было себе представить. Наверно, я выглядела игрушкой, безнадежно пытавшейся повторить в миниатюре значительный образ.
Одним из отцовских приятелей был нарком, другого называли то Менделеевым, то Ломоносовым, поскольку он «внедрял» химическую науку в жизнь, а третий был комкором. Вроде ни у одного из них не было имени-отчества. Задумав, чудилось, какую-то игру, мама, а вслед за ней и все остальные говорили просто «нарком», «комкор». И лишь старичку-химику доставались пусть не свои, но все же фамилии. Да к тому же какие!
Должностям мама значения не придавала. О наркомовском охраннике, установившем пост возле двери на табуретке, точно он опасался, что наркома через эту дверь могут утащить, безвозвратно похитить, она как-то сказала:
– Мышей не ловит, потому что мышей в квартирах, которые он посещает, нет!
– Однако могут быть… гидры, – негромко, но с волевой интонацией поправил ее охранник, дав понять, что хоть мышами и не питается, но хлеб даром не ест. Охранник по совместительству работал шофером. Но первая его должность была призванием, а вторая только профессией.
От химии и от старичка-химика, взорами своими томительно напоминавшего, что любви все возрасты покорны, мама была далека.
Таким образом, больше всего я ревновала ее к комкору. На его петлицах сверкали три ромба, а на груди – два ордена Красного Знамени. Он воевал со всеми, кого я считала самыми заклятыми врагами Советской власти, – с Юденичем, Деникиным и Колчаком. Вот только с Врангелем, к сожалению, не успел! Он сидел и в камере смертников. А кроме того, играл на гитаре и, как мама считала, «обворожительно» пел. Пел он не о сражениях с Деникиным и Колчаком, а о сражениях за женские души, что меня особенно наэлектризовывало. Когда мама садилась рядом с комкором, чтобы «лучше услышать», я с Ларисой умудрялась протискиваться между ними.
– Мы здесь будем сидеть! – говорила я.
И комкор смотрел на меня как на представительницу белогвардейского стана.
Слушая романсы, нарком обычно поглядывал на маму. И внимание охранника автоматически устремлялось туда же.
– От кого вы его охраняете? – проскакивая с тарелками мимо двери, я помню, спросила мама.
Служака лет сорока не смог ей ответить, но видом своим дал понять, что бдительное сидение на табуретке – операция особой государственной важности. И что нам бы ее не доверили. Он проводил маму таким длинным взглядом, будто от слова до слова записал ее странный вопрос и по буквам, по слогам куда-то его передал.
Все поглядывали на служаку с опаской. Все, кроме мамы… Напуганность от его присутствия сдавливала, спирала воздух в нашей квартире, где всегда – даже в какой-нибудь лютовавший впервые за двести лет мороз! – форточки были распахнуты мамой настежь.
Она и тут распахнула форточку:
– Вы бы погуляли лучше на улице. А мы в случае чего его защитим.
И охранник ей подчинился: стал прогуливаться возле нашего подъезда, пугая жильцов.
– Маня, как же ты так… неинтеллигентно? Мы ведь сами, – отец кивнул на наркома, – его пригласили.
Отца не раз, я слышала, предупреждали, что «интеллигентность его погубит». Но он такой гибели не боялся.
– А разве интеллигентно за стол не садиться, в разговорах не участвовать и только подслушивать? – возразила мама.
– Может, он не подслушивает, а просто слушает?
– Ума набирается? Нет, не ума, Володенька, а сведений. Только сведений!.. Нечистая сила!
«Нечистая сила»… Это было самое резкое выражение, которое мама себе позволяла.
Нарком умышленно задремал и участия в переговорах между мамой и папой не принял. Он знал, когда выгодно дремать, а когда бодрствовать. Но в отсутствие охранника стал поглядывать на маму еще активнее. Она же, по собственному признанию, «взглядам» начальства не подчинялась. Так она действовала в своем мединституте, где преподавала историю партии. Вероятно, по инерции и на взгляды народного комиссара не реагировала. А он преодолевал усталость, вызванную интересами государства, интересом к маминой прелести. Но когда натыкался на безразличие, интерес временно угасал – и нарком уже не нарочито, а естественно начинал дремать. Потом, вздрогнув всем телом, но как-то дробно, не одновременно (тело было слишком солидным и вздрагивало по частям), он мысленно перешагивал в свой наркомат, принимался что-то подсчитывать в записной книжке. Направляясь к телефону, нарком грузно наваливался на спинку отцовского стула и консультировался с отцом.
Внешне подвергая его ответы сомнению, он тем не менее записывал их. И делал это с видом учителя, собирающегося поставить за ответ тройку. Заблокировав по бокам трубку рукой, звонил, давал неслышные нам указания. После этого подчинялся усталой дреме, чтобы из подчиненного минут через двадцать вновь превратиться в руководителя. Но он ни разу не превращался в него, минуя отца! В наркомате было много управлений, отделов и трестов, однако единственный трест, без которого нарком не мог обойтись и часа, назывался «мозговым трестом». А это как раз и был мой отец…
– Какой-то ненасытный аппетит на отцовскую мудрость. Слава Богу, что она, кажется, неиссякаема! – с гордостью, приглушенной легким упреком в адрес наркома, говорила мама.
Отец был заместителем наркома, и я не понимала, почему «заместителем», если нарком с ним непрестанно советовался.
– Он потому и нарком, что не боится советоваться, – объяснил мне отец. И добавил: – Он никогда не спит.
– А у нас дремлет…
– Я для того его и зову: должен же человек когда-нибудь отключаться. И общаться с людьми не по делу!
Мне в отличие от отца было ясно, что приезжает к нам народный комиссар не для общения с народом, а для общения с мамой. Хотя бы на расстоянии. Мужчинам доставляло удовольствие просто видеть ее. Это я четко осознавала даже в свои одиннадцать с половиной лет. Осознавала и то, что нарком ищет у нас не покоя, а как раз того, что людей покоя лишает. Я не умела еще так формулировать свои впечатления, но и не будучи сформулированными, они были весьма безошибочны. Дети реагируют острее, чем взрослые, на все, что не требует опыта. Это я поняла, лишь приобретя опыт.
Иногда мама просила комкора не петь при мне каких-то романсов.
– Не позволяет аудитория! – говорила она.
Было странно, что меня называли тяжеловесным словом «аудитория». Затем меня отправляли спать. И я думала, что именно тогда комкор и начинает петь то, что, по мнению мамы, не должно было проникать в мои уши, а через них еще глубже.
Я страдала, когда подчеркивали не только хрупкость моего телосложения, но и детскую хрупкость моего сознания.
Раздираемая обидой и любопытством, я однажды решила подслушать, что же все-таки в мое отсутствие исполняет комкор…
Но он ничего не успел исполнить: мама вдруг отобрала гитару и вернула ее на стену, где она обычно висела, – рядом с портретами двух бабушек и двух дедушек. Всех их на этом свете давно уже не было, а гитара напоминала, что песни, переживая людей, которые их любили, доносили до нас отзвук их надежд и мечтаний.
Двух дедушек и одну из двух бабушек я на земле не застала. А мамина мама растила и воспитывала меня до семи лет.
– Мечтаю повести тебя на первый школьный урок!
Но повести меня в школу бабушке не довелось.
Мама и отец хотели, чтобы у них родилась девочка. Я откликнулась – и выполнила это желание! Два дедушки и одна бабушка, хоть и не дожили до дня моего рождения, но тоже ждали меня, как уверяла мама, с большим нетерпением. И только та бабушка, которая дождалась, грезила не внучкой, а внуком. От планов своих она не отказывалась и, когда я наконец родилась, сделала вид, что план ее выполнен: я-де хоть с виду и внучка, но фактически внук. Первой игрушкой, которую она лично мне подарила, был качающийся – то опускающий, то гордо вздымающий голову – конь. «Конная Буденного, дивизия, вперед!» – командовала бабушка, руководившая много лет хором в кавалерийской воинской части, – и я, подчиняясь команде, целыми днями качалась в седле.
– Никто пути пройденного у нас не отберет! – уверяла бабушка.
– Отобрать его можем только мы сами, – вполголоса, я слышала, возразил ей как-то отец.
В знак протеста бабушка расправила красный матерчатый бант, который торчал у нее на груди и в приятные, и в горестные дни. Бант был волшебным: он не выцветал, не терял своей боевитой окраски.
Мама тоже была уверена, что никто не отберет у нее ни «пути пройденного», ни того самого бесценного, что она обрела на этом пути: меня, папу… Она верила в это и потому, что, как в магический талисман, верила в личность, которая способна все понять и все поставить на свое место. Надо лишь довести до ее сведения! А раз так, то и трусить нечего… Она призналась мне однажды, что любит эту всемогущую личность почти так же, как нас с папой. Призналась негромко, потому что любить ее полагалось гораздо больше, чем нас.
И в тот вечер, когда я воровски проникла к дверной щели, мама не изменила своим убеждениям. Но вначале она повесила гитару рядом с портретами тех, трем из которых, мне рассказывали, гитара была близка. Четвертая же предпочитала песню про «конную Буденного», которую под гитару не пели.
– Так вот, давайте договорим, – не предложила, а потребовала от всех мама. – В прошлое воскресенье мы к согласию не пришли…
Отец обхватил свою бритую голову так крепко, что она со звуком стукнулась о его ладони.
– Зачем это, Маня?
– Я хочу еще раз задать вопрос: вы верите в Пашину виновность? Если верите, то я встречаюсь с вами последний раз.
– И со мной тоже? – как-то мучительно пошутил отец.
– Ты в это не веришь. Так что можешь не отвечать.
– Похоже на допрос, – своим сносившимся от времени голосом съехидничал химик, которого иногда называли академиком. Он же в этих случаях поправлял: «Я пока только член-корреспондент».
Слово «пока» присутствовало обязательно. Старичок приходился отцу дальним родственником, жена его интересовалась лишь внуками, поэтому был позабыт-позаброшен, и приглашать его отец считал «своим святым долгом». Отец столь многое считал «святым долгом», что горстями глотал лекарства от головной боли. На других «святые долги» почему-то не давили с такою силой, и у большинства голова от них не болела.
– Маркс утверждал, что все надо подвергать сомнению, – напомнил маме приглашавшийся к нам «по долгу совести» химик. – Значит, надо подвергать сомнению и возможность виновности, и возможность невиновности. А вообще-то… почему вы, Мария Никитична, предполагаете, что человека могут просто так, за здорово живешь, взять да и посадить в кутузку?
– Не могут посадить, а уже посадили, – ответила мама.
– Просто так? Ни с того ни с сего? – не успокаивался химик столь упрямо, что его голос с трещинкой грозил вот-вот треснуть совсем и разлететься на куски в разные стороны.
– Не просто так! Кому-то понадобилось отторгнуть людей друг от друга… Создать атмосферу ужаса. Всеобщего отступничества!
– Ужас… Отступничество… Зачем такие слова? Они сами создают паникерский климат! – скрипуче, жестко одернул маму старичок-химик. В этот момент его возраст уже не был покорен любви. При всей своей заброшенности старичок, оказывается, умел наступать. Сухонькое тельце его штыкообразно заострилось, готовое к схватке: я-де несчастен и хил, но, когда речь идет о политических принципах, брошусь в атаку!
Однако мама отступать не умела:
– Я уверена: кто-то из кожи вон лезет, чтобы погрузить нас во мрак того трепета, того всеобщего оцепенения, когда можно творить что угодно. Во тьме так удобнее действовать.
– В этом я как раз не уверен, – вмешался нарком. – К таким обобщениям я еще не пришел. – Вероятно, он не мог допустить, чтобы подобные обобщения звучали в его присутствии и остались бы без ответа. Если б охранник-шофер не прогуливался возле подъезда, а сидел по-прежнему на табуретке, нарком бы возразил еще резче. – А за Павла могу поручиться. И поручусь!..
О ком шла речь, я не знала: мама называла его Пашей, а нарком сообразно своей должностной солидности – Павлом.
«Может быть, боятся произнести фамилию? – думала я. – Но мама-то не боится! Она считает страх не просто унизительным, а толкающим на преступления чувством».
– Если были такие, которые не боялись и смерти… стыдно страшиться чего-либо остального. Ты же в Гражданскую ничего и никого не боялся? – обратилась мама к комкору. – Или быть смелым на войне легче, чем в будни?
– Сейчас тоже идет война, – с заученной уверенностью ответил комкор.
– Война? С кем?
– С врагами.
– С чьими?
– Народа… Как и в гражданку!
– Ты это серьезно говоришь? Нечистая сила…
Комкора мама почему-то называла на «ты». Раньше мне это казалось подозрительным, а тут вдруг понравилось: она не трепетала перед его ромбами.
– Я не только так говорю… Я так думаю.
– И о Паше?
– Этого я не сказал.
– Опять боишься? С двумя боевыми орденами боишься?!
– Чего?
– Признаться…
– В чем?
– Не хочу сказать, что в предательстве, но…
– Что? Что?!
Комкор вскочил с дивана так, точно хотел вытащить из кобуры пистолет. Только ужас заткнул мне рот… Иначе бы я заорала.
– У вас… нет соседей? – прошептал химик, хотя знал, что соседей нет.
А мама во гневе стала такой красавицей и так бесстрашно двинулась навстречу комкору, что тот осел на диван.
– Если бы это была не ты… – бессмысленно шептал он.
– То что бы случилось?
– Я бы уж… не сомневайся…
– Сомневаюсь. В храбрости твоей сомневаюсь! И в верности…
– Ну, знаешь…
– И всюду страсти роковые… – проскрипел заброшенный химик.
– Гораздо страшнее следующая строка, – откликнулась мама. – «И от судеб защиты нет…» И правда нет, если кругом отступники.
Нарком продуманно задремал.
Мама в очередной раз распахнула форточку:
– «Я б хотел забыться и заснуть»?
Нарком не вышел, а прямо-таки выскочил из своей дремы:
– Зачем же мне забываться? По какой причине?
– Гораздо важнее следующая строка: «Но не тем холодным сном могилы…» – поучительно взял, по его мнению, у мамы реванш старичок-химик.
– От партийной совести никто из нас не отступал! – с новой силой вскипел, но уже не поднимаясь с дивана, комкор.
– Я не знаю, что такое партийная совесть. И чем она отличается от обычной. От человеческой… Тем, что приказывает бросать людей на произвол судьбы? И вчерашних друзей считать сегодняшними врагами?
Подобно бабушке мама стояла на своем до конца. Пусть в иных ситуациях, но до конца.
– У вас за стенкой не слышно? – прошептал химик.
– Дом строили до революции. Поэтому в нем не стенки, а стены, – ответила мама.
– Разве до революции строили лучше? – попытался образумить ее старичок-химик.
– Я человек военный! – внезапно объявил зачем-то комкор.
– Значит, либо командующий, либо подчиняющийся?.. И то и другое – беспрекословно?! Но ведь ты был с Пашей в одной камере смертников. И понимаешь, что ему было бы легче… если б его тогда расстреляли. Хоть знал бы за что!
– Вы, стало быть, продолжаете считать, что сейчас могут, так сказать… ни за что? – Старичок-химик вновь штыкообразно заострил свое тельце.
– Но ведь он был далеко… Защитить на таком расстоянии?.. – впервые с виноватостью в голосе произнес комкор. – Ты представляешь себе, где это самое Приморье?
– «Чтобы с боем взять Приморье…» – возбужденно пропела мама. – Когда-то ты брал его с боем. А сейчас, думаю, не взял бы. Раньше бы доскакал на выручку, а теперь и на самолете не долетишь!
«Не хватает еще, чтобы она пропела: «Конная Буденного, дивизия, вперед!» – подумала я.
– Тогда я бился с недругами… с кровавыми недругами, – ответил комкор, забыв, вероятно, что недавно назвал врагами людей, подобных приморскому Павлу.
– Те, которые арестовали Пашу, тоже недруги. И тоже кровавые! Но, так сказать, «родные», свои…
Так вот почему я ни разу у нас этого Пашу-Павла не видела: он жил в Приморье.
Отец давно собирался вступить в разговор. Но со своей интеллигентностью никак не мог встрять, найти подходящее для этого место. Наконец, улучив паузу, он сказал:
– В такое время мы не должны конфликтовать. Надо быть вместе.
– Всем вместе? Или за исключением Паши? – внезапно спросила мама.
Ее слова не сдавались, а голос ослаб.
– Пашу мы обязаны вызволить, – ответил отец.
– Давно ждала, когда ты это предложишь… О чудовищной ошибке, – если нападение на человеческую жизнь можно назвать ошибкой! – надо немедленно сообщить товарищу Сталину. Он ужаснется!
Нарком встал и направился в коридор, впервые не посоветовавшись с отцом. По дороге он тайно метнул в маму короткий взгляд, который не был прощальным, а был восторженно-изумленным. Тайну его я успела перехватить.
В ту же ночь арестовали старичка-химика. Когда он пришел от нас, его уже ждали… Об этом сообщил отец, потрясенно примчавшись днем из своего наркомата. Прежде он никогда днем оттуда не отлучался: нарком мог обходиться без разных управлений и трестов, но без «мозгового треста» не мог.
Мама уже вернулась из мединститута: в тот день у нее была всего одна лекция.
Отец, не отрывая глаз от того стула, на котором вчера сидел старичок, рассказал, что в наркомат приходил следователь («галантный такой молодой человек с длинными восковыми пальцами») и два часа допытывался, что у нас накануне говорил старичок. Оказывается, он собирался использовать свою химическую науку, чтобы отравлять озера и реки.
– Академиком ему стать не придется… – прошептал отец.
– Если и от него мы отступимся! – ответила мама.
Она недолюбливала заброшенного родственника, но сейчас его забросили чересчур далеко. К тому же она не умела идти на попятную, как отец не умел забывать свои «святые долги». Так они и стояли друг перед другом посреди комнаты, не зная, как совместить эти тяжкие неумения с навалившимся на них временем.
– Пойди поиграй с Ларисой, – попросил отец почти таким же тоном, каким мама просила меня отправиться спать перед вчерашним ночным конфликтом.
Я подчинилась мгновенно, без капризов и хныканья. Было стыдно хныкать на фоне того, что произошло со старичком-химиком и с незнакомым мне человеком из Приморья, сидевшим до революции в камере смертников и в такой же камере сидевшим теперь, после революций, за которую он сражался. Однако внешне выполнив желание родителей, я его тут же нарушила, уже привычно прильнув ухом к двери.
– Надо сегодня же послать письмо. И написать о двух людях, за которых мы ручаемся, – не предложила, а потребовала мама. – Эти люди не одинаковы. Даже очень неодинаковы… Но одинакова причина беды. И с ней должно быть покончено! Обвинять их в измене? И не женам, не детям, а государству?.. Товарищ Сталин ужаснется!
Мама второй раз употребила этот глагол – дерзкий для того времени: величие не могло быть ужасающимся, содрогающимся. Величие могло быть только величием.
– Я подпишусь один, – спокойно произнес отец, взглянув на маму в упор глазами, с которыми нельзя было не соглашаться, если они того хотели.
– Почему?.. – по-вчерашнему неожиданно обессилев, спросила мама.
– Зачем же две подписи от одной семьи? Дай-ка бумагу… Может, еще Танюшу с Ларисой пригласить подписаться?
Отец объединил меня с куклой, что делал иногда и что было мне неприятно. Но в тот раз обида не кольнула меня: обижаться было нелепо.
– Одного я тебя не оставлю! – сказала мама.
– Где?
– Нигде… И на этой бумаге тоже.
– Две подписи от одной семьи?
– А нарком с комкором? – упрямо не желая оставлять отца в одиночестве, спросила мама.
– Они… я думаю, не подпишутся, – врастяжку ответил отец.
– Почему? Товарищ Сталин оценит их честность!
– Но письмо до него может и не дойти. А если прочтет этот… галантный с длинными восковыми пальцами, который сегодня высасывал из меня…
– Какое право он имел допрашивать замнаркома?
Отец уже понял что-то такое, чего мама не понимала. «Почему же он не объяснит ей? Почему?!» – трепыхалась я возле дверной щели. Мне было страшно оттого, что отец подпишет и пошлет письмо, которое может дойти до «галантного с длинными пальцами».
Что такое «галантный», я не знала, но догадалась, что понятие это сродни слову «галантерея».
– Тогда подпишем вдвоем! – вновь обрела мама стойкость.
– Танюшу пожалей, – тихо попросил отец, уже не объединяя меня с Ларисой.
Внешне нарком и комкор выглядели совершенными антиподами: военный был типично военным, а штатский – типично штатским.
Одергивая под поясом высококачественную гимнастерку, комкор, наверное, бессознательно подчеркивал свою подтянутость и моложавую стройность. Он был прямым, как приказ. А обветренно-сухощавое лицо и седая охапка волос на голове напоминали о том, что он твердым, негнущимся шагом явился к нам из боев и походов.
– Прежде он не был таким «типичным», – без осуждения, но с грустью сказал как-то отец. – А потом насмотрелся фильмов, спектаклей про себя самого – и стал подражать актерам, исполняющим его роль. Но в сабельную атаку кинется по первому зову.
Это отец сказал, когда мне было лет шесть. Но я запомнила… А в одиннадцать с половиной подумала, что атаки бывают разные. И что в одни из них комкор кинется не колеблясь, а в другие – навряд ли.
Расслаблялся он только у нас на диване с гитарой в руках. В нем появлялось нечто раздольно-гусарское. И с неожиданными для него лиричными интонациями он пел про любовь. Не про ту, что закаляется в пекле сражений, побеждая разлуки, а про чужую и, безусловно, неведомую ему, заставлявшую кого-то страдать и даже погибать в тиши и при полном материальном благополучии. Он действительно вынес невыносимое и за гитарой хотел забыться.
– Битый-перебитый человек, – сказал отец в разгар спора о подписях под тем самым, как оказалось, даже для меня опасным, письмом. – А битые не хотят, чтобы их снова били. Второй раз в камеру смертников? Нам неведомо, что это такое. А ему ведомо!..
Нарком не был бит-перебит, но выглядел куда более истерзанным, чем все испытавший комкор. Рыхлое нездоровье как-то органично сочеталось в нем с никогда не ослабевавшей напряженностью. Она была в мыслях, в четко немногословных фразах и отредактированных движениях. Он не принадлежал ничему, кроме дела. Громада ответственности еще не успела раздавить его, с почестями отправить на привилегированное кладбище, но давила на него непрестанно. Он искал и находил спасение в нашей семье: отцовский «мозговой трест», тоже испытывавший повышенное давление, и мамина несказанная женственность были теми подпорками, которые, по моему представлению, не давали громаде обрушиться и уничтожить его. Нарком слыл выдающимся строителем и однажды доверительно сообщил маме, что «научился строить все, кроме личного счастья». Грусть его тоже была не рядовой, а по-наркомовски значительной, осененной грифом «Совершенно секретно». Но я, как всегда, не теряла бдительности – и грусть была рассекречена.
Сталина нарком называл и считал «хозяином», но хозяином беспредельно любимым, надрывавшимся от работы гораздо больше, чем он. Хотя больше уж было некуда! «Хозяин» вдохновлял его, дарил ему способность все вынести. Единственное, чего он не ждал от «хозяина», это пощады в случае ошибки или малейшего промаха. Он считал такую беспощадность справедливой, оправданной. Он верил «хозяину» больше, чем моему отцу, без которого не мог обходиться… И даже, чем маме, не только во внешние достоинства которой (я это видела!) был влюблен. Нарком не обладал такими достоинствами, и он им изумлялся – то восхищенно, то, мне казалось, завидуя, но всегда осмотрительно. Даже когда возражал маме. Впрочем, и сама мама никому не верила так, как наркомовскому «хозяину». Она не произносила слово «хозяин», но могла бы, я думаю, произнести слово «властитель» – дум и надежд.
Нарком сутками стремился к одному и тому же: сделать так, чтобы «хозяин» не имел претензий и был полностью удовлетворен. Это значило для наркома, что им полностью удовлетворен народ, удовлетворена Родина.
И комкор думал так. Сталин, народ, Родина – для него это было одно и то же. Как для наркома… И как для мамы… Об отце я этого сказать не могла.
– Хозяин? – произнес он как-то. – Интересно, нравится ли ему самому такое… прозвище?
– Прозвища бывают у школьников! – возразила мама.
Она боролась с моим тщеславием, с моим стремлением казаться выше, чем я была. «Длиннее, – заступился как-то отец. – Еще Наполеон подчеркивал разницу между понятиями «длиннее» и «выше». Мама терпеть не могла тиранства и самовластия, когда речь шла о людях. Но его (его одного!) она в людях не числила. Он, по ее убеждению, не мог подчиняться земным законам. И его можно было называть так, как никого другого называть было нельзя.
В глубь споров своих родителей я проникла только сейчас. Но осознание это, как здание из кирпичей или блоков, сложилось из детских воспоминаний. Я не помню многих мелочей и событий, происшедших совсем недавно, но все, что происходило тогда, не замутняясь, остается со мной. То ли мозг был до примитивности здоровым, не тронутым даже приметами склеротических изменений? То ли сами первые впечатления обладают здоровьем и долголетием? А может, и то и другое?








