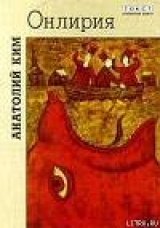
Текст книги "Онлирия"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
ОРФЕУС
Орфеус и Надежда встретились в Геттингене, где он выступал на сольном концерте в университете, и на том выступлении была она, которую после, на вечернем приеме, подвел к нему сияющий профессор Рю, представил и сказал:
“Она тоже считает, что тебе предстоит великое будущее”.
И через год, когда все страшное уже произошло и он ослеп после взрыва на военных учениях, Орфеус услышал ее голос по телефону. Я приехала в Корею, меня пригласил доктор Рю, чтобы я преподавала в вашем университете хоровое дирижирование, – это замечательно, ответил он вежливо, я уже слышал об этом… Профессор Рю, я полагаю, сделал очень важный шаг для укрепления дирижерского класса у нас… у них в университете, поправился он. Спасибо, вы очень любезны, поблагодарила она радостным голосом и вдруг спросила: не могли бы мы встретиться? Нет, ответил он сразу же без раздумья, но чтобы не обидеть ее явной грубостью, мягко добавил: если вы хотите, можете мне звонить по телефону в любое время.
Несколько месяцев продолжались их ежедневные телефонные разговоры, которые вначале тяготили его, отвлекая от Путешествия, но постепенно стали даже чем-то необходимым, вроде некоего необременительного багажа, без которого путешественник уже не может обойтись. Это напоминание о прошлом, которым поверяется настоящее, – оно накладывается на прошлое, как прозрачный лист кальки на такой же. И хотя при наложении прозрачного на прозрачное ничего нового не проявляется, путешественник бывает удовлетворен хотя бы и тем, что положил новый лист на старый, услышав при этом негромкий хрустящий звук.
Там, в невидимом прошлом, остались чьи-то голоса и лики – отображение в зеркале ванной комнаты, струйка сигаретного дыма, как седые женские волосы,
Елисейские поля в Париже после полуночи…
Оказалось, что Путешествие продолжается и после того, как ты лишаешься зрения, и даже впечатление от него большее, чем раньше: сосредоточившись в мутной темноте, начинаешь явственнее чувствовать проходящее пространство, которое ты раньше воспринимал как проходящее время – и грустил об этом!
Орфеус, сегодня было первое исполнение “Kyrie” и “Gloria” из мессы Моцарта, я дирижировала – звучало из этого прошлого, на что он рассеянно отвечал из своего настоящего: а что это такое? И она слегка обиделась: ты не хочешь порадоваться за меня? Ведь я очень счастлива, хор пел просто замечательно; я рад за тебя, ответил он с трудом, хотя Моцарту, наверное, это глубоко безразлично. Но почему? Почему Моцарту должно быть безразлично? Потому, сказал он спокойно, что Моцарт работает теперь над сочинением “Реквиема”. А разве одно другому мешает?! – удивленно воскликнула она. Как бы тебе сказать… Мешает ли путешественнику, летящему в самолете на Гавайи, прошлый кинофестиваль в Каннах? Нет, конечно, не мешает, но путешественник, дорогая моя, больше всего хочет, чтобы самолет скорее приземлился в Гонолулу, и
Каннский фестиваль ему сейчас и на самом деле ни к чему.
Орфеус, где ты? И почему не разрешаешь мне встретиться с тобой? Наверное, я у себя дома, и я только что закончил “Реквием”. Это великое сочинение, милая
Надя, и я очень устал, работая над ним. Бога со мной нет, моя дорогая, Его я тоже сочинил, как сочинил и все другие части мессы: “Sanctus”… “Agnus
Dei”; а вот “Requiem” – это настоящее, это не музыка, а рассказ о самом себе и о своем Путешествии… Христа тоже нет? Иисус Христос есть или нет? – было произнесено негромко, спокойно, на что Орфеус ответил столь же спокойно:
Христос, как каждый из нас, – путешественник, Он жил и умер. Но ведь Он воскрес, Орфеус? Да, воскрес, чтобы, как и каждый из нас, отправиться в
Путешествие. И также Бога не было с Ним, когда Он умирал на кресте.
Странно, что она заговорила о Христе как раз в то время, когда ослепший певец решил последовать за Ним в Путешествие… Стало ему наконец совершенно ясно, что явление Христа для народов человеческих есть не учение (во что превратили Его Слово книжники и фарисеи), а пример, которому каждый, узнавший Его, волен следовать или не следовать. Орфеус задавал себе те вопросы, на которые мог отвечать только искренно. Можешь ли ты полюбить другого человека – такого же, умирающего, – как самого себя? Нет, отвечал
Орфеус, не могу, потому что я тоже человек умирающий и для меня моя смерть гораздо значительнее, чем смерть ближнего. Но для всех нас Его великое учение в том, чту Он сказал, умирая на кресте, висевшему рядом разбойнику.
Убедительность примера еще и в том, что названо Его Преображением: человеческое обличье, плен телесный и то малое передвигающееся пространство, в которое заключен дух человеческий, вдруг предстает в другой природе, сохраняя свою видимость. Одежды засияли неимоверной белизной, лицо обрело то совершенство красоты, о котором мечтают люди, и в глазах ярче звезд, сиятельнее солнца засветился огонь высшего разума. И такой преображенный
Учитель, представший перед учениками – Мессия, – явился мелюзге человеческой, растерянной и оробевшей, чтобы показать им, на что каждый из них может быть похожим.
Но главным примером Орфеус считал Его Воскресение, восчресление тела после казни, и возможное только по свершении этого – Вознесение в небеса. То было началом Путешествия Христа, куда Он отправился, провожаемый горсткой учеников. Голубое небо с белыми облаками было таможенным барьером, за которым скрылся отлетающий Учитель.
И можно сколько угодно теперь ждать Его возвращения, сидя на земле и глядя в небо, – но чего же ждать, от тоски и нетерпения творя всякое беззаконие и заваливая землю нечистотами и мусором отходов своего алчного существования?
Ведь Христос ушел в Свое Путешествие один, никого не взял с собою – видимо, единственный у Него был билет на тот звездолет, всего один на нашу Землю билет, и Он в одиночестве, налегке, безо всякого даже маленького багажа в руке отбыл, вознесся на прозрачном лифте за облака, в стратосферу, где находилось место посадки на звездолет.
Когда я ослеп и перестал видеть мир, звезды и солнце – я перестал видеть жизнь. И я не вижу больше Бога. Передо мной постоянно стоит тьма, а это и есть царство смерти, где нет никакого чувства, движения или устройства. Но есть Христос, моя дорогая, Он всегда с нами, в нас, как зов крови в теле нашего одиночества. И я хочу уйти в те пределы, где звучат сейчас шаги его узких изящных ног, я отправлюсь в то же Путешествие, что и Он, надеясь когда-нибудь и где-нибудь увидеть Его хотя бы на миг, хотя бы со спины – уходящим от меня и недостижимым.
Но ты же сам сказал, Орфеус, что Он ушел один, никого не взял с собою…
Значит, там, куда Он ушел, никто из нас Ему не нужен? Зачем же ты пойдешь туда, куда тебя не звали? Ты больше не видишь Бога – а ведь Христос ушел к
Нему, Своему Отцу, и находится сейчас там. Ты же хочешь войти в Дом, хозяин которого тебя не звал, – прилично ли это, Орфеус?
На это он ответил: я не думаю сейчас о приличиях. С тех пор как взрывом вышибло мне глаза, я перестал отличать приличное от неприличного, и это меня больше не беспокоит. Я озабочен только одним: если существует Дом, тот самый
Дом, о котором ты говоришь, то после смерти своей я хотел бы увидеть его, хотя бы издали. И если будет на то дозволение, я обязательно хотел бы подойти и постучать в дверь, прилично это или неприлично. Все дело в том, моя дорогая Надежда, что слишком велико для меня и непонятно то, что называется Домом Божиим. Так же как и вся вселенная, он столь огромен, что даже нет таких чувств во мне, чтобы это представить, и нет свойств ума, чтобы это предопределить. Но все это стало далеким и чуждым мне с тех пор, как я потерял глаза. Один только Христос остался у меня, к Нему я хочу: постучаться в дверь Дома и спросить, здесь ли Он – и по-прежнему ли похож на
Сына Человеческого?
Почему ты думаешь, что для человека, обыкновенного человека, возможно такое
Путешествие? Потому, что любой человек способен заплатить за билет тою же ценою, что и Он. Смертью? Да, смертью. Но как же воскресение, Орфеус, ведь надо воскреснуть, как Он, чтобы отправиться в Путешествие, а чем же за это платить? Думаю, за воскресение не надо платить. За это уже заплачено.
Не надо было платить за восчресление, за возвращение Лазаря из гроба снова в свой дом, где ему предстояло когда-нибудь умереть еще раз. А за воскресение всех людей в Царстве Христа уже заплачено. Была единственная возможность вернуть всех умерших из смерти – заплатив за это равноценной жизнью. Этой возможностью воспользовался Он, Сын Человеческий, однажды приходивший на землю, а потом, воскреснув, живым ушедший на небо при свидетельстве Своих учеников.
Когда на моем лице еще были зрячими глаза, они имели, как и у всех людей
Востока, черный цвет. Мы люди ночи, и это она проглядывает сквозь наши глаза: наш внутренний дом – бескрайняя ночная мгла, где звезды и луна освещают путь, являют путникам пределы мирового пространства. Все, что мы обрели, восприняли и объяснили, найдено в бархатной тьме ночных пограничий, и все, что сделано нами, сотворено в наших домах при искусственном свете.
Поэтому и мысль ночная у нас столь огромна в своей далекой непроглядной размытости, а изделия рук человеческих столь скрупулезно исследованы в своих самых мельчайших частях, крупицах и извивах.
У тебя же глаза голубые – у вас, людей Запада, глаза синие, серые, янтарно-прозрачные: все краски ясного дня. И ваш внутренний дом – это светозарный день от восхода до заката, окошечки ваших глаз пропускают сквозь себя все оттенки неба, меняющегося много раз на дню. Солнце освещает ваши пути, и в его лучах открываются вам пределы мира, очерченные ясно видимой линией горизонта.
И у Него глаза были прозрачно-голубыми, но брови и ресницы темными – в обрамлении черной размытости ресниц голубые очи и светлый лик в разделенном надвое водопаде ночных волос. Я увидел Его таким – Он является перед нами, когда нам становится совершенно невмоготу… У Него были мягкие усы и небольшая молодая борода, уста Его были сияющими, нежными, чистыми, словно край небес в предвестии наступающего утра. Это был Человек красивый, то, что сразу же познается нашим сердцем как Божественное. И у Него были голубыми глаза, как у тебя, наверное, но волосы – темными, как у меня, потому что на них пошла самая древняя краска созидания человеческого – цвета бескрайней
Ночи.
Итак, Он был похож и на тебя и на меня, хотя Германия и Корея (тем более!) оказались далеки от того летящего во вселенной пространства, по которому пробирался Он, окруженный учениками, – и ведь среди них не было корейца, не было и германца.
Но я ведь, Орфеус, не германка, ты не знал этого и не мог знать, я русская, и Россия мне родина – и все же ты прав в том, что я тоже похожа на Него, ведь я все время смутно чувствовала, что у меня сходство не с моими отцом и матерью, а с кем-то другим, не имеющим к крови моей никакого отношения.
Да, Надежда, Надя (русская, – вот откуда у тебя такое имя!), Он похож на всех нас, кому открылась музыка, на всех тех, кто мог в своей жизни прочитать партитуру Моцарта или дирижировать хором при исполнении мессы in
C-dur (KV 258). Твоя душа пробудилась от русского Слова, моя – от корейского, но мы сейчас говорим с тобою на немецком языке, и это благодаря тому, что Им создана христианская музыка с ее небесной гармонией. Властью ее каждый из нас был освобожден из тысячелетнего плена крови, от вечного узилища нации, от семейного рабства родного языка. Именно Он является тем
Композитором, который в разные времена носил прославленные имена: Бах,
Гендель, Моцарт. Через музыку Христос стал понятней всем людям земли в своей небесной сущности. Христианская музыка сделала всех нас, знающих ее, единым народом христолюбивых детей.
Орфеус, Орфеус, эта музыка и меня привела к нашей встрече, я услышала однажды твой голос и с тех пор не могла забыть его, я и в Корею поехала, чтобы снова услышать, как ты поешь. В твоем голосе звучит то, чего нет ни у кого из всех, кого я слышала, – в твоем голосе нет ничего привычно человеческого, если не считать, конечно, редкостного его тембра, силы и при этом – замечательной полетности; и прекрасная вокальная школа – все это есть, есть, но помимо этого, сверх этого царит в твоем голосе власть другого мира. И для меня это стало не только примером прекрасного воплощения бельканто в корейском варианте – нет, выходя за пределы и Запада и Востока, твое пение, Орфеус, устремлено в непостижимом порыве куда-то в неизвестное нам и ностальгическое, словно потерянный рай. И хотя я думаю, что ты, в сущности, никогда и не пел для людей – голос твой их зовет, тревожит и манит туда, куда он сам летит, одинокий и безоглядный. Я поняла, что ты поешь не просто как незаурядный певец, не как молодой тенор с выдающимися способностями – в твоем пении я ощутила некое Учение. И теперь, когда мы с тобой так много и хорошо говорили о нашем Спасителе, я поняла, что то нечеловеческое, звучащее в твоем голосе, это и есть Учение о Преображении.
Твой голос звал меня, милый Орфеус, к тому, что находится за пределами нашей жизни.
Я не могла уже просто быть, радоваться свободе независимого женского существования, чего всегда хотела и что обрела наконец, уехав из России в
Германию. Нет, я хотела теперь слышать твой голос, Орфеус, мне он снился во сне, а однажды в обеденный перерыв в университете, сидя за столиком в ресторанчике с коллегами-профессорами, я столь явственно услышала его, что даже вскрикнула, как от боли, и закрыла лицо руками. Друзья встревожились и стали спрашивать, что со мною, и я пролепетала им что-то о внезапной головной боли с отдачею в виски, хотя и не знала никогда в жизни, что такое головная боль. И мне стало понятно, Орфеус, что вовсе не главное для меня моя женская независимость, моя работа и мой свободный полет. Мне тридцать два года, в прошлом я дважды была замужем. Я разошлась с мужьями, потому что каждый раз не представляла себе одного: как мы сможем вместе прожить эту жизнь… Осмеливалась ли я после этого думать, что когда-нибудь полюблю – не мужчину, не просто человека, а прежде всего его Голос? Я думала, что уже все знаю о любви и нелюбви, но оказалось, что я почти ничего не знаю об этом.
Оказывается, любовь женщины – вовсе не желание принадлежать кому-то, быть с кем-то, против такой любви восставала вся моя душа. Но любовь женщины,
Орфеус, это желание все же принадлежать – только не кому-то, а чему-то.
Или это потому, что я русская? “Что-то слышится родное”… “Я не знаю, что такое вдруг случилося со мной” – так поется в наших старинных песнях. Я, женщина, первою призналась в любви, Орфеус, – о, такое у нас в России бывало. Тебе двадцать пять лет, я на семь лет старше тебя, я по происхождению русская дворянка, ты знатный и богатый корейский юноша – и я признаюсь тебе на немецком языке: Ich liebe dich, Orfeus! Благословенна немецкая музыка, любовь к которой и привела нас к этому языку, на котором сочинены тексты месс Баха и Моцарта. Чтобы петь арии так, как это звучит в оригинале, ты специально ведь и выучил немецкий.
Итак, мы с тобой разговариваем на немецком языке, и ты не знаешь моего русского, и я не понимаю твоего корейского. Но у нас есть язык, который возник в мире, наверное, раньше всякого словесного языка. Наверное, до Слова была Музыка. В начале была Музыка, и эта Музыка была в Боге, и Музыка эта была – Бог. Мы с тобою, любимый мой, общаемся на языке Музыки.
Я люблю тебя так, что в этой жизни и во всякой другой, если она будет, должна быть всегда с тобою. Допустим, нам предстоит еще много перерождений или настанет всеобщее обязательное Воскресение в Царстве Божьем – о, я не знаю, не знаю! – а может быть, у нас ничего нет, кроме этой единственной жизни, в которой мы находимся. Но, во всяком случае, я всегда хочу жить вместе с тобой, рядом с тобой – будь это всего одна жизнь, множество странных жизней или нескончаемая весна райских дней.
Ты понимаешь, Орфеус, я раньше хотела смерти, которая от всего бы меня избавила, а теперь я эту смерть ненавижу, потому что она может когда-нибудь нас разлучить. Я боюсь даже подумать о том, что когда-нибудь прервется наше с тобою общение на языке Музыки. И если даже ты после своей беды никогда, никогда больше не сможешь петь – я все равно буду слышать твое пение, всегда буду слышать. И здесь, среди людей, я останусь единственной, может быть, кто будет помнить твой исчезнувший голос.
Так, как я люблю Орфеуса, любил меня, быть может, мой первый муж – но почему, но за что? этого я так и не поняла. Он давно умер, Евгений, бедный.
Она ушла, захватив с собою всю многочисленную семейку своих личных вещей, ничего не забыв, – хотя и, полагаю, без сопровождения голубых домашних босоножек, которые я откуда-то привез ей в подарок. Я их видел, кажется, вплоть до того дня, когда ко мне явился усатый Келим и протянул запечатанную в пластиковый пакетик орхидею. А те несколько дней и ночей, что отсутствовала жена и о которых она не захотела давать мне объяснений, явились для меня и для ее вещей, остававшихся дома, временем абсолютно бессмысленного существования. Ибо им – ее платьям, блузкам, колготкам, трусикам, джинсам, шортам, носочкам – и мне, ее незадачливому мужу, от которого она уходила, – нам невозможно было исполнить свое предназначение.
Ведь мы существовали только тогда, когда могли холить и лелеять ее нежное тело, ласкать эти ноги в золотистом пуху, льнуть к ним, любить великолепие ее лона, вновь и вновь приникать к нему ради утоления неимоверной жажды, в которой столько же печали, сколько и в знании нечеловеческом.
ЕВГЕНИЙ БЕДНЫЙ
Это было очень и очень странно, неисповедимо: смотреть на улицу через окно квартиры в светящийся листвою деревьев летний день, а самому находиться в своем сыром, наполненном скользкими внутренностями теле и видеть через моргающие люки глаз колеблемую ветром листву на тополях и прыгающих по веткам воробьев. Тот сырой мешок тела, в котором я обретался, был безнадежно плох, как и все прочие подобные мешки на свете, – способен был, того и гляди, в любой момент порваться, и его содержимое могло вывалиться в прореху… Я постепенно до конца постигал все уязвимое несовершенство своего обиталища, всю жалкую, безнадежную его устремленность к какому-то счастью, блаженству…
Моей жены четыре дня не было дома, ночевала неизвестно где, а я ждал ее, выглядывая из своего телесного мешка, со всех сторон окруженный влажной парной тканью мяса, находясь вблизи дерьма своего и внутри потока собственной алой крови – пленник тщеты своей и беспомощный раб собственных вожделений.
…На пятый день я вышел из своего тела и, прежде чем покинуть его, внимательно посмотрел сверху на то, что лежало небольшой кучкой на полу под окном, возле радиатора водяного отопления. Мое тельце, бедный мой вонючий мешок, валялось, откинув руку, в которой была зажата орхидея… Этим днем жена наконец появилась дома, но всего на час – чтобы собрать в чемодан свои вещи. Когда она вновь ушла, так и не соизволив ответить ни на один из моих вопросов, я опустился на пол там, где стоял, и вытянулся, лежа на спине. Тут и появился усатый Келим, держа в руке прозрачную пластиковую коробочку с запечатанной в ней орхидеей. Он снял с головы огромную кепку, какую любят носить пожилые кавказцы, положил ее на стол рядом с цветком и уселся в кресло.
– Жизнь твоя здесь, в этом мире, закончилась, – сказал он, со скучающим видом осматривая мою ужасную комнату. – Я пришел, чтобы переселить тебя в другой мир.
– А далеко ли это отсюда? – спросил я. – Сколько километров примерно?
– Нет, так нельзя считать, дорогой, – был ответ, – километры тут ни при чем.
Другой мир находится здесь, – и он обвел рукою вокруг себя, – но просто он другой и не касается этого.
– А какой он? Можно его представить, пока я еще не умер?
– Почему же нельзя… Можно. Это как слова… Об этом было уже сказано: в начале было слово.
– Но почему мне так страшно, Келим? – далее спрашивал я. – И этот сырой мешок, в котором я нахожусь, – почему его так жалко?
– Потому что в другом мире, куда тебе предстоит переселиться, мой дорогой, ты никого не сможешь любить. Там нет любви. Одни только слова…
– Но ведь никакой разницы, Келим! – вскричал я. – Помилуй! В этой жизни все почти то же самое! Здесь тоже каждый из нас всего лишь какое-нибудь пустое, ничего не значащее слово. Однажды лишь прозвучит – а далее тишина…
– Нет, – отвечал Келим, – не совсем то же самое. Пустота мира, которую ты ощущаешь здесь, это еще не сама пустота, а всего лишь предварительное место заключения пустоты. За нею последует нечто гораздо более великое. Отсюда и твой ужас перед ним.
– Значит ли это, что любовь, от которой я сейчас умираю, отсутствует там, в этой великой пустоте?
– Я уже сказал… Нет ее там, потому что нет сырых тел, нет другого вещества, кроме слова. И нет женской красоты, рождающей мужскую любовь, – также и наоборот.
– Значит, ты обещаешь мир, в котором больше не будет любви?
– Не будет.
– Что надо сделать, чтобы скорее оказаться там?
– Возьми орхидею, – сказал усатый Келим и протянул мне цветок. – Бери-бери, дэнги нэ нада, – произнес он, пародируя кавказский акцент.
И как только я принял от Келима пластиковую коробочку с орхидеей, во мне началось движение, которое постепенно освобождало меня от скованности жизнью. Это движение, превратившееся в чувство, делало меня летающим и бестелесным, оставляющим навсегда все беспомощные тревоги прежнего бытия. И я с жалостью и скорбью в последний раз оглянулся на бедное тело, лежавшее на полу; в откинутой руке моей тускло блестела прозрачная коробочка с лилово-белым цветком внутри.
И вот упоение небес и восторг земли, не знающих справедливости, сочетающих прозрачную голубизну и тяжелую твердь в едином мироволении! Освобожденная от бренных узилищ, душа моя еще не ведает своих новых возможностей, и ей открыта лишь безмерная, лучезарная устремленность к нескончаемому полету.
Еще мгновение – и я навечно забуду все то, что было со мною в отошедшей жизни. Миллионы цветочных сияющих ликов, каждый из которых – слово, также состоящее из слов-лепестков, и слов-тычинок, и слов – золотистых пылинок, все они ждут моего слияния с ними и полного забвения земной жизни и несчастной моей любви.
Но Боже мой, Боже мой! Смилуйся! Еще раз – дай еще раз вернуться назад и в полете, в кружении над обиталищем моих страданий дай снова осмотреть печальное поле битвы, которую я проиграл. Я хочу вновь увидеть все подробности этого проигранного сражения, но не снизу, из праха, на уровне задавленного колесом и затоптанного ногами солдата, – нет, нет! Я хочу увидеть все это с высоты пролетающих над полем ангелов, с прозрачных вершин воздушных холмов, на которых величественно восседают, словно исполинские полуденные облака, полководцы и начальники небесного воинства – Серафимы,
Власти и Престолы вышнего мира.
Теперь мне можно: я вижу все по-другому, нежели раньше, когда жил и страдал; теперь не исказится моя душа мукой и ненавистью обманутого зверя, которого соблазнили приманкой и поймали в стальной капкан. Мою жену звали Надеждой, а меня Евгением, мы жили в мире русских слов, из которых самым последним, произнесенным мною, было слово “прощай”. Это же слово произнесла и Надежда уходя, так что оно прозвучало в самом конце моей жизни дважды:
– Прощай.
– Прощай.
Ну и хорошо, ну и ладно, простили меня, и я простил. Мое тело нашли уже совершенно разложившимся, но цветок орхидеи, сжимаемый мертвой рукою, был все еще живым. Его отложили на подоконник, в нем бродили соки и силы, относящиеся к той жизни, которая – вся – была уже для меня потусторонней.
Но, заключенный внутри прозрачной коробки, цветок этот удивительно напоминал меня самого, который жил там, в мире русских слов, питаемый ими. Так отрезанная головка орхидеи питалась каплями желтоватой жидкости из баллончика, в который был погружен ее отсеченный шейный стебелек.
С подоконника орхидею забрал следователь районной прокуратуры, молодой и бедный раб той государственной системы, которую установил князь в этой стране. Следователю необходимо было выяснить, какое отношение имеет цветок к моей смерти: не ядовитое ли вещество и отравление вызвали ее? И если это подтвердится, то надо было определить, имеет ли место насильственное воздействие, то есть покушение. А может, налицо было явление бытового самоубийства на почве супружеской неверности? Результат вызванного изменой жены неудержимого отвращения к жизни?
Лабораторное исследование жидкости, питающей головку орхидеи через круглую ранку стебля, показало абсолютную ее безвредность. Следователь послал запрос в центральный цветочный магазин Москвы на Новом Арбате, где обычно продавали орхидеи, и получил ответ: партию таких цветов недавно поставил грузинский оптовик Келим Рустамов… За время этого выяснения цветок ничуть не увял, имел все тот же противоестественный вид девственной свежести и какой-то неимоверно соблазнительной порочной красоты, так что следователь Нашивочкин счел возможным вновь запечатать орхидею в прозрачную коробочку и подарить ее замужней женщине из протокольного отдела, к которой служитель прокуратуры имел сильнейшее влечение.
Та прекрасно знала об этом, даме было приятно ощущение своей власти над человеком, который был почти вдвое моложе ее, но она, будучи верна мужу, и помыслить не могла поощрять Нашивочкина или, паче чаяния, хоть когда-нибудь отдаться ему. Однако орхидею с удовольствием приняла и даже отнесла домой, засунула коробочку в кухонный шкаф, чтобы муж не заприметил и сглупа не заревновал… В ту же ночь орхидея умерла, наутро Валентина Сергеевна из протокольного отдела обнаружила ее опавший и сморщенный трупик в пластиковом гробу – и с непонятной для самой себя сильнейшей враждебностью к Нашивочкину и с гадливым чувством к останкам орхидеи выбросила коробочку в мусоропровод.
В дальнейшем безжизненные ошметки экзотического цветка отправились в бункере громадного мусоровоза, придавленные горой бытового мусора, на кладбище вещей, на грандиозную городскую свалку № 1. Черные и светлые дымы лохматыми хвостами подымались к небу – горели сжигаемые в кострах и печах останки предметов, созданных волею человека, творца многих вещей. Но совершенно ясно было при взгляде на эти легковесные дымы, что никакому огню не совладать с таким количеством безобразных трупов человеческого имущества…
Я рассказал о финале судьбы орхидеи, которая, даровав мне смерть, сама тоже отправилась на кладбище – и через это стало доказательным полное наше предметное равенство в существующей системе вещей: в этом мире, где звезды, люди и башмаки рождаются, чтобы одинаковым образом исчезнуть.
Итак, в начале было слово, и это слово было во мне, и это слово было “я”.
Русское слово – и вокруг все слова русские, и я уже не в одиночестве. Я иду по розовой глиняной тропинке, которая переходит с одного плавного бугра на другой, иногда теряется из виду – когда западает в невидимый с моего места склон, – однако на подъеме следующего бугра бодро устремляется дальше, огибая справа или слева вершину или напрямую отважно перемахивая через нее.
И однажды, когда я находился как раз на таком вершинном участке тропы, увидел вдали, за вторым бугром – на третьем отрезке прерывистой в моих глазах дорожки, – идущую навстречу мне женскую фигуру в светлом…
Я – слово, и рядом со мною другие слова, и все вместе мы составим сейчас картину рая на земле. Этот рай расположен на пространных пологих холмах срединной России, в пойме широкой и прихотливо излучистой реки Оки.
Заливаемая полой водою весеннего разлива, эта раскатистая приречная долина летом представляет собой пестрый луг цветущего разнотравья. Я шел по райским холмам, всей грудью вдыхая воздух Бога моего, и увидел вдали на склоне отлогого холма идущую навстречу мне женщину во всем белом.
Слова, которыми я был окружен, разъяснили мне, что река Ока, распространившая свои змеистые извивы по всей Среднерусской возвышенности, и на самом деле была когда-то змеею – тем самым змеем-искусителем, который совратил Адама и Еву. Правда, существует мнение, что змей-то ни при чем: лукавый воспользовался им, как чревовещатель куклой: слова соблазнения произносил некто, а змей только пасть раскрывал. Теперь же змей библейский был сражен и сброшен наземь, превращенный в одну из самых красивейших рек земного рая. Краешек его блистающей чешуйчатой спины сверкал под солнцем как раз за третьим, дальним, лиловатым холмом, с вершины которого по едва заметной ниточке тропы спускалась женщина в белом, направляясь в мою сторону.
Пока она спускается с дальнего холма, исчезает за отлогим склоном второго, чтобы вскоре, очевидно, появиться из-за него и возникнуть на тропе – уже гораздо ближе ко мне и приближеннее к минуте нашей встречи.
Пока неотвратимо и неуклонно сближаются наши стучащие сердца, мы успеем сказать несколько слов о том, что раем стала не только Россия, но и вся планета целиком и люди на ней больше уже никогда не умирают. Я и все другие, которых теперь встречу на своих путях, – все мы впредь будем исполнять одно лишь предназначение: вечно ходить по земле в поисках тех, которые воскресли
– так же, как и мы, как и я – и оказались на преображенной земле. Мы будем искать и находить всех, кого жаждало иметь и любить наше сердце в прошлом несчастном нашем существовании.
И хотя Бог даст нам возможность летать, как и Своим Ангелам, мы, человеки, предпочтем ходить по земле пешком. Потому что некуда нам теперь спешить, да и незачем. Всех любимых, утраченных, мы все равно отыщем и крепко прижмем к своему сердцу. Неспешно путешествуя из страны в страну, мы будем наслаждаться этим видом творчества, этим дивным искусством: шествовать по путям нашего душевного влечения.
Поверхность земли, освобожденная от алчных земледельческих поползновений и всех видов скоростного транспорта, воняющего дыханием вельзевула, покрыта извилистыми пешеходными дорожками, узорчато-прихотливыми, тонкими линиями надежд. По ним можно было бы угадывать пути сердечных желаний всех преображенных людей на земле. Для одних были бы милы и привлекательны ровные долинные, для других – горные перевалы, террасы и проходы по извилистым крутосклонным каньонам, а некоторые предпочли бы лыжные пути через Северный или Южный полюс. Мне же нравится ходить по отлогим увалам и просторным равнинам срединной России.
А Божественный дар полета, врученный нам для нашей свободы, мы вовсе не отринули неблагодарно, но всегда использовали к месту, в меру и по необходимому случаю. Пошатнется усталый путник-горнопроходец где-нибудь на скальной закраине, где проходит дорога, и падет вниз – но не грянет на камни, потому что гибнуть ему нельзя, он бессмертен: автоматически включится в нем левитация. Еще бывает нужна она для переправы путешественника через реку или море, здесь без полета не обойтись. И на самых популярных трассах, где-нибудь над Ла-Маншем или Беринговым проливом, над Босфором или








