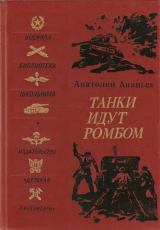
Текст книги "Танки идут ромбом (Роман)"
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В то время как Володин переживал торжественные минуты встречи с командующим фронтом, боец его взвода Саввушкин, которого считали погибшим и о котором во всех инстанциях уже было забыто, как забыто вообще о неудавшейся разведке (в разведку в эту ночь ходило несколько групп, и штаб дивизии получил нужные сведения о противнике), – Саввушкин брел по лесу с вытекшими глазами, не видя ни солнца, ни тропинки, ни деревьев, на которые то и дело натыкался, даже не чувствовал боли, а только слышал за спиной раскатистый, как пулеметная очередь, смех эсэсовцев. Немцы вели его в Тамаровку, но по дороге выкололи глаза и бросили одного в лесу. Так великодушно распорядился встретившийся генерал-полковник фон Шмидт. Генерал-полковник спешил к своим танковым дивизиям, подходившим к фронту, и потому был настроен оптимистически. Он сказал, что допрашивать сегодня пленного русского солдата нет никакой необходимости и что ничто уже не изменит ход событий. Германская армия готова к наступлению. На передний край будет обрушено столько огня – и с воздуха, и с земли, – что вряд ли потребуются скудные солдатские сведения о каком-либо орудии или доте; огонь сметет все: и орудие то, и дот.
Саввушкина не допрашивали; просто спросили, какого полка, – и все. Но может быть, как раз потому, что не допрашивали, не мучили, не пытали, неожиданная слепота так ошеломила его, что в первую минуту он даже не понял, что немцы с ним сделали. Было такое ощущение, будто его сильно ударили по глазам, и тьма, сразу плотной стеной ставшая вокруг, воспринималась не зримо, а как глухота от удара. Он прошел несколько шагов и упал, зажав лицо руками. Пальцы судорожно нащупали окровавленные провалы глазниц. Он попытался приподнять веки, снова ощупал пустые глазницы, и тогда его охватил панический ужас. «Убейте, гады! Лучше убейте!» – закричал он. Не физическая боль, которую Саввушкин сгоряча почти не почувствовал, а страх перед вечной слепотой, на которую он был теперь обречен, заставил закричать о смерти. Сразу, как вспышка, мелькнула в голове картина: в старой, прожженной солдатской шинельке идет он, сгорбленный, в темных очках, и прохожие сторонятся его, как когда-то сам он сторонился убогих слепых; потом – мать, ее лицо, дрогнувшие морщинки… Всем телом, каждой клеточкой запротестовал Саввушкин против такой судьбы: «Убейте, гады! Лучше убейте!» Но в него никто не стрелял, и он вскоре понял, что остался один. Он все еще зажимал ладонями пустые глазницы и громко, никого не стесняясь, стонал, теперь уже от острой, нарастающей ломоты в висках. Вместе с ощущением боли возвращались к нему жизнь, самообладание. Он разорвал нижнюю рубаху и обмотал ею лицо и голову; по булькающим звукам и, может быть, даже по запаху вышел к небольшой лесной запруде. Кажется, никогда он не пил с таким наслаждением воду, как в этот раз, ладонями черпая ее вместе с травой и лягушечьей зеленью. Вода освежила и приободрила его. Теперь можно было подумать, что делать дальше.
Утром, когда его вели, он видел массу вражеских танков и пехоту. Танки стояли всюду – в лощинах, на опушках, в лесу. Саввушкин старался запомнить, где они стоят, и даже несколько раз принимался считать их. Его поразило такое большое скопление немецких войск. А ведь там, в Соломках, ничего об этом не знали. Сообщить, обязательно сообщить нашим! Этой мыслью жил он все утро. Надеялся убежать, ждал, искал случая. И вот теперь, когда он был свободен и вполне мог двигаться, эта мысль снова овладела им. Она должна была вернуться, эта мысль: и потому, что так подсказывал солдатский долг, и еще потому, что сейчас, в эту минуту, ему хотелось самой страшной мести гитлеровцам. Он встал и пошел, подчиняясь инстинктивному желанию – идти, идти! В этом было его спасение – выберется из лесу, наткнется на какой-нибудь хутор, встретит старика или парнишку, скорее всего, парнишку, так представлялось Саввушкину, и парнишка отведет его к партизанам. Но партизан в прифронтовой полосе может и не быть вовсе. Он не подумал об этом, потому что хотелось верить в лучший исход. Человек всегда верит в спасительное чудо, когда ему тяжело! Шел Саввушкин сначала медленно, осторожно, подолгу обшаривая ногой землю, прежде чем ступить на нее. Наткнулся на сваленное бурей дерево и выломал себе палку. Теперь пошел бодрее, и мысли потекли спокойнее. Но лес все не кончался. Саввушкину казалось, что он прошел километров десять, но он не прошел и одного; босые ноги его были в ссадинах и кровоточили (второй сапог еще в траншее немцы сняли с него ради смеха), руки тоже были исцарапаны по самые локти, и весь он еле держался на ногах от усталости, но не садился, отдыхал стоя, прислоняясь к стволам деревьев.
«Дойти!..»
«Сообщить!..»

Саввушкин отталкивался и снова двигался вперед, напрягая внимание, чтобы не сбиться с прямой, чтобы не пойти по кругу. Он уже почти отчаялся выбраться из лесу, когда вдруг почувствовал, что вышел на опушку. Будто шире, свободней стало вокруг. Лесная сырость и тень, как тяжесть давившие на плечи, отступили. Солнце приятно обожгло щеки. В лицо пахнуло полем, степью, огородами. Он стоял и глотал сухой воздух. Теперь близко, теперь – где-то совсем рядом должен быть хутор, потому что уж очень пахнет огородной ботвой. Саввушкин всегда безошибочно улавливал этот запах жилья. Собравшись с силой, он шагнул вперед и вскоре очутился в зарослях подсолнуха. Он обрадовался подсолнухам, как может обрадоваться человек только собственному счастью, с лихорадочной поспешностью перебирал упругие и шершавые стебли, ощупывал листья, головки и нежно прижимался к ним щекой.
«Дошел!»
«Добрался!»
Так думал Саввушкин. Он отдыхал и наслаждался тем, что может отдыхать, что заслужил этот отдых. Над головой, над желтой шляпкой подсолнуха, кружил шмель, и жужжание его было таким мирным и успокаивающим, что Саввушкин улыбнулся. Теперь, когда он не мог видеть, он слушал и воспринимал день по звукам. Даже солнце, горячо припекавшее щеку и шею, казалось, имело свой особый, певучий голос.
Неожиданно, сначала будто совсем далеко, послышался потрескивающий рокот мотоцикла. Рокот приближался, и Саввушкин забеспокоился. За все время, пока он шел по лесу, ни разу не подумал о немцах. Они выкололи ему глаза и отпустили, зачем же он им слепой? Так, по крайней мере, считал он, и все же не хотелось попадаться на глаза мотоциклисту. Еще секунду стоял Саввушкин, прислушиваясь и по нарастанию рокота стараясь определить, где проходит дорога, может быть, совсем в стороне, и не нужно убегать, прятаться; еще выждал немного, прислушиваясь к глухим ударам сердца и нарастанию тревоги в груди; инстинкт самосохранения заставил его броситься глубже в подсолнухи, ломая стебли и листья. Он споткнулся и упал и в тот самый момент, когда падал, услышал позади резкую автоматную дробь. Пули хлестнули по ногам, по стеблям, по листьям. На мгновение к Саввушкину еще вернулось сознание, и он подумал, что как-то странно нарушилась звуковая гармония летнего дня, будто земля наклонилась, и все, что на ней было, покатилось по наклонной вниз, сшибаясь, разбиваясь и разбрызгивая искры…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Приезд командующего фронтом в Соломки майор Грива воспринял как то особое счастливое событие в армейской жизни, после которого обязательно должны последовать повышения.
Между прочим, повышения он ждал давно, с того дня, как Пашенцеву присвоили очередное звание – капитана. Гриву тогда, как бывшего штабиста, хотели перевести в полк и уже сказали ему об этом, а командиром батальона назначить Пашенцева. Но время шло, и никаких распоряжений о переводе и назначении не поступало. По каким-то соображениям Пашенцеву не решались доверить батальон.
Но вскоре стала известна истинная причина задержки – в послужном списке Пашенцева значилось: «Был в плену». Грива возмутился и сначала даже накричал на капитана:
– Вы должны были застрелиться от позора!
– В плену не был, – холодно и спокойно ответил Пашенцев.
– Как это?
– Был в окружении, но не в плену.
– Но, позвольте, записано!..
– В том и беда, что записано.
– Тогда почему не оспариваете?
– Устал, извините.
Майор пожал в недоумении плечами, и на этом разговор кончился.
Собственно, его возмутило не то, что Пашенцев был в плену, а другое – что этот плен теперь отразился на его собственной, майора Гривы, судьбе.
Но командир батальона не мог долго сердиться. Как все толстяки, отходчивый и добродушный, он вскоре забыл об этом. Не вспомнил бы и теперь, если бы не одно событие, происшедшее как раз накануне прибытия командующего в Соломки. К майору Гриве проездом заглянул знакомый офицер из штаба дивизии и сказал, правда предположительно, что майору нужно в самые ближайшие дни ожидать повышения, что переведут его или, вернее, заберут в один из отделов штаба дивизии. Вопрос этот будто бы уже решен, и оставалась только небольшая формальность.
– Надеюсь, у моего нового преемника никакого «плена» не обнаружится? – ехидно заметил Грива.
Штабной офицер снисходительно улыбнулся:
– Не всем так везет в этой войне, как вашему, э-э капитану…
– Пашенцеву.
– Пашенцеву…
Когда началась война, майор Грива находился на Дальнем Востоке. Он был заместителем начальника штаба полка и, может быть, еще долго служил бы в этом чине и звании, не приметный, исполнительный толстяк с уже лысеющей головой, если бы не тщеславие. Все офицеры в полку просились на фронт, написал рапорт и он, Грива, втайне надеясь, что его-то наверняка не отпустят, как хорошего и примерного службиста… Он хорошо помнил то зимнее утро, когда с рапортом в кармане шагал по расчищенной солдатами дорожке к штабу полка; в то утро было как-то по-особенному светло – и потому, что ночью выпал снег и все вокруг будто обновилось и сверкало нетронутой белизной, и еще потому, что и у него самого было обновленно и чисто на душе; помнил изумленное лицо командира полка – тот был удивлен, приняв из рук майора Гривы рапорт; за окном, на дворе, прыгал по притоптанному снегу воробей, маленький, взъерошенный, круглый, как мячик, – и это хорошо помнил Грива.
Командир полка спросил его:
– Вы серьезно?..
– Да!
Это «да» и решило все. Десятки раз жалел потом Грива, что не промолчал тогда, в то утро, в кабинете командира полка. Через три дня он уже с чемоданом в руке шагал по перрону владивостокского вокзала. До самой последней минуты не садился в вагон, нехорошее, тяжелое предчувствие беды угнетало его. В слякотные мартовские дни он прибыл в распоряжение командования Воронежского фронта и сразу же попросился на штабную работу. Но его направили командиром батальона в действующую дивизию.
Однако майору повезло: на фронте вскоре установилось затишье и к тому же батальон перевели во второй эшелон Грива быстро свыкся с обстановкой и начал уже посмеиваться над своими былыми опасениями. Не так уж и страшно служить в действующей армии и строевым командиром! Но в последние недели все чаще стали поговаривать о скором крупном немецком наступлении. В больших сражениях Грива никогда не участвовал, знал о них только по рассказам и из газет, но, не лишенный воображения, вполне представлял себе весь ужас будущих боев и, может быть, именно потому, что представлял, с тревожной настороженностью присматривался к нараставшим событиям; он полагал, что в штабе служить во много раз безопасней, чем командовать в бою батальоном, хотя бы уже потому, что не первая бомба на голову, не первый снаряд по окопам (часто в бою случается так, что штабам приходится еще труднее, чем сражающимся подразделениям – и бомбы «на голову», и автоматные очереди по окнам, и связки гранат под гусеницы прорвавшихся танков, даже рукопашная, и вместе с этим нужно постоянно держать связь с частями, командными пунктами, по сводкам, по сообщениям разом охватывать происходящие события на участке обороны полка или дивизии, разгадывать замыслы противника и продумывать свои наступательные операции, точные, смелые, дерзкие, – нет, не так безопасна и легка служба в штабе, как об этом думал майор Грива); однако, на всякий случай, он написал письмо в политотдел дивизии с просьбой, чтобы хоть там походатайствовали о его переводе на штабную работу. «Я же штабист! – напоминал Грива. – С первого дня, как окончил военное училище, работал только в штабах. Все это отмечено в моем личном деле…» И вот – помогло ли письмо или командование само решило перевести Гриву? – знакомый офицер привез радостное известие: «В один из отделов штаба дивизии!» Весь день и вечер Грива находился под впечатлением этой новости. Ни прибытие артиллерийского полка в Соломки, ни споры с подполковником Табола о том, где и как лучше разместить батареи, ни даже неудавшаяся разведка и гибель Саввушкина не могли отвлечь его от приятных размышлений. Долго он не ложился спать в эту ночь, то сидел в блиндаже, то выходил во двор подышать свежим воздухом, и часовые видели, как он, толстый и прямой, залитый синим лунным светом, ходил взад-вперед вдоль стены амбара.
Несмотря на то что Грива провел почти бессонную ночь, утром он был оживлен и весел. Ни на час не покидало его радостное возбуждение: и когда была объявлена боевая тревога (как многие офицеры, он принял ее за учебную), и особенно потом, когда взошло солнце и всем стало ясно, что немцы сегодня уже никакого наступления предпринимать не будут.
О немцах он с усмешкой сказал:
– Как девицы: и охота, и боязно…
А встреча с командующим вызвала у него новую бурю чувств. Ватутину позиции понравились; уезжая, генерал сам сказал об этом. Правда, заслуги Гривы в строительстве оборонительных сооружений невелики – руководили армейские инженеры, – но похвалы генерала он полностью принял на свой счет и оттого, сияющий и, как всегда, суетливый, приказал немедленно созвать командиров рот, а когда те явились, велел начальнику штаба объявить им благодарность. Потом каждому пожал руку.
По такому торжественному случаю, Грива почувствовал, нужно было произнести речь, и он уже, вскинув голову, сказал первое: «Товарищи!» – по его срочно вызвали к телефону. Никто не слышал, с кем и о чем говорил он, но когда, еще более сияющий и возбужденный, вернулся в комнату к офицерам, все поняли, что получена какая-то приятная новость.
– Ну, товарищи, – Грива откашлялся. Маленькие глазки его весело пробежали по лицам офицеров. – Майора Гривы у вас больше нет!
– Переводят? – догадался командир первой роты, между прочим тоже считавший себя претендентом на должность комбата.
– Да, переводят, – подтвердил Грива, не скрывая радости. – Сегодня же приказано сдать батальон и явиться в распоряжение штаба дивизии.
– И уже известно, кто вместо вас будет? – спросил все тот же командир роты.
– Капитан Го… Го… Горохов или Горошников. Кажется, все же Горошников.
Все невольно посмотрели на Пашенцева.
– Уже выехал, – продолжал между тем Грива, – через час-два будет здесь. Откровенно, товарищи, мне жаль расставаться с вами, но тут я, как говорится, неправомочен ничего решать. Хотелось в бою побывать с вами, но – что поделаешь? – не судьба. Закуривайте, капитан, закуривайте, – все тем же довольным тоном сказал майор, заметив в руках Пашенцева папиросу. – Курите, товарищи офицеры, – снисходительно добавил он, уже обращаясь ко всем. – Я ничего не имею против, – и он принялся старательно вытирать давно уже вымокшим носовым платком потную шею и лысину.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Вернувшись из штаба, Пашенцев снял сапог и начал растирать синеватый и загрубелый рубец старой раны.
Утром он получил письмо из дому и теперь, оставшись наедине с собой, снова вспомнил о нем. Письмо обычное, как все предыдущие, какие он получал от жены, и только в конце было приписано несколько строчек о Сорокине, которого Пашенцев знал еще по совместной службе в Киевском военном округе. Жена писала, что Сорокин уже стал полковником, что приехал в город по каким-то служебным делам и что она на время уступила ему комнату. Какую? Кабинет, конечно, какую же еще! Вероятно, так было нужно, вероятно, в гостинице не хватило мест, так утешал себя Пашенцев и все же испытывал неловкость оттого, что там, дома, в его кабинете, находился чужой человек, сидел за письменным столом, спал на той самой кушетке, на которой Пашенцев сам любил полежать с газетой в руках. Пашенцев думал, что ему неприятно именно это, а на самом деле его волновало другое: он знал Сорокина как человека непостоянного, а попросту – бабника, – и мало ли что может случиться, ведь они там одни! Правда, внук дома, но он в детской! Письмо лежало в нагрудном кармане, и сейчас, растирая ногу, Пашенцев чувствовал, как похрустывает прижатый к телу конверт.
В траншее послышался чей-то голос: «Где у вас ротный?» И едва капитан успел натянуть сапог, брезентовый полог, закрывавший вход в блиндаж, распахнулся, и на пороге появился подполковник Табола.
– Застал? – небрежно пробасил он, проходя прямо к столу и вглядываясь в лицо Пашенцева. Капитан стоял как раз напротив небольшого окна, похожего на амбразуру, и лицо его было освещено ярким дневным светом. – Батарею за вами ставим. Сразу за бруствером. Людей предупреди и сам знай… Но я не за этим. По случаю, поскольку здесь. Чертовски знакомо твое лицо, капитан. Ты извини, я прямо. Я еще вчера хотел спросить, да все как-то… С Барвенковского наступал в сорок втором?
– Да.
– На Харьков?
– Да. Наступал.
– С какой армией?
– Шестой.
– Н-да, – протянул Табола, еще внимательнее вглядываясь в лицо капитана. – Значит, в Пятьдесят седьмой не был? Ну тогда извини, ошибся.
– Возможно, – сухо подтвердил Пашенцев.
– Да, ошибся, – повторил Табола и встал. Уже в дверях, обернувшись, спросил: – С какой группой выходил из окружения: с Гуровым или с Батюней?
– Сам пробился!
– Да, ошибся, – в третий раз сказал Табола, теперь уже с иным оттенком в голосе и с иным, вложенным в эти слова содержанием: дескать, ошибся и в человеке, вернее, не ожидал встретить такой холодности и официальности.
Пашенцев вначале не заметил упрека; только когда стихли в траншее шаги, подумал, что, может быть, действительно ответил подполковнику не совсем тактично. «Ну и черт с ним, – облегченно добавил он, – во всяком случае, никогда больше не заговорит со мной о Барвенковском выступе!..»
Пашенцев не любил вспоминать, как он попал в окружение и как выходил из него, потому что с этим было связано много горьких минут в его жизни. Его понизили в звании от полковника до лейтенанта, хотя, может быть, – и вернее всего! – не только он был виноват в той трагедии, которая развернулась на Барвенковском выступе весной сорок второго года. Две армии тогда попали в окружение, в том числе и полк Пашенцева… Многое выветрилось из памяти с тех пор, забылось. Он смирился со своей участью, смирился даже с тем, что ему по ошибке записали «был в плену», тогда как он был только в окружении (после войны все разберется!), но недоверие, с каким все еще относилось к нему старшее командование, особенно в последнее время, казалось Пашенцеву незаслуженным. Однако он не мог доказать свою правоту. Люди, которые подтвердили бы, как держался он в боях во время окружения, погибли, а если кто и остался в живых, разве разыщешь? Его словам не поверили, на пространном объяснении написали: «Самооправдание!» Потому и не рассказывал ничего о себе Пашенцев, и в батальоне, где он теперь командовал ротой, никто, кроме майора Гривы, не знал всей этой истории, но и Грива познакомился с ней не очень давно и представлял ее так, как было записано в послужном списке.
Сквозь окно-амбразуру просачивалась в блиндаж полуденная жара. Лицом, шеей ощущал Пашенцев теплое дыхание. Он стоял в раздумье, стараясь вернуться к своим прежним мыслям о письме, но разговор с подполковником, уже несколько раз повторенный мысленно и приобретший неожиданно большую, правда, еще не совсем осознанную значимость, – может быть, Табола и есть один из тех живых с Барвенковского выступа, так необходимых Пашенцеву для оправдания, или, точнее, для выяснения истины? – разговор с подполковником не давал ему покоя. Он вспомнил, как посмотрели на него в штабе офицеры, когда майор Грива объявил о новом комбате, и горечь обиды и неприязнь ко всем этим людям, по существу ничего не знавшим о нем, Пашенцеве, теперь с новой остротой обожгли сердце; и письмо жены вдруг предстало в ином свете – Сорокин получил полковника, вон что! Уж не хотела ли она сказать: «Ах, посмотри, какой ты неудачник!» И это, и, главное, недоверчивые взгляды товарищей заставили Пашенцева сейчас снова подумать о своем оправдании. «Как утопающий за соломинку! – ехидно пошутил он над собой. – Однако Табола?.. Табола?..» Нет, не отыскивалось в памяти такой фамилии. «Табола?.. Табола?..» Картины тех дней одна за другой возникали и проходили перед глазами. Оказывается, ничего не было забыто, оказывается, Пашенцев помнил все с мельчайшими подробностями: и дни подготовки к наступлению, весенние, теплые, с первой зеленой травкой по южным склонам и еще не отшумевшими половодьем оврагами (тогда почему-то все больше заботились не о подготовке к прорыву вражеской обороны, а о том, как по слякотным дорогам обеспечить продвижение тылов за передовыми частями), и предбоевую ночь, и рассвет, розовый, ровный, тихий, и в этой тишине – раскатистый грохот вдруг начавшейся артиллерийской канонады, и все-все, что было потом – короткие перебежки на рубеж атаки, и сама атака, в которой то крик «ура» заглушал трескотню пулеметов, то пулеметы заглушали крик «ура»; и еще – отчетливо, отчетливо! – повисший на витках колючей проволоки солдат в серой шинели. Витки качались, и все тело качалось, будто живое, и ржавые колючки, как присоски, цепко держались за посиневшую щеку солдата. Дым, гарь, свист пуль, шипение мин ни взрывы, взрывы – резкие, глухие, стонущие, и охриплые голоса команд, и свой собственный голос с надсадным дребезжанием: «Впер-ре-ед!» – лица бойцов, рябые от пота, напряженные, испуганные, веселые, злые, и, главное, тот общий наступательный порыв, то пьянящее чувство победы – немцы бегут! – которое испытывал он сам, все командиры и солдаты его полка, метр за метром упорно продвигавшиеся вперед, вся Шестая армия, устремившаяся, в прорыв, – дым, гарь, свист пуль и весь этот хаос звуков и ощущений боя с такой реальностью всплыли сейчас, в сознании Пашенцева, что он качнулся и прикрыл глаза ладонью: «Сколько напрасных усилий!..»
В окно-амбразуру все так же струилась, овевая лицо и шею, полуденная жара. Пашенцев отошел в глубь блиндажа и сел на нары.
То наступление, о котором он вспоминал теперь, готовилось командованием Юго-Западного фронта. Намечалось по двум сходящимся направлениям – с Барвенковского выступа силами Шестой армии и из района Волчанска частями Двадцать восьмой армии – замкнуть и уничтожить харьковскую группировку фашистских войск. Двенадцатого мая армии успешно начали наступление, а семнадцатого, южнее наступающих частей, в полосе Девятой армии, гитлеровцы неожиданно нанесли контрудар крупными танковыми соединениями, прорвали оборону и на шестой день боев вышли к Балаклее, где соединились со своей северной группировкой. Наши войска, действовавшие на Барвенковском плацдарме, оказались отрезанными от основных сил фронта.
Полк Пашенцева, измотанный в наступательных боях и потерявший почти две трети своего состава, отходил к Северному Донцу. Связь со штабом дивизии была потеряна. Все усилия наладить ее ни к чему не привели. Посланные люди или совсем не возвращались, или приносили дурные вести: «Дорога перехвачена немецкими мотоциклистами!», «Село заняли вражеские танки!», «Гитлеровцы захватили переправу!..». Завязывался бой, полк прорывался, оставляя на поле убитых и раненых; редели, таяли ряды рот с каждым днем. Но ни Пашенцев, ни солдаты и командиры, которых он выводил из окружения, не теряли надежды, что пробьются к своим. На рассвете двадцать шестого мая разведчики наткнулись на армейские тылы. И хотя это были тылы не своей, не Шестой, а Пятьдесят седьмой армии, все же Пашенцев обрадовался. Его полк тут же был переформирован в батальон и по приказанию командующего армией генерал-лейтенанта Подласа занял оборону у деревни Малые Ровеньки. Батальону предстояло задержать немцев и дать возможность эвакуироваться громоздким армейским госпиталям. Это был последний бой в окружении, и он особенно запомнился Пашенцеву.
Для поддержки батальона в Малых Ровеньках был оставлен артиллерийский дивизион, правда, тоже далеко не в полном составе – всего две батареи по три орудия. Командовал дивизионом пожилой, заросший бородой и усами капитан. Именно пожилой – так тогда показалось Пашенцеву. Он видел капитана всего один раз, и то мельком, во время разговора с генералом Подласом.
Пыльная обочина, черная генеральская «эмка», сам генерал Подлас, высокий, сухощавый, с раскрытым планшетом в руках, согнутая спина шофера, копошившегося в моторе, белые кудряшки облаков над малоровеньковской церквушкой, зеленые купола которой, словно после дождя, отливали новизной, – таким запечатлелся в памяти тот теплый майский день. По дороге только что прошли последние обозы, и пыль от колес еще держалась над травой. Перед генералом стояли двое – полковник Пашенцев и заросший артиллерийский капитан.
– Связь держите со мной, – говорил генерал. – Без приказа не отходить!
Генерал уехал. Через двадцать минут – ни Пашенцев, ни артиллерийский капитан не знали об этом – генерал был убит. Налетевший «мессершмитт» обстрелял машину из пулемета.
Вечером над Малыми Ровеньками появились фашистские самолеты. Деревня загорелась от бомб. Она горела всю ночь, застилая угарным дымом окопы. Всю ночь солдаты Пашенцева вместе с артиллеристами заросшего бородой и усами капитана отражали атаки автоматчиков. К утру немцы подтянули танки. Перед танковой атакой капитан успел предупредить Пашенцева: «Танки пускай на меня, а сам отсекай пехоту! Порознь бить – не пройдет!» Но Пашенцев все равно не мог задержать вражеские танки, потому что в ротах не было ни противотанковых ружей, ни противотанковых гранат; несколько ящиков зажигательных бутылок, присланных генералом Подласом, – вот все, чем располагал батальон. Зато патронов имелось достаточно и для пулеметов, и для автоматов. Может быть, Пашенцев и не согласился бы с таким планом боя и поспорил с артиллерийским капитаном, но обдумывать было некогда. Немцы начали атаку еще до восхода солнца. Шесть танков стремительно надвигались на позиции. Один из них солдатам Пашенцева удалось поджечь. Остальные, пройдя окопы, попали под удар батарей. Пулеметчики тем временем заставили залечь ринувшуюся было вперед вражескую цепь. «Молодцы, пехота!» – кричал в трубку бородатый капитан таким тоном, будто на другом конце провода слушал его вовсе не полковник, а какой-нибудь лейтенант, теперь сияющий от похвалы старшего командира. Пашенцев снисходительно улыбался, сам довольный тем, как разворачивался бой. Атака была отбита. Но за ней последовала другая, потом третья… На третий раз немцы перехитрили. Танки разбились на две группы. Одна группа ринулась на батареи, другая принялась утюжить окопы. Земля песчаная, щели заваливались, люди выскакивали и ошалело бежали к деревне. Их расстреливали из танков прямой наводкой, давили гусеницами. Пашенцев видел только начало этой страшной картины. Его контузило и присыпало землей. Только к ночи, когда выпала роса, он очнулся и пополз к уцелевшим домикам. Вокруг все уже было тихо. Бой давно кончился, пленных угнали, раненых добили.
Такая же участь постигла и артиллеристов. Но капитану с двумя орудиями удалось отступить к лесу. С опушки он еще сделал несколько выстрелов и ушел, видя и понимая, что бой окончательно проигран. Трое суток двигался он по ночам, окольными дорогами, к Северному Донцу. Потом соединился с отрядом, которым командовал член Военного совета Юго-Западного фронта дивизионный комиссар Гуров, и с ним вышел из окружения. Этого Пашенцев уже не знал, как не знал и того, что и тылы, и госпитали Пятьдесят седьмой армии, отход которых прикрывал он со своим батальоном, не дошли до Северного Донца и были разгромлены танковой колонной противника.
Вышел Пашенцев из окружения с тремя бойцами, которых так же, как и его, подлечили и прятали у себя жители Малых Ровенек. В кромешной тьме переплывали Северный Донец. Левый берег черным крутым отвесом молчаливо возвышался над водой…
Пашенцев встал, откинул дверной полог. Солнечная дорожка пробежала по полу и легла на стену, и весь блиндаж сразу наполнился веселым и ярким светом. Теплый сквозняк зашелестел страницами раскрытого на столе журнала. Капитан взял его, бегло взглянул на заголовки, надеясь найти что-нибудь интересное, чего он еще не читал в этом номере, но все было знакомо – и статьи, и стихи, и иллюстрации. С обложки приветливо улыбалось молодое лицо санитарки. Она была в белом халате и белой косынке с красным крестом, и это белое словно было специально придумано художником, чтобы ярче оттенить бронзовый загар щек. Сквозь загар пробивались веснушки. «Мило!» – подумал Пашенцев, рассматривая обложку с протянутой руки. Потом поднес ее ближе к глазам, потом снова оттянул: лицо девушки показалось знакомым. Эти веснушки, эта светлая прядка из-под косынки… Она – из Малых Ровенек! Шура! Она приносила на чердак хлеб и воду и перевязывала рану!.. Пашенцев торопливо отыскал подпись: «Серафима Онучева из Астрахани. В тяжелые для Отчизны дни, когда фашисты были у ворот Москвы, она добровольно ушла на фронт. Десятки раненых вынесла она с поля…» Дальше читать не стал, разочарованно отложил журнал в сторону. «Так же вот и подполковник Табола обознался во мне, – подумал он. – Мало ли было людей на Барвенковском выступе! А, к черту все эти дурацкие воспоминания и догадки. Надо сходить на кухню…» Но мысль о том, что подполковник Табола все же может помочь «оправдаться», раз зародившись, уже не покидала Пашенцева. И по дороге на кухню, и на кухне – на дне оврага, у ключа, под ивами, когда разговаривал со старшиной и поваром и снимал пробу с борща и каши, привычно пахнущей дымком, и когда вернулся снова в блиндаж и пошел по взводам проверять, как роют танколовушки, – все время думал о подполковнике. Теперь и слово – Табола! – казалось каким-то знакомым сочетанием звуков. «Табола?.. Табола?.. Какая была фамилия у того бородатого артиллерийского капитана?» Пашенцев чувствовал, что где-то здесь нужно искать разгадку. Первое, о чем он подумал, – это трубка. У бородатого капитана тоже в руках была трубка; когда генерал Подлас сел в машину, когда из-под колес генеральской «эмки» взвилась пыль, бородач, точно так же, как это сделал сегодня Табола во время встречи с командующим фронтом, принялся выбивать о каблук трубку. Одинаковая привычка у этих двух людей. Может быть, простое совпадение? Но тот бородатый артиллерийский капитан как раз и был из Пятьдесят седьмой армии, которую назвал сегодня Табола, так что вполне вероятно, что догадка верна. И еще одно обстоятельство наталкивало Пашенцева на эту мысль: когда в Соломки прибыл артиллерийский полк и в штабе батальона разгорелись споры о том, где лучше поставить батареи, Табола сказал: «Танки надо пропускать под огонь орудий, а пехоту должна отсекать пехота. Проверенный тактический прием, и на сегодняшний день самый лучший!» В этом высказывании явно чувствовался бородатый капитан.








