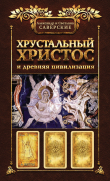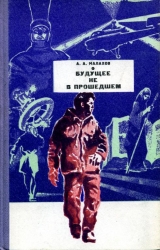
Текст книги "Будущее не в прошедшем"
Автор книги: Анатолий Малахов
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Огненная вспышка озарила небо. Она была столь яркой, что казалась красно-коричневой. Лишь по зареву на небосводе можно было судить о силе и мощи небесного огня.
В отблесках пламени стали отчетливо видимыми черная бездонная пропасть, суровые скалы и заснеженные вершины гор.
А по небу, распластав крылья, пронеслась гигантская птица. Внезапный свет помог ей уточнить направление полета.
На переднем плане высветился поясной портрет человека, прикованного к скале. На его лице написано страдание. Он знает: сейчас прилетит хищная птица и начнет терзать его печень…
Может быть, и не стоило пересказывать драму Эсхила о Прометее, подарившем человечеству огонь и принявшем за это нечеловеческие муки. Этой легенде почти три тысячи лет. Но все рассказанное я нашел на куске полированной яшмы! Сама природа начертала на камне этот сюжет.
Такие камни мы называем пейзажными, выделяя из них группу еще более удивительных – портретных. В основе их рисунка лежит случайное сочетание красок горных пород, возникшее в процессе жизни камня.
В моей коллекции есть и другие портретные камни.
На окраине города Орска на Южном Урале, там же, где был взят кусок яшмы с Прометеем, я подобрал небольшой кусочек породы, на котором отчетливо (без полировки) виден рисунок головки модницы с замысловатой прической. Чудеса в этом камне заключаются в том, что стоит повернуть плиточку на 90°, как меняется рисунок и на месте модницы возникает черт. Он с рогами и выпученными глазами. Вместо рук и ног у черта плавники.
Однажды мне попал в руки кусочек невзрачной породы. Название ее удалось с трудом определить. Это была измененная, некогда осадочная порода, ставшая с течением времени близкой по своему составу к амфиболитам и гнейсам. Процесс такой переработки весьма сложен и не всегда точно поддается учету.
Я взял этот образец на ныне заброшенном Маминском золоторудном месторождении, прославившемся тем, что в гранитных массах этого месторождения были найдены первые в мире окаменевшие остатки организмов.
Кусок породы, о котором идет речь, был невзрачен. Зеленовато-серый тон породы нарушался белесыми включениями неправильной формы. Чтобы лучше рассмотреть породу, пришлось пришлифовать одну из плоскостей образца. И тут мы увидели фрагмент сказки…
Начинается шторм. На пологий берег набегают зеленые седобородые волны. Верхняя часть пенистых валов разносится ветром. Такую гамму серо-зеленых красок, сочетающихся с воздушно-белесыми тонами вспененных волн, можно видеть только на картинах Айвазовского в Феодосийской галерее или в собраниях Русского музея.
Среди белой пены, рассыпавшейся по пляжу, видна сказочная русалка. Она обессилена в битве с прибоем. Голова русалки запрокинута… Обнаженный торс изогнут… Рука беспомощно пытается опереться о пену… Еще немного, и из воды покажется ее хвост…
Если повернуть на 180° эту композицию, то на месте русалки возникает свирепый лик морского царя. Это он, довольный и гордый своей силой, нагоняет мощный девятый вал. Морской царь многолик. Один из его портретов распластался в старой пене по пляжу. Такая же участь ждет и облик, возникший на новом гребне. А на подходе уже другая волна… Она принесет новое чудо…
Есть у меня несколько глыбок портретного родонита. Того самого минерала, который украшает пилоны из нержавеющей стали в подземном вестибюле станции метро «Маяковская». Родонит издавна привлекал любителей камня своей раскраской. Смолисто-черные прожилки в нем прорезают розово-красную массу, создавая в каждом образце неодинаковый рисунок.
Августейшая любительница камня – Екатерина II – знала о существовании крупной глыбы родонита, найденной в 60 километрах от Екатеринбурга. Царица приказала создать из этого куска что-либо для своего дворца. С трудом втащили глыбу на фабрику. Но перекрытия здания не выдержали такой тяжести, и глыба провалилась в землю, пролежав там до наших дней. Лишь в 1935—1936 гг. она была вытащена и из нее сделали стелу, ныне украшающую памятник Анри Барбюсу на кладбище Пер-Лашез в Париже.
Родонит (по-гречески – розовый) имеет и другое название. Уральцы зовут его орлецом. Бытует легенда о том, что этот камень знают и любят орлы, они держат куски орлеца в своих гнездах. Возьми кусок орлеца, – говорят в народе, – положи его в люльку – и ребенок вырастет мощным, сильным, зорким.
На одной из глыбок родонита из моей коллекции переплетение черных прожилок создало двойной портрет девушки и молодого человека. Они стоят друг против друга, о чем-то рассуждая. У девушки пышная прическа. Лицо ее миловидное, курносенькое. Юноша, по-видимому, военный. Он стоит навытяжку. Одет в мундир. На его голове парик с косичкой. Такие костюмы носили в XVIII веке.
А на другой глыбке – парень в картузе стоит перед маркизой, стройной, худенькой, одетой в платье с кринолином…
Портретные камни можно встретить среди различных минералов. В Новосибирском музее Института геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР мне подарили кусочек полированного нефрита из Забайкалья.
Мерцающий блеск травяно-зеленого нефрита ни с чем не сравним. Этот блеск, в сочетании с другими особенностями камня, с его вязкостью и колоссальной прочностью привлек к нему внимание древних. Вначале из него изготовляли каменные орудия, затем он стал типичным камнем для изготовления различных божков и предметов культа.
Иногда в массе минерала встречаются различной формы и разного размера пятна светло-серых и зеленовато-серых тонов. Такое пятнышко в подаренном мне образце оказалось портретным. В нем отчетливо сходство с роденовским «Мыслителем».
Лучший из лучших пейзажных камней хранится на 27 этаже музея Московского государственного университета. Камень прикован к витрине. Это – объемный пейзажный хрусталь. В нем отчетливо просматриваются включения серо-зеленого хлорита, блестящих серых чешуек серицита и черных кристаллов турмалина. Но перечень минеральных включений еще ни о чем не говорит. Надо видеть расположение этих включений. Оно непостижимо. Внутри прозрачного кристалла отчетливо видима терраска реки, покрытая ельником. На терраске – курная охотничья избушка. На заднем плане – горы.
Тот, кто бывал на Севере, сразу скажет, что в камне запечатлен типичный пейзаж Полярного Урала. Кстати, камень привезен оттуда. В такой охотничьей избушке, которая изображена в камне, в жаркий летний день хорошо отдохнуть от гнуса, предварительно вытопив избушку «по-черному» – с дымом. От дыма все комары вылетят прочь. И отдых обеспечен.
Красивый пейзажный камень для своей коллекции получил от геолога Ю. П. Сорокина из Тюмени. Образец представляет плитку размером 6×9 сантиметров. Все, кому я ее показывал, дают ей одинаковое название: «Русский лес».
Сюжет, изображенный на плитке, не сложен. На переднем плане стоит несколько чахлых стволов березок. Задний план – коричнево-красный, со светло-коричневыми полосами, напоминающими грозовые отсветы облачного неба.
«Русский лес» был доставлен с Тюменского Урала. На месторождении этого камня растут такие же березки. Научное название породы – фельзит-порфир. Такие породы являются родственниками гранитов, отличаясь от них своей структурой. Они не успели раскристаллизоваться, потому что застыли на поверхности после извержения из жерла вулкана. В них много мелкокристаллического полевого шпата и особенно кварца. Кварц и образует в породе многочисленные прожилки. Неодноцветность кварца (молочно-желтоватый кварц перемежается со светло-серым) и создает впечатление стволов берез.
Чаще всего пейзажные камни можно встретить среди яшм. Особенно славятся такими камнями орские яшмы. Выставка пейзажных орских яшм в Монреале (на ЭКСПО-67) заслуженно получила высокую оценку.
Специалисты утверждают, что среди орских яшм можно насчитать более двухсот разновидностей, выделяемых по рисунку, по цвету, по красоте.
Что только не увидишь в рисунках этих яшм! Мирный горный ландшафт. Долины рек. Водопады. Морской прибой… Особую известность получила орская «крепостная яшма». На полированной поверхности такой яшмы видны бойницы с арками и подвесными мостами. Не хватает только рыцарей, едущих на турнир.
Все разнообразие каменных пейзажей и удивительных портретных камней связывается с многоликостью камня. Каждый кристалл, любой обломок скалы всегда несут на себе черты индивидуальности, зависящей и от условий его рождения, и от влияния соседних минералов, и даже от географического положения. И там, где существует наибольшая индивидуальность, мы всегда можем усмотреть в случайных срезах что-либо сходное с привычными для глаза контурами: морские пейзажи, величественные скалы и даже людей и животных.
Из числа многоликих минералов наибольшим разнообразием пользуются так называемые обманки. Их разнообразие столь велико, что в каждом географическом пункте они принимают иной облик. Обманчивый – по-гречески «сфалерос». Сфалеритом назвали ученые цинковую обманку. Почти во всех крупных музеях мира, в витринах, где собраны сернистые соединения металлов, можно видеть любопытнейшие образцы. Сфалериты из Трансильванских Альп (Румыния) поражают своими крупными размерами. Кристалл сфалерита там густо-черного цвета. А в Пршибраме, в Чехословакии, сфалериты имеют черный цвет. В Испании они золотисто-прозрачные, крупно-зернистые; почти такие же, но в крупных кристаллах, сфалериты встречаются в Мексике.
На Урале от старых горщиков я слышал полулегенду, полубыль о том, что в коллекции одного из любителей (задолго до Октябрьской революции) видели странный сфалерит коричневый днем, светившийся в темноте странным неземным светом, исходящим изнутри камня. Говорят, что этот сфалерит имел форму креста. Хозяин коллекции хранил этот камень как величайшую святыню, возил его всегда с собой. Рассказывают, что однажды этот камень защитил хозяина от «лихого мужика-оборотня», и добавляют, что от удара таким камнем «мужик-оборотень» скончался.
Я не раз убеждался в том, что каждая легенда содержит, наряду с вымышленными образами, и какие-то зерна истины. В рассказе о каменном кресте поражало свечение камня. Это было новым, и я стал подбирать литературу о сфалеритах.
Каменная сонатаТе, кому приходилось встречать осеннее утро в лесу, помнят яркие краски листьев. Вся гамма желтых, оранжевых, красных тонов воспринимается в лесу золотой осенью. А между листьями хорошо просматривается паутина, покрытая тонким бисером утренней влаги. На фоне пестроокрашенных листьев паутина кажется красной.
Такую паутину я встретил в рисунке кристалла сфалерита в лаборатории П. Я. Яроша. Именно этот рисунок навеял воспоминания об осеннем ландшафте. Внутри красных запутанных тенет просматривалось пятно смоляно-черного цвета. Там, в этой черной дали, – логово паука. Попасть в такую паутину, запутаться в ней – страшно…
В других картинах встретился тот же рисунок из красных и черных нитей. Отличие лишь в том, что они неоднократно повторялись.
Красное, белое, черное… И так многократно в виде тонко прочерченных ярких нитей в сторонах многоугольника: в одной, другой… шестой.
В некоторых эти нити разорваны, но, даже разлетевшись в стороны, они создают невероятной силы и мощи обрамление других сочных разноцветных пятен. Неоднократно перемежаясь, красно-черные и белые нити становятся сходными с музыкальными ритмами траурного марша. Нет, это не плач скорби. Линии говорят и кричат о стихийных проявлениях сил природы. Эти силы наступают со всех сторон. Теснят. Завораживают. Ритм за ритмом шествует спокойно, торжественно-величаво среди молочно-белых облаков, слегка подкрашенных ярко-оранжевыми бесструктурными пятнами.
Внутри этих мрачно-траурных рамок четко прорисовываются лирические и лирико-драматические пейзажи.
Вот гавань. Тиха и спокойна ее водная гладь. Легкий ветерок создает лишь еле заметную рябь. Распустив горделивые паруса, курсируют в гавани яхты. Их треугольные паруса навевают мысли об экзотических странах. Так выглядят яхты и торговые суда в Персидском заливе…
Предвечерний час на картине подчеркнут розово-фиолетовой окраской неба. Дневное светило приблизилось к горизонту. В дымке наступающего вечера солнце стало призрачно-желтым. Ореолы концентрических колец окружали его, создавая неземной колорит.
А на темно-коричневом берегу светло-желтыми пастельными красками размазались контуры строений. Весь мирный пейзаж гавани вписан в траурно-торжественный ритм. Этот ритм все время создает настроение тревоги, ожидания каких-то событий.
Просматриваемые картины завораживали. В них чудилось нечто бесконечно знакомое. Траурный ритм. Борьба противоположностей. Сопоставление несопоставимого… Только так можно представить классическую сонату. Здесь, в камне, встретились как бы застывшие звуки, родственные бессмертной «Аппассионате» Бетховена.
Так же, как в «Аппассионате», не все мирно и красочно в этих траурных рамках.
В одном из красно-черно-белых треугольников с мирным пейзажем гавани соседствует картина-рассказ о Сцилле и Харибде.
Вот она – сказочная Сцилла. Это огненно-рыжее многоголовое чудовище. Мезозойский динозавр, или страшный дракон – птеродактиль, показался бы ангелом по сравнению со Сциллой. Чудовище высунулось из пещеры в скале. Стали видимыми ее безобразные морды, криво посаженные на длинные шеи. Невероятной длины когти выпущены из ее двенадцати лап. Сцилла пожирает все: дельфинов, рыб, людей… Блестят и сверкают страшные зубы чудовища. Их тройной ряд нацелен на людей, подплывающих сюда на корабле. Моряки, видя опасность, сгрудились на корме. Уверенно ведет свой корабль кормчий. Он знает: у противоположных скал таится более грозная опасность. Там – Харибда – страшный водоворот, засасывающий в пучину все, что подплывает к нему. Сцилла же хватает немногих.
Голубовато-белые брызги Харибды уже видны у роковой красно-черной черты. Что сейчас произойдет?
А в небе, около роковой черты, хохочет огненно-красный бог. В его руках все судьбы людей. Он знает, чем все закончится. Красно-черный, беспощадный ритм во весь голос кричит, провозглашая волю божества…
Но можно прочесть картину и так. Огненно-красное божество – это волшебник Просперо, заклинающий стихию, чтобы спасти людей и корабль. Картины из «Аппассионаты», навеянные «Бурей» Шекспира. Это опять ритмы окаменевшей музыки…
В один из многоугольников вписан неземной ландшафт. Все в нем как на других планетах. Но возможно, так выглядела наша Земля в дни ее юности. Островершинные иглы вытянутых пирамид свидетельствуют о начале эры. Здесь все первозданно: и горы, и долины, и ложные солнца. Эти светила странно однотипны. Все они опоясаны концентрическими кругами, состоящими из 5—6 колец.
А в завершающей картине густо-фиолетовые и сиреневые брызги создают впечатление гигантского планетарного взрыва. Осколки камней, прорвавшиеся через красно-черную ограду, взлетели в снежно-белую пену, вмещающую все картины. Следы осколков в виде огненных концентрических колец как бы застыли в гигантском Айсберге вечности…
А когда удалось оторваться от микроскопа, то оказалось, что вся эта красота сосредоточена в плоских приполированных маленьких кусочках (величиной не более двух-трех квадратных сантиметров) самой обычной колчеданной руды, взятой из различных медных месторождений Урала. «Секрет» заключается лишь в том, что эта каменная соната наблюдалась не в обычном, а в ультрафиолетовом свете, способном вызывать свечение некоторых минералов. Этим и пользуются геологи для их определения.
А дальше вступил в дело обычной принцип пейзажности камня. В просмотренных образцах встретился не просто разнообразный комплекс минералов, здесь наблюдались различной формы и величины обломки сфалерита. Каждый из обломков светился по-своему. Для сравнения я посмотрел те же образцы также под микроскопом, только не в ультрафиолетовом, а в обычном, но отраженном свете. И ничего феерического и сказочного мы не увидели. В полировках были видны только серые и относительно яркие желтые зерна минералов. Геологи именно по таким расцветкам определяют рудные непрозрачные минералы. Есть специальный метод изучения руд, называемый в геологии минераграфическим. Он сводится к выявлению различий в цветах минералов в отраженном свете под микроскопом. Ими пользуются практические работники.
Ступени познанияЧем отличается ученый-исследователь от рядового практического работника? Что возвышает даже обычного экспериментатора и приводит его к открытию?
Не буду перечислять все качества, необходимые для научной работы. Назову основные: трудолюбие, терпение, способность отдать всего себя для науки. Самое же главное в таком труде – не проходить мимо непонятного, видимого порой лишь в незначительных отклонениях от привычных норм. Ученые и практики всех стран мира многократно изучали руду из разнообразных месторождений полезных ископаемых, в том числе и из колчеданных. В трудах ученых описаны и переописаны все особенности медных, свинцовых, цинковых руд и сопровождающих их многочисленных других минералов. Особенно обманчивыми являются кристаллы сфалерита, цинковой руды. Скопления их бывают волокнистыми, тонкозернистыми, скорлуповатыми, гроздьевидными, полнокристаллическими… Этот минерал действительно обманывает, своей многоликостью.
В лаборатории геологии рудных месторождений Института геологии Уральского научного центра Академии наук СССР задумались над первопричиной всего этого многообразия и выполнили специальные исследования сфалеритов под ультрафиолетовым светом. Результаты оказались весьма интересными и новыми.
Как всегда, началось с «малого». Сфалерит из колчеданных месторождений Урала люминесцировал в ультрафиолетовом свете только в тех случаях, когда он находился вместе с медьсодержащим минералом борнитом.
Потом стали накапливаться дополнительные материалы. Оказалось, что цвета высвечивания сфалерита меняются в образцах, подвергшихся деформациям. Усложнение люминесценции увязывалось с конкретными условиями залегания руд. В одном месторождении взяли для анализа руду из зоны контакта с вмещающими породами. Было видно прямо в забое, что руда здесь претерпела интенсивные пластические деформации и в ней появилась четкая полосчатость. Под ультрафиолетом в таких образцах (сфалерита с борнитом) наблюдалось буйство расцветок, высвечивалась картина, близкая к радуге. Ритмично перемежались ярко-желтые, зеленые, голубые, фиолетовые, вишнево-красные полосы.
Вывод был четким и однозначным. Увидишь в сфалерите в ультрафиолетовом луче необычные световые ритмы, знай: руда подверглась в своей жизни сильным сжатиям.
Точно так же, шаг за шагом, исследователи доказали, что все виды метаморфизма– (не только сжатие, но и прогрев, и воздействие воды) оставляют в сфалерите свои знаки, проявляющиеся в ультрафиолетовых лучах. Вот микротрещинка. По ней много миллионов лет назад просачивалась вода. Она что-то растворяла и выносила из руды. Другая порция воды привносила какие-то соли и оставляла их в руде, изменяя химический состав минералов. Вблизи такой трещинки ультрафиолетовый свет фиксировал все это изменением окраски, появлением новой тональности.
В ряде случаев в сфалерите обнаруживались под ультрафиолетовым светом странные фигуры, состоящие из серии очень правильных концентрических колец. Иногда минерал содержал довольно много таких фигур. Они создавали картину плоскостного среза шаровых сфер, вложенных друг в друга, окаймляющих микроскопически малые точки. Ширина колец в таких окружностях была неодинакова, а их радиус исчислялся микронами.
Поиски ответа на вопрос о причинности явления привели к открытию радиоактивности сфалерита. Оказалось, что руды некоторых колчеданных месторождений Урала содержат незначительные примеси радиоактивных элементов, которые не обнаруживаются даже спектральным анализом. Сферы же возникли при альфа-излучении радиоактивного вещества. Такие фигуры называются радиоактивными «двориками». В сфалеритах колчеданных месторождений Урала они были обнаружены впервые.
Таким образом, в сфалерите отразился ход ядерных реакций, протекавших (и протекающих) в руде каждую секунду в течение десятков миллионов лет!
Обнаружение следов ядерной жизни в древние геологические эпохи является важным событием в науке. Руководитель лаборатории доктор геолого-минералогических наук П. Я. Ярош говорит, что радиоактивные элементы видели задолго до него многие исследователи. Однако в лаборатории геологии рудных месторождений при участии П. Я. Яроша и под его руководством выполнены такие исследования, которые наглядно раскрывают сложные следы жизни радиоактивных элементов в колчеданных рудах.
На основании этого стало возможным решить одну из важных геологических задач – определить относительное время тех радикальных преобразований в месторождениях, которые обусловлены метаморфизмом.
Возьмем опять в руки кусочек медно-цинковой руды. Она жила и живет своей особой жизнью, не видимой для нашего глаза. Каждую мельчайшую долю микросекунды альфа-частицы бомбардируют в ней кристаллическую решетку минералов. Сравним это явление с понятным нам образом: капля долбит камень. И представим в виде такой «капли» субмикрочастичку с энергией в миллионы электроновольт! По закону сохранения энергии миллионы и миллиарды накопленных электроновольт не исчезают. Они лишь трансформируются.
Вот дикий хаос красок. Я опять не могу оторвать взгляд от картин, наблюдаемых в сфалерите под ультрафиолетовым лучом. Но теперь осмысленными кажутся нарушенные ритмы геометрических зон роста кристаллов. Видимой и понятной становится картина, создающая впечатление пейзажа хаотических нагромождений скал. Все это лишь следствие разрушения кристаллического каркаса первичного минерала. Разрушался ли при этом минерал в виде бурного взрыва (фиолетовые брызги?), или же процесс протекал спокойно? Ответить на эти вопросы однозначно пока нельзя. Зримо представив эти процессы, мы можем лишь строить гипотезы о том, что такой же жизнью живут не только руды, но и многие другие породы земной коры. И жизнь других, не только пейзажных и портретных камней, но всех вообще горных пород нами полностью еще не изучена. Мы еще не подобрали пока должных индикаторов для выявления подобных процессов в других горных породах.
Полученная информация об особенностях свечения сфалерита открыла нам лишь одну из ступенек познания сложной жизни горных пород. Камни живут! Их жизнь полна сложнейших превращений и увлекательных событий.
Метод, примененный П. Я. Ярошем, вскрыл (и вскрыл однозначно) только частицу этой сложной жизни.
Где-то сейчас в частной коллекции лежит светящийся «неземным» светом сфалеритовый крест. В нем светятся атомы, для возбуждения которых достаточно тех ультрафиолетовых лучей, которые имеются в дневном свете. Хорошо бы разыскать этот сфалерит. Изучив его, можно подняться еще на одну ступеньку познания. Вполне возможно, что такое свечение связано с ядерными реакциями других элементов, может быть, даже трансурановых, возможно, существующих и живущих в недрах Земли. Вполне возможно, что при изучении других минералов откроются новые, пока еще не познанные истины.