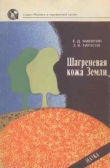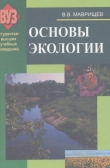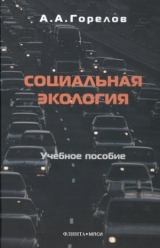
Текст книги "Социальная экология"
Автор книги: Анатолий Горелов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
3
Классово-социальные причины экологического кризиса
Некоторые исследователи полагают в связи с этим, что основной причиной разрыва и противопоставления человека и природы служит классовая дифференциация общества. С ее обострением и накоплением социальных противоречий росло отчуждение человека от человека и параллельно ему отчуждение от природы. В итоге, «только при капитализме природа становится всего лишь предметом для человека, всего лишь полезной вещью; ее перестают признавать самодовлеющей силой, а теоретическое познание ее собственных законов выступает лишь как хитрость, имеющая целью подчинить природу человеческим потребностям, будь то в качестве предмета потребления, или в качестве средства производства» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 46, Ч. I. С. 386–387).
Буржуазная ориентация на покорение природы, гарантом правильности и безошибочности которой служит гегелевская философия, становилась, по мере роста технических возможностей человека, все более агрессивной. В позитивистском духе О. Конт предлагал уничтожить всякую «для промышленности бесполезную жизнь на Земле», что Д.С. Милль назвал видом сумасшествия на почве регулирования цивилизации.
Аналогичные тенденции развивались в политэкономии. По А. Смиту, богатство народов определяется совокупной ценностью ежегодно вновь производимых материальных благ. Здесь ясно проступает узость классической политэкономии, упускающей из виду богатство природы и самого человека.
Понимание богатства в узкоэкономическом смысле привело к воспеванию разделения труда на том основании, что при разделении операций может быть произведено гораздо больше изделий, чем без него. Разделение труда, доходящее до тейлоровской системы, давало возможность заменить человеческий труд машинным, вело к разорванности человеческого бытия и, как следствие, упущению из виду целостности природы и человека.
Общему динамическому характеру западной души соответствовала и трудовая теория стоимости, если учесть, что труд ставился Смитом и Рикардо почти исключительно в зависимость от наличия капитала. Само по себе природное богатство объекта оказывалось чем-то несущественным для его стоимости, а вместе с тем, падало и значение природы как таковой.
В основе экономической эйфории А Смита лежало убеждение в целесообразности организации человеческого общества подобно тому, как таковая существует в мире физических явлений. Смит говорит о «естественной гармонии», хотя здесь мы имеем дело со своеобразным политэкономическим вариантом «предустановленной гармонии». А. Смит не исследовал взаимоотношения экономики с другими отраслями человеческой деятельности. Если все целесообразно, то и развитие каждой части целесообразно. А. Смит не замечал, что экономика может подавить другие виды человеческой активности, и оказался, таким образом, проводником концепции обособленного экономического роста.
Буржуазные экономисты до недавнего времени в силу самого характера их профессии и специфики капиталистического общества ставили во главу угла материальное производство (не включая в него производство самого человека как личности). «Подлинная сила предпринимателя связана с тем, что Гобсон называл «сферой прогрессирующей промышленности», т. е. его способностью изыскивать новые способы изготовления товаров» (Б. Селигмен. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. С. 128). Капиталист спешит получить прибыль, так как действует принцип «все или ничего», и он преуспевает в этом, воздействуя на производство и психологию масс. Капитализм вовлекает всех в безумную гонку производства и потребления. Предприниматель стремится производить все, обеспечивающее прибыль; потребитель – потреблять нечто новое, считающееся престижным. В итоге получается, что в так называемых развитых странах производится масса ненужного, в развивающихся и наименее развитых отсутствуют товары первой необходимости.
У А. Смита интересы общества на стадии капитализма автоматически совпадают с интересами отдельной личности. Как же иначе, если «богатство страны слагается из суммы богатств отдельных лиц». Классическая западная политэкономия – апология производства и капитала, и зиждилась она на «процветании» до поры до времени капиталистической системы с ее пониманием богатства. Предостережения Т. Мальтуса и некоторые осторожные высказывания Рикардо и других экономистов склонны были рассматриваться ею как курьез.
Обосновывая принцип экономического либерализма, А. Смит писал, что в человеческих делах надо только дать полный простор природе. Это верно, но природу Смит понимал на свой лад, по существу, оправдывая ею анархию производства. В то же время Смит прав, когда, рассматривая капиталистическую экономику и имея дело с капиталистом, пишет, что товарная экономика основывается на эгоизме. Действительно, при существующих свойствах капиталиста экономика развивается, разделение труда прогрессирует и, вместе с тем, приближается кризис человека и окружающей природы.
Человек в капиталистическом обществе – источник рабочей силы, а природа – источник сырья. «Выжимание пота» и «выжимание ресурсов» идут рука об руку. Господство одних над другими стимулирует стремление к господству над природой всех. Кризис во взаимоотношениях человека с природой есть отражение кризиса в отношениях человека с человеком, и экологическое отчуждение есть отражение социального отчуждения.
Социальная несправедливость влечет за собой и отрицательные экологические последствия, и, если бы это было своевременно замечено и исправлено, многие экологические трудности были бы преодолены в своем зародыше. Приведем пример, в простой и явной форме иллюстрирующий связь социальной несправедливости с экологическими трудностями. С вредными последствиями применения новых синтетических веществ, служащих источниками загрязнения природной среды, сталкиваются, прежде всего, рабочие, изготавливающие их. Они получают так называемые профессиональные заболевания. Вследствие социальной несправедливости это расценивается как нечто естественное и неизбежное, и только тогда, когда экологически негативные последствия применения данного вещества начинает чувствовать на себе большинство населения, общество бьет тревогу. Наличие социальной справедливости не дало бы возможности выпускать эти вещества или потребовало бы проведения детальных предварительных исследований. Забота о рабочих и их участие в выборе того, что производить, было бы не только актом социальной справедливости, но имело бы и важные положительные экологические последствия.
Углубляющееся обострение противоречий между человеком и природой во второй половине XIX в. вело к тому, что оптимизм западной философии стал сменяться пессимизмом. В противовес гегелевской вере в диалектическое восхождение от низшего к высшему, Э. Гартман называл органическую эволюцию вырождением и животное царство в целом паразитом растительного (хотя и с оговорками).
Интересна реакция на гегелевскую философию А. Бергсона, в соответствии со взглядами которого единство не устанавливается в процессе развития, а, наоборот, разрушается. Бергсон отрицал возможность взаимного приспособления частей в процессе их развития и считал, что гармония бывает полной только вначале и происходит из первоначального тождества. Данное положение соотносится с общей гносеологией А. Бергсона, согласно которой подлинное знание достигается не наукой, а погружением в жизнь, развитием в человеке того, что тождественно жизни как предшествующему этапу становления человеческого создания. По А. Бергсону, имеются два движущихся в противоположных направлениях взаимопроникающих друг в друга потока – жизненный и материальный, и жизнь не что иное, как творческое преобразование материи через компромисс с ней, который выражается в становлении организма. Если бы Бергсон дожил до экологического кризиса, то, исходя из своей концепции, объяснил бы его легко: интеллект приспособлен лишь для изменения мира, но изменение без внутреннего постижения жизни чревато катастрофой.
В своей преобразовательной эйфории западный мир остался глух и к пессимизму Э. Гартмана, и к соображениям А. Бергсона. Преобразовательные тенденции нарастали, достигнув наивысшего выражения в философии Ф. Ницше, представившего волю к власти в качестве фундаментального принципа жизни, которому подчинены и познание, и практика.
«Добиться власти над природой и для сего известной власти над собой», – так представлял себе цель развития человечества Ницше. По существу, эта программа и реализовалась в западном мире. Заслуга Ницше в том, что ясно выразил противостояние человека и природы, которое имело место и до него.
Воля к власти выступает как следствие обособления человека от природы и себе подобных, от породившей его целостности. Обособившийся человек пытается познать и преобразовать целое с помощью редукционистских и экспансионистских методов. Воля к власти – способ борьбы обособившегося от природной среды и собственной природы человека.
Ницше, а также 3. Фрейд много сделали для анализа подсознания человека и идущих от него скрытых мотивов деятельности. Благодаря их исследованиям стало яснее видно, что одна из причин нынешнего экологического кризиса заключается в стремлении человека к власти над природой. Человек разрушает мир идеально в процессе познания, а затем материально в процессе преобразования. Вряд ли справедливо представлять страсть к разрушению и стремление к власти в качестве основополагающих особенностей природы человека, но несомненно, что они в большой степени присущи западной цивилизации и выходят на первый план в эпоху перерастания капитализма в империализм. Стремление к власти над природой ведет к экологическому кризису именно потому, что природа есть порождающее человека начало и разрушение ее подрывает основу существования общества.
Переход от традиционного капитализма к современному, в котором власть принадлежит не владельцу средств производства, а управляющему, менеджеру, ничего не меняет по своей сути. «Эта система (индустриальная система развитого капиталистического общества. – А.Г.) требует, чтобы люди работали как можно больше для производства возможно большего количества товаров. Если бы они прекращали работать по достижении определенного достатка, это поставило бы пределы расширению самой системы. В этом случае рост не мог бы служить целью… реклама и связанные с ней виды деятельности выполняют, очевидно, весьма значительную общественную функцию. Эта функция простирается от управления спросом, являющегося необходимым дополнением к контролю за ценами, до формирования психологии общества, необходимой для деятельности и престижа индустриальной системы» (Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М., 1969. С. 257, 258). Расширяясь, индустриальная система выходит за рамки отдельных государств, формируя транснациональные корпорации, которые распространяют экологическое давление на весь земной шар.
Для марксистской идеологии характерно утверждение, что представитель правящего класса (капиталист) эксплуатирует, прежде всего, представителей класса, на который Маркс обращал наибольшее внимание как на будущего творца социалистической революции, присваивая производимую рабочими прибавочную стоимость. Ошибка марксизма относительно перспектив социального прогресса во многом объясняется тем, что Маркс обратил внимание только на эту форму эксплуатации. Справедливо предположив, что стремление к присвоению прибавочной стоимости есть сущностная черта эксплуататорского класса, Маркс сделал отсюда неправильный вывод о неуклонном обнищании трудящихся й грядущей социалистической революции. Этот вывод оказался неверен: трудящиеся развитых стран не становились нищими, а революция произошла совсем не там, где ее ожидал Маркс – не в наиболее развитых странах, а в России, и, как потом выяснилось, эта революция была отнюдь не социалистической, хотя и антикапиталистической. Эта революция не имела к марксизму никакого отношения, если не считать того, что устроили ее люди, называвшие себя марксистами.
Ошибка Маркса заключалась в том, что он акцентировал внимание лишь на одной форме эксплуатации и присвоения прибавочной стоимости – эксплуатации рабочих. Между тем прибавочную стоимость может приносить не только физический труд рабочих, но и духовный труд интеллигенции, и эксплуатировать можно не только людей, но и природу, и такая терминология в отношении к природным ресурсам давно в ходу.
Таким образом, имеет смысл говорить о трех типах эксплуатации и извлечения прибавочной стоимости. Причина того, что благосостояние трудящихся развитых капиталистических стран не уменьшалось, а росло, заключалась в том, что правящий класс, снизив нормы присвоения прибавочной стоимости рабочих, усилил эксплуатацию идей и природы.
Иногда утверждается, что причина роста уровня жизни в развитых странах заключается в использовании достижений научно-технического прогресса. Если разделить этот довод на его составляющие, то и получится, что рост благосостояния правящего класса достигнут за счет, с одной стороны, эксплуатации новых научно-технических идей, а с другой – природы, поскольку новые идеи воплощаются в жизнь для увеличения эксплуатации природы, на что и нацеливался научно-технический прогресс.
Еще в начале 1960-х годов, когда экологический кризис только начинался, американский ученый Б. Коммонер привел данные о том, что наибольшие прибыли капиталистам приносят наиболее загрязняющие среду производства, от которых не отказывались именно потому, что они приносили сверхприбыль. Развитым капиталистическим странам удается избегать крупных экономических кризисов ценой увеличения эксплуатации природы и извлечения сверхприбыли из нее. Это, однако, и привело к глобальному экологическому кризису. Глобальному, так как многие страны бросились вслед за Западом использовать достижения НТР для эксплуатации природы. Не секрет, что экономика СССР в 70—80-е годы жила во многом за счет экспорта нефти и природного газа, т. е. за счет природных ресурсов, которыми богата наша страна.
Утверждают, что развитым капиталистическим странам удалось улучшить экологическую ситуацию благодаря огромным капиталовложениям и ужесточению законодательства в области охраны окружающей среды. При этом упускают добавить, какой ценой. Улучшение экологической ситуации в развитых странах Запада произошло также за счет перенесения наиболее загрязняющих производств в страны третьего мира и экспорта в них отходов экологически вредной деятельности. Сейчас делаются попытки превратить в такой же экологический отстойник развитых стран Запада территории бывшего СССР.
Это не решение экологических проблем, а их сдвиг. Остается справедливым, что классовые противоречия, проецируясь, перекладываясь на природу и разрешаясь за ее счет, только переходят из разряда социальных в разряд экологических, даже если имеется в виду природа не данной страны, а других стран.
Часто также спорят о том, на чем надо сосредоточиться в первую очередь: на решении социальных или экологических проблем. Эти споры лишены смысла. Решать и те и другие проблемы надо в комплексе.
4
Социальные аспекты экологического кризиса в ссср
Казалось бы, меньше проблем, связанных с природной средой, должно быть в обществе, назвавшем себя социалистическим. Однако в СССР, правители которого утверждали, что они построили развитое социалистическое общество, стремление обеспечить блага правящему номенклатурному классу также обеспечивалось как за счет трудящихся, так и за счет природы. Последнее, с целью удовлетворения растущих потребностей всех людей, было зафиксировано в явной форме. Более того, построение социализма постоянно связывалось с покорением природы, а главным противоречием социализма было провозглашено противоречие между человеком и природой. Лозунг «Мы не можем ждать милостей от природы: взять их у нее – наша задача» был руководящим в экологической сфере.
Утверждалось, что плановое хозяйство, существующее в СССР, способно решить экологические проблемы. Плановое хозяйство, если план составлен правильно, способно, но выяснилось, что планового хозяйства и не было, а был бюрократический беспредел. Административно-командная система делала, что хотела, и, конечно, не на пользу экологии.
«Наиболее опасным для всей природы было то, что система планирования рассматривала все природные ресурсы – землю, воду, месторождения руд, леса, – как государственную собственность, фактически бесплатный товар, цена которого для пользователя была либо минимальной, либо она сводилась к нулевой… Сам план и его выполнение стали двигателем разрушения, направленным на потребление, а не на сохранение природных богатств и человека в Советском Союзе» (М. Фешбах, А. Френдли. Экоцид в СССР. М., 1992. С. 32).
Так как именно государство было фактическим владельцем всех средств производства, интересы руководителей заводов и фабрик совпадали с интересами государственных чиновников, которые обычно поддерживали «отравителей» среды. За ухудшение экологической обстановки несет ответственность и многочисленное «экологическое чиновничество», которое было лишь прикрытием, санкционирующим экологический кризис.
Хотя в СССР принято много всевозможных законов и постановлений в области охраны среды, их и не думали выполнять, так же как и соблюдать нормы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Полный провал всех экологических обещаний и проектов – результат расхождения между словом и делом.
Дополнительную лепту вносит дезинформация правительства и средств массовой информации относительно действительного экологического положения. Это нужно не только для успокоения населения, но имеет дальний прицел. Сообщение о реальных размерах экологической опасности поставило бы под сомнение всю деятельность в тех областях, которые всегда были предметами государственной гордости.
Интенсивная природопреобразовательная деятельность продолжается поныне, и правители тратят на нее огромные средства и платят исполнителям немалые деньги. За преобразование платят больше, чем за охрану, потому что именно преобразование является символом прогресса и приносит большой доход и потому что преобразование природной среды помогает сохранить статус-кво в социально-политической области. Казалось бы, прогресс производительных сил должен вести (по теории) к изменению производственных отношений. Однако на практике получается иначе: развитие производительных сил способствует сохранению производственных отношений в неизменном виде. Да и в самом деле, зачем их менять, если производительные силы растут. В этом пункте, как и во многих других, идеология марксизма оказывалась полностью противоположной реальности вплоть до распада СССР в 1991 г.
В свое время Гегель заявил, что если его диалектика расходится с наукой, то тем хуже для науки. Советские правители считали, что если марксизм расходится с практикой, то тем хуже для последней. Однако сами они в своей политике ориентировались все же больше на материальную практику, чем на теорию, и пытались за счет так называемого технического прогресса обеспечить постоянство своей власти.
Недаром, однако, экологи писали как об экологическом законе о необходимости соответствия производительных сил и производственных отношений состоянию природной среды. Государство, допускающее экологические катастрофы, опасно, и его существование не имеет экологического оправдания. Причины такого поворота событий: полное пренебрежение к человеку как личности и его правам, в том числе и праву на здоровую природную среду. Все собственно личностные моменты были отброшены. Человек рассматривался только как производитель и потребитель произведенного под разговоры о воспитании нового человека и становлении целостной гармонически развитой личности. Через 5 лет после Чернобыля СССР перестал существовать, не в последнюю очередь по экологическим причинам.
Капиталистическая свобода товарного производства привела к так называемой «трагедии пастбищ», когда каждый предприниматель стремится охватить для эксплуатации как можно больший кусок природного целого; тоталитаризм – к психологии луддитства по отношению к природе. Вывод, что у капитализма и социализма нет преимуществ в экологической сфере, оказался правильным, имея в виду реальный, а не идеальный капитализм и социализм. Важно не то, в чьих руках формально находятся средства производства, а кто ими реально распоряжается. Важно и то, какой это человек, т. е. значение имеют прежде всего личностные качества человека, принимающего решения.
Что касается развивающихся и слаборазвитых стран, то здесь действует тот же классовый принцип: от экологических бед страдают в первую очередь бедные слои населения. Поэтому экологическая деградация приводит к росту экономического неравенства.
Развивающиеся страны пытаются броситься вдогонку за странами развитыми и подчас сознательно пренебрегают состоянием окружающей среды, чтобы поскорее достичь западного уровня производства и стандарта жизни. Подобная политика получила такое распространение, что даже был сформулирован «закон Грешэма» о деградации природы: страны с низкими требованиями к окружающей среде будут стараться взять верх над странами, где они выше. Такое «правило» может еще больше ухудшить глобальную экологическую обстановку на нашей планете.
То, что экологический кризис нарастает во всех странах мира, позволяет сделать вывод, что причины его не сводимы только к классовым, как и к культурным и другим социальным причинам, а имеют основания в глубинных ценностях, которыми руководствуется современный человек. Поэтому для преодоления угрозы глобальной экологической катастрофы необходимо эти ценности выявить, сформулировать их и наметить пути их изменения.