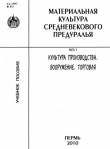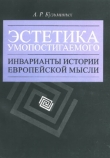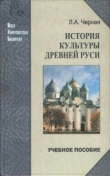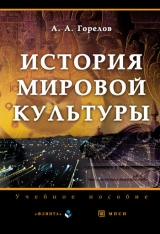
Текст книги "История мировой культуры"
Автор книги: Анатолий Горелов
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Жертвенность искусства
Афоризм «искусство требует жертв» настолько самоочевиден, что, кажется, никогда не оспаривался. В искусстве жертва играет такую же роль, как в мистике, подтверждая, что в культуре в целом жертва есть двигатель жизни. В отличие от мистических культов, где жертва – посторонний человек или «козел отпущения», – в искусстве жертвой является сам творец, начиная от безвестного древнего бродячего певца и кончая самыми последними примерами из жизни любого государства. Идея жертвы близка художникам, и сами они очень часто становились жертвами власти, толпы, своего искусства. Причина конфликта в том, что творец, уходя в сферу культуры от мирских практических взаимоотношений, всегда оказывался отделенным и противопоставленным остальной массе населения, включая ее вождей. А так как сила и количественное превосходство на стороне массы и правителя, художник неизбежно оказывается трагической стороной конфликта. Как правило, он хорошо себе представляет, на что идет, и, таким образом, его жертва добровольна. Тот огонь, который он чувствует в своей груди, призвание, которое в себе ощущает, не дают ему права свернуть с пути.
«Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен». Здесь слово «жертва» можно понимать буквально, и сам Пушкин тому пример. Деятель культуры в столкновении с жизнью выполняет роль жертвы, но это не значит, что он проигрывает. Благодаря телесной жертве он побеждает как творец, и тем самым культура одерживает победу. Наступает момент, когда Аполлон требует поэта к священной жертве, и поэт сознательно кладет свое сердце на алтарь культуры. В основе искусства лежит жертвенная любовь к миру.
Творец живет в двух мирах – мире духовной культуры и мире материальной жизни – и имеет две природы – творческую и потребительскую, противоречие между которыми разрешает жертвенная смерть. Искусство понимало значение жертвы. «Мать, мать! На крови твоего сына созидается храм будущего – раскрой же мне сердце твоей чудесной властью и благослови на смерть», – восклицает герой романа Л. Андреева Погодин (Андреев Л.Сашка Жегулев // Собр. соч.: В 6 т. М., 1994. Т. 4. С. 141). Н. А. Некрасову, воспевшему жертвенность, принадлежат такие строки:
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.
И его же:
Дело прочно, когда под ним струится кровь.
С пронзенных животных наскальной живописи до героев классической литературы (Фауста, который жертвует своей душой; князя Мышкина из «Идиота» Достоевского; Федора Протасова из «Живого трупа» Толстого и т. д. и т. п.) мы постоянно встречаемся в искусстве с жертвой. Архетип искусства как такового выразил С. Есенин:
Не ищи меня ты в Боге,
Не зови любить и жить.
Я хочу на той дороге
Буйну голову сложить.
Творец жертвует собой, но культура побеждает. Так мы приходим к глубинному пониманию того, что остается неясным в древних ритуалах жертвоприношения. Художник жертвует, чтобы жило искусство. Стремление к гибели Байрона, Пушкина, Лермонтова, метания Гоголя, терзания Достоевского, уход Толстого объясняются желанием добровольной жертвы. Стихи и романы – содержание искусства, – жертва – его энергия. Это та «энергия сожжения», из которой созидается пламя духа. Поэтому Достоевский хвалил свою каторгу, Толстой просил Леонтьева поскорее исполнить желание написать на него донос. В идее жертвенности непонятый смысл учения Л. Толстого о непротивлении злу насилием.
И в ХХ в., когда из всех искусств важнейшим стало кино, гениальный режиссер А. Тарковский назвал венчающий его карьеру фильм «Жертвоприношение». Он советовал молодым кинематографистам принести себя в жертву кино и воплотил идею жертвоприношения на экране. С обывательской точки зрения поступок героя, сжегшего собственный дом, – сумасшествие. С точки зрения изначальной жертвенности искусства – это жертва в чистом виде, возвращение к той жертве, с которой началось искусство.
Вопросы для повторения
• Что такое искусство?
• Под влиянием каких причин оно возникает?
• Чем отличается искусство от других отраслей культуры?
• Какие условия необходимы для возникновения новой отрасли культуры?
• Каковы функции искусства?
• Какие виды искусства вы знаете?
• Какие направления искусства существуют?
• В чем смысл искусства?
• Что можно сказать об искусстве XX в.?
• Каково значение искусства в наше время?
• Как искусство помогает становлению целостной гармонично развитой личности?
• Как понимать изречение «красота спасет мир»?
• Как понимать афоризм «искусство требует жертв»?
• О требовании какой священной жертвы Аполлоном писал Пушкин?
• В чем смысл фильма Тарковского «Жертвоприношение»?
Литература
1. Толстой Л. Н.Что такое искусство? // Собр. соч.: В 22 т. Т. 15. М., 1983.
2. Леви-Брюль Л.Первобытная мифология. М., 1930.
3. Поршнев Б. Ф.О начале человеческой истории. М., 1974.
4. Тэн И.Философия искусства. М., 1996.
5. Фрейд З.Основные психологические теории в психоанализе. М.; Пг., 1923.
6. Ницше Ф.Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1966.
7. Вико Д.Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994.
Глава 5
Мифология: становление духовной основы цивилизации
Дела, совершенные не ради жертвы, – оковы для мира.
Бхагаватгита
Что такое мифология?
Слово «мифология» происходит от «mythos» – предание, сказание, но как отрасль культуры есть целостное представление о мире, передаваемое, как правило, в форме устных повествований.
Мифология связана с антропоморфизмом (приписыванием явлениям природы человеческих свойств и поступков), фетишизмом (представлением о наделенности неодушевленных предметов сверхъестественной силой), тотемизмом (представлением о происхождении человеческих групп от животного или растительного предка), анимизмом (верой в одушевленность всего существующего).
Мифологию порой путают с мистикой, поскольку мистические представления занимают в мифах важное место. Многие мифы начинаются с представления о первобытном хаосе как мистической нерасчлененности бытия, хотя не останавливаются на этом. В качестве одной из своих аксиом Вико выдвигает такую: «Все варварские Истории имеют мифологические начала» (Вико Д.Основания… С. 86). Мифология, будучи связанной с захоронениями предков, является сущностным свойством человека. «Первых в мире богов создал страх», – писал римский поэт Папиний Статий (45 – ок. 99 гг. н. э.). Добавим, страх смерти – сильнейший из всех для большинства людей.
Миф отличается от сказки или легенды тем, что воспринимается как реальность. Р. Барт определяет миф в противоположность поэзии как «семиологическую систему, претендующую на то, чтобы превратиться в систему фактов; поэзия – это семиологическая система, стремящаяся редуцироваться до системы сущностей» (Барт Р.Избранные работы. М., 1994. С. 101).
О соотношении мифа с мистикой и искусством можно заключить из значений слов. Мистика – это таинственное, искусство, это сказание. Миф – сказание о таинственном. Мифология – это синтез мистики и искусства, дошедший до своего воплощения в целостных духовных произведениях, призванных объяснить наиболее важные события преимущественно начала истории. А. Н. Афанасьев выводил мифологию из особенностей образования языка и словотворчества. Творчество языка, которое все более иссякает и предается забвению, продолжается в новом виде творчества – мифологическом. Исходный смысл древних речений становился все темнее и загадочнее, и начинался неизбежный процесс, как говорит А. Н. Афанасьев, «мифических обольщений».
Из искусства появляется мифология, так как, по Вико, «первые Поэты наделяли тела бытием одушевленных субстанций, обладавших только тем, на что они сами были способны, т. е. чувством и страстью; так Поэты создавали из тел Мифы, и каждая метафора оказывается маленьким мифом» (Вико Д.Основания… С. 146). Итак, механизмом превращения искусства в мифологию был антропоморфизм.
Мифология появляется в виде разрозненных сказаний. Пока логическое мышление развито недостаточно, разноголосица между мифами не смущает. «Так как соотношение между каждым мифом и остальными таково, как если бы их друг для друга не существовало, то совершенно неизбежно, что между ними возникают противоречия. Однако какими вопиющими эти противоречия ни казались бы нам, туземцев они не смущают ни в малейшей мере. Они не уделяют им никакого внимания» (Леви-Брюль Л.Первобытная мифология… С. 257).
В мифологических текстах боги похожи на людей и обладают их достоинствами и пороками. Это результат того, что для первобытных людей не ясна разница между естественным (жизнью людей) и сверхъестественным (жизнью богов). Для того чтобы божественное предстало в идеальном варианте, необходим длительный период абстрагирующей деятельности. Своим идеальным характером религия отличается от мифологии. Это последующий этап развития культуры.
Интересна мысль К. Леви-Стросса, что миф образует мост между эмотивным опытом и интеллектуалистической мыслью. Мы бы сказали, мост между искусством, в основе которого лежат образы, и философией, в основе которой рациональное мышление. Постепенно под влиянием тенденции рационализации мифы становятся все более абстрагированными, усложненными, логичными и последовательными.
Мифология развивалась из отдельных произведений искусства, которые не обобщались до становления великих речных цивилизаций. Их создание – переломная точка перехода от искусства к мифологии. Мистика и искусство не отмирают, они отталкиваются на периферию культуры. Мифология же достигает своего расцвета в Египте, ближневосточных цивилизациях, Индии, Китае, Греции, переходя в Индии в религию, а в Греции в философию.
Становление цивилизации – социальная предпосылка развития и господства мифологии над другими отраслями культуры. Антропологическая – рост логичности мышления. Мистика вместе с искусством создает внутрикультурные условия для победы мифологии. Хотя есть доля истины в концепции Эвгемера о мифологизации истории, все же в мифологию изначально входит мистический компонент. В мифе соединяются мистика, искусство и жизнь в лице действующих культурных героев.
Мифологическое единство человека с природой
Древнейшие памятники культуры свидетельствуют об отношении человека к природе, которое можно назвать мифологическим. Э. Кассирер утверждал, что чувство единства с природой – самый сильный импульс мифологического мышления. Примитивный человек, по Кассиреру, способен делать различия между вещами, но гораздо сильнее у него чувство единства с природой, от которой он себя не отделяет.
Становление мифологических представлений накладывается на речевое единство человека и природы, которое переходит в единство мифологическое (комплекс мифологических представлений называют язычеством). Выстраивается цепочка: первая сигнальная система – слово – миф, и соответственно непосредственное единство человека с природой – мистическое – речевое – мифологическое. Речь была формой единства человека с природой в той мере, в какой имел место процесс словотворчества. С прекращением этого процесса язык мог разделять человека и природу, и потребовались иные формы единства. Таковыми стали мифы.
Каждый вид единства имеет качественное своеобразие, которое формируется на основе некоторых общих компонентов и специфических особенностей. В мифе большое значение имеют особенности психологии народа и его своеобразных представлений о жизни и смерти, которые не всегда заметны в обычном языке.
Для мифологического единства помимо сочувственного созерцания природы значение имеет все более полно сознаваемая любовь к ней, которая, впрочем, занимает важное место и на стадии речевого единства. При этом любовь понимается не как лишь человеческое свойство. В соответствии с присущей мифологической стадии мышления параллели между природой – макрокосмом – и человеком – микрокосмом, – сопоставления идут не только по линии уподобления внешнего облика человека явлениям природы (солнце, луна, гром, ветер, а в человеке – очи, глас, дыхание и «мгновение ока – яко молния»), но и по линии его душевного состояния и поведения. Любовь приобретает поэтому космическое значение и уподобляется теплоте от огня (сравните выражение «пламя страсти»), весеннему брачному соитию неба и земли.
В своем мифологическом мышлении человек воспринимал природу как живое существо, одушевлял и одухотворял ее. Отголоски этого находим в языке («солнце всходит и заходит», «ревела буря» и т. п.). Последнее, по-видимому, подтверждает идею А. Н. Афанасьева о том, что в самом начале творческого создания языка силам природы придавался личный характер, и, таким образом, речевому единству человека с природой также было присуще одушевление и одухотворение природы. Афанасьев объясняет всеобщее обожествление внушением метафорического языка и выводит, стало быть, мифологическое единство из языкового. Спецификой мифологического единства, по-видимому, является не обожествление и не его более творческий характер, чем у единства речевого, а скорее целостность, попытка представить человека и природу и их взаимодействие в космическом масштабе.
Символом обожествленного космоса с подчеркнутой идеей связи земного и небесного была концепция древа жизни. Природа мыслилась совершенной и гармоничной. Человек в своем творчестве также стремился достичь состояния совершенства и в то же время как бы обязывался поддерживать и прославлять совершенство в природе, чувствовал себя ответственным за это, поскольку не воспринимал природу как функционирующую независимо от его действий. На поддержание и сохранение порядка в природе были направлены ритуально-драматические обряды, элементы которых организовывались в соответствии с принципами соразмерности и гармонии. Гармония здесь общий признак, одинаково присущий творчеству и природе.
Для мифологического единства человека и природы характерны персонификация всей природы в виде единого божества с дополняющей его иерархией богов и представление о вечном воспроизводстве этого единства. Скажем несколько слов об одном божестве, важном для нашей темы. Это Лада – богиня брака и веселья, по А. С. Фаминцыну, связанная с весенними свадебными обрядами. Называя ее еще и богиней растительного плодородия, Б. А. Рыбаков сопоставляет ее с греческой богиней Лато и римской Латоной. То, что именно Лада является богиней брака, вполне понятно по самой этимологии слова, поскольку для семейной жизни столь важна гармония тех, кто семью составляет. Но наделение ее еще и функцией растительного плодородия свидетельствует о зачатках соединения гармонии социальной с тем, что может быть названо гармонией экологической.
Миф, по Р. Барту, превращает историю в природу. «Задача мифа заключается в том, чтобы придать исторически обусловленным интенциям статус природных, возвести исторически преходящие факты в ранг вечных» (Барт Р.Избранные работы… С. 111).
Мифология и цивилизация
Природные условия имели первостепенное значение для развития ранних цивилизаций. «С нашей точки зрения, основной причиной зарождения и развития цивилизации являются реки», – писал Мечников (Мечников ЛИИЦивилизация… С. 355). Соглашаясь с этим утверждением, нельзя не отметить причины культурной.
Цивилизация может возникнуть только на определенном этапе развития культуры, с которой связана неразрывными узами, находясь на границе мира культуры и мира материальной жизни человека. Как указывал О. Конт, «… образование всякого действительного общества, способного к устойчивому и длительному существованию, неизбежно предполагает непрерывное и преимущественное влияние некоторой предварительной системы общих воззрений, которые в состоянии достаточное время держать в узде бурное естественное развитие индивидуальных различий в мнениях». Эта роль настолько важна, что жрецы были особым и руководящим классом в различных обществах. Обратной стороной процесса омассовления культуры было то, что «повсюду цивилизация нарушала естественное равновесие способностей и наклонностей, подавляла одни из них и преувеличивала другие, жертвовала будущей жизни настоящей, божеству – человеком, государству – личностью; она создала индийского факира, египетского или китайского чиновника, римского законника и сыщика, средневекового монаха, подданного, подначального (и опекаемого повсюду) гражданина новых времен» (Тэн И.Философия искусства. М., 1996. С. 208).
Цивилизации, обеспечившие материальными благами людей, возникли на мифологической основе. Именно мифология смогла культурно объединить людей в громадные сообщества. Цивилизация стала возможной с главенства мифологии в культуре, давшей набор общезначимых образов и ритуалов. Сплачивавшая население мифология как система взглядов на мир, позволявшая говорить о едином мировоззрении целых народов, является духовным ядром цивилизации.
Цивилизация потребовала письменности для общения в процессе работы той гигантской мегамашины, которая была создана в Египте в первую очередь для постройки пирамид и для запечатления в вечности напутствий умирающему человеку. Поэтому первым письменным произведением стала «Книга мертвых». С изобретения письменности культура растекается по широким массам и, как вода в долине, теряет свою энергию и силу. Это совпадает с наступлением бронзового века. Тогда же возникают города – большие скопления людей в огораживаемом месте, имеющем рынок.
Не только культура ведет к становлению цивилизации как своей конечной стадии, но и цивилизация влияет на развитие культуры. Она создает человека, умеющего пользоваться папирусом, но разница между культурным и цивилизованным человеком такая же, как между произведением культуры и его копией.
Шаг от культуры к цивилизации сделан с помощью мифологии, но за него пришлось заплатить отказом от свободы ради единства. Эта жертва потребовалась для создания новой отрасли культуры и обеспечила ей главенствующее положение в обществе.
Мифология и жертвы
У всех так называемых примитивных народов важнейшие обряды связаны с жертвоприношениями духам. А. Ельчанинов пишет, что «покинутые дома или места погребения, могилы немедленно становятся священными местами, где воздвигается алтарь (если этим алтарем не служит могильная плита), где приносятся жертвы и совершаются моления. Хижина покойника превращается в небольшой храм; таким же храмом делается пещера или могила, если она устроена не в доме покойного. Насколько глубока и как естественно неизбежна идея связи трупа с храмом показывает пример всех великих религий» (История религии. М., 1991. С. 26). Во многих культах жертвоприношения являются главным мифологическим действом. Они остаются в развитых мифологических культурах и затем переходят в религии.
В мифологии впервые оформилась идея появления мира как жертвы. В японском мифе о сотворении мира встречаем представление о зарождении съедобных растений непосредственно из тела Богини. «Это зарождение соотвествует смерти Изанами, то есть ее самопожертвованию» (Элиаде М.Мифы… С. 212). Элиаде делает общий вывод, что сотворение полностью завершается или иерогамией, или насильственной смертью. «Действительно миф о происхождении съедобных растений – широко распространенный миф – всегда связан с добровольным самопожертвованием божественного существа, которое может быть матерью, девушкой, ребенком или мужчиной» (Там же). В соответствии с имеющим широкое распространение и встречающимся во множестве форм и разновидностей мифом, продолжает Элиаде, «сотворение не может свершиться без принесения в жертву живого существа – первобытного обоеполого гиганта, космического Мужчины, Матери-Богини или мифической Девушки. Мы также видим, что» Сотворение» относится ко всем уровням существования, будь то Сотворение космоса или человечества, или какой‑то отдельной человеческой расы, или конкретных видов растений или животных. Структура мифа остается одной и той же: ничто не может быть создано без жертвоприношения, без жертвы… Жизнь может произойти только от другой жизни, которая приносится в жертву. Насильственная смерть созидательна в том смысле, что приносимая в жертву жизнь проявляется в более выдающейся форме и на другом уровне существования. Это жертвоприношение приводит к огромному переносу: жизнь, сконцентрированная в одной личности, выходит за ее пределы и проявляется на космическом или совокупном уровне. Единственное существо трансформируется в Космос или возрождается во множестве видов растений или человеческих рас. Живое» целое» разрывается на фрагменты и рассеивается мириадами одушевленных форм» (Там же. С. 213, 214). Возможно, мифы эти созданы в период неолитической революции под влиянием перехода к сельскому хозяйству. Периодическая плодовитость земли отмечается праздниками, во время которых приносятся жертвы и даже происходят массовые самопожертвования, как во время римских сатурналий. Оргии символизируют возвращение в первоначальный хаос.
Обычай человеческих жертвоприношений относится к более развитым классовым обществам. Человеческие жертвоприношения, по-видимому, были распространены и в Старом, и в Новом Свете, у греков, римлян, германцев и других народов. «Даже отвратительное жертвоприношение детей, преподносимых Молоху, имело глубоко религиозное значение. Этим жертвоприношением человек возвращал божеству то, что тому принадлежало, так как первый ребенок часто считался ребенком Бога. Действительно, по всему архаическому Востоку существовал обычай, согласно которому молодые девушки проводили ночь в храме, чтобы зачать от Бога (то есть от его представителя – священника или от его посланника – «незнакомца»). Таким образом, кровь ребенка восполняла затраченную энергию бога, потому что в целях так называемого плодородия божества расходовали свою собственную субстанцию на усилия, требуемые для поддержания мира и обеспечения его богатства, а следовательно, и сами время от времени нуждались в восстановлении» (Элиаде М.Мифы… С. 163).
Жертва в мифологии – знак покорности и благоговения человека перед божеством. А. Ельчанинов отмечает, что при жертвоприношении «подчеркивается именно момент жертвы, лишения, отказа поклонника от чего‑либо ценного ради Бога» (История религии… С. 26). Причем этот момент, в отличие от жертвы ради «насыщения» бога, свое полное развитие получает в позднейших культах. «Классическим примером такого рода жертвы будет принесение финикийцами в жертву Молоху своих первенцев. Явно, что для насыщения бога безразлично, принесен ли в жертву единственный сын, или нет, так что жертва измеряется не ценностью ее для бога, а тяжестью ее для жертвователя» (Там же. С. 21).
Бог и человек как бы соревнуются между собой. «Божество, довольно часто выступавшее в образе девушки, иногда – ребенка или мужчины, согласилось быть принесенным в жертву, чтобы из его тела смогли вырасти клубни плодоносящих растений. Это первое убийство радикально изменило образ бытия человеческой расы» (Элиаде М.Мифы… С. 47–48). Отсюда сама пища становится священной. «Убивая и поедая свиней во время торжеств и поедая первые плоды урожая корнеплодов, человек поедает божественную плоть точно так же, как и во время празднеств каннибалов. Съедобное растение не предоставлено природой. Оно является продуктом убийства, потому что именно таким образом оно было сотворено в начале времен» (Там же. С. 49).
«Смерть, сама по себе, не является определенным концом или абсолютным уничтожением, как иногда считается в современном мире. Смерть приравнивается к семени, которое засеивается в чрево Матери-Земли, чтобы дать рождение новому растению… Вот почему тела, захороненные в период неолита, находят лежащими в зародышевом положении… Люди в своей смерти и погребении были жертвоприношениями Земле. В конечном итоге, именно благодаря этому жертвоприношению может продолжаться жизнь и люди надеются после смерти вернуться обратно к жизни. Пугающий аспект Матери-Земли как Богини Смерти объясняется космической неизбежностью жертвоприношения, которое лишь одно позволяет перейти от одной формы существования к другой, а также обеспечивает непрерывный круговорот Жизни» (Там же. С. 219–220).
В мифологической культуре, как и в первобытной, жертва предстает как источник и двигатель жизни. По Элиаде, «человек архаических обществ стремился победить смерть, придавая ей такое значение, что, в конечном итоге, она перестала быть прекращением, а стала обрядом перехода. Другими словами, для примитивных народов человек умирает по отношению к чему‑то, что не является существенным, человек умирает для мирской жизни» (Там же. С. 264).
Жертва в мифологии – коллективная жертва, как само мифологическое сознание – коллективное сознание. Начиная с философии появляется индивидуальное сознание и личная жертва, доходящая до жертвы собственной личностью.
Как подчеркивает Элиаде, в большинстве мифов речь идет о добровольной смерти. С добровольной жертвой связан образ Феникса, который «вечно приготовляет сам для себя костер и сгорает на нем, а из пепла его вечно возникает обновившаяся молодая, свежая жизнь. Однако этот образ является лишь азиатским, восточным, а не западным. Дух, уничтожая телесную оболочку своего существования, не только переходит в другую телесную оболочку и не только в обновленном виде воскресает из пепла, в который обратилась его прежняя телесная форма, но он возникает из этого пепла, возвышаясь и преображаясь при этом как более чистый дух… Если мы будем рассматривать дух с этой стороны, так что его изменения являются не только переходом как обновлением, то есть возвращением к той же форме, а скорее переработкой его самого, посредством которой он умножает материал для своих опытов, то мы увидим, что он во многих направлениях многосторонне пробует себя и наслаждается своим творчеством, которое неистощимо, так как каждое из его созданий, в котором он нашел для себя удовлетворение, в свою очередь, оказывается по отношению к нему материалом и вновь требует переработки» (Г. Гегель. Цит. по: Философия истории. М., 1995. С. 94). Это уже философская интерпретация мифологии.
Вот как описывает Элиаде реальную добровольную жертву. «Meriah – добровольная жертва, покупаемая общиной. Ему разрешалось жить годами, он мог жениться и иметь детей. За несколько дней до жертвоприношения meriah освящался, т. е. отождествлялся с божеством, которому будет принесен в жертву. Люди танцевали вокруг него и поклонялись ему. После этого они молились Земле: «О, Богиня, мы преподносим тебе эту жертву, дай нам богатые урожаи, хорошие времена года и крепкое здоровье!«И они добавляли, поворачиваясь к жертве: «Мы купили тебя, а не захватили тебя силой: теперь мы приносим тебя в жертву и пусть не лежит на нас никакой грех!«Церемония также включала оргию (олицетворяющую регрессию до изначального хаоса. – А. Г.),которая длилась несколько дней. В конце концов meriah опаивали опиумом и, задушив, разрезали на куски. Каждая из деревень получала часть его тела, которую затем захороняли на полях. Остаток тела сжигался, а пепел разбрасывался по земле» (Элиаде М.Мифы… С. 218).
В мифах различных народов жертвоприношение совершается для победы над силами зла (это подробно объясняется в зороастризме). Языческие жертвоприношения очищают человека от грехов и обеспечивают милость богов и нормальное функционирование мира. В дальнейшем мы увидим, что смерть и жертва дают рождение новым отраслям культуры.