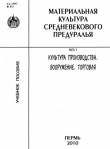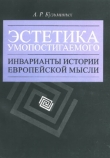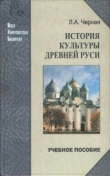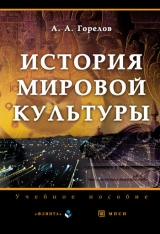
Текст книги "История мировой культуры"
Автор книги: Анатолий Горелов
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Современная мистика
Наше время зачаровано мистикой. Особенно волна мистических увлечений захлестнула Россию. В современной мистике много от представлений первобытных народов. Все нынешние суеверия имеют древнюю основу. По мнению Элиаде, «экстаз временно и для ограниченного числа людей-мистиков – воссоздает первоначальное состояние человечества» (Элиаде М.Цит. соч. С. 70). Так называемые посвященные – это люди, могущие поднять со дна духовной культуры раковины с жемчугом.
Мы сталкиваемся с двумя вещами: с одной стороны, повышенный интерес к мистике; с другой – искреннее удивление, как цивилизованный человек может вдруг в такое впасть. Может, вопервых потому, что он – потребитель культуры, а во-вторых, возврат к мистике как древнему феномену, который навсегда остается внутри нас, никогда не исключен. Правополушарное мистическое мышление может выйти на первый план в любой момент в случае, если левое полушарие подчинится ему и будет нейтрализовано. Люди проваливаются в мистику, как в сон, когда снимаются более высокие этажи культуры. Современная мода на мистику вызвана падением престижа всех других отраслей культуры. Скатывание в мистику происходит, когда нет возможности удержаться за уступы философии, науки и т. д.
Возможно ли сообщаемое в тысячах мистических сочинений? В принципе да, тем более что в мистике имеем дело со знанием, которое трудно проверить. Сейчас много жертв мистических увлечений, поскольку она очень удобна для внедрения: 1) ее нельзя опровергнуть (как науку); 2) не надо обосновывать (как философию); 3) она не нуждается в таланте (как искусство); 4) не обременена соблюдением традиций (как религия); 5) не навязывается (как идеология); 6) не нуждается в каких‑либо материальных механизмах (как техника) и в знании преданий (как мифология).
Особенность современного исследования мистики заключается в том, что она изучается не в рамках какой‑либо другой отрасли культуры, а сама по себе в своей самоценности и первозданности. Это, по крайней мере, позволяет сделать вывод, что мистические озарения идут из глубин человеческой психики, из ее нижних (по происхождению изначальных) этажей. В мистических рассказах описывается исчезновение пространства, времени и ощущения личности. Мир теряет форму и содержание. Остается чистое абсолютное Я и откровение смысла жизни.
Мистицизм обычно противопоставляют рационализму. Это справедливо в том смысле, что роль мистицизма в обществе в принципе постепенно убывает, а роль рационализма увеличивается. Это два процесса, идущие в разные стороны. «Источник этих (мистических. – А. Г.)интуиций, – пишет В. Джемс, – лежит в нашей природе гораздо глубже той шумно проявляющейся в словах поверхности, на которой живет рационализм» (Джемс В.Цит. соч. С. 70–71). Это так, потому что более раннее находится в психике глубже образовавшегося позднее.
Значение мистики
Значение мистики прежде всего в том, что она формирует представления о сверхъестественном и культурных героях, являющихся создателями всего существующего. Образ культурного героя есть образ «предка», с захоронения которого начались культы. В нем культура хранит воспоминание о своем исходном пункте (слово «захоронение» однокоренное со словом «хранение»). То, что культурные герои зачастую оказываются полуживотными-полулюдьми, свидетельствует о том, что в мистических представлениях мир культуры тесно связан с миром природы и миром человека, причем между этими мирами существует единство, которое может быть названо не только мистическим, но в широком смысле слова культурным. «Предки» понимаются великими скорее в духовном, чем в физическом отношении, обладающими способностями, в сильнейшей степени превосходящими способности нынешних колдунов и экстрасенсов.
Культурные герои в современных учениях порой принимают вид Учителей Человечества. «В своих духовных достижениях и психических возможностях каждый из Великих Учителей неизмеримо раздвинул рамки привычных границ пространства, времени и вещества и потому его можно считать Полным, Цельным Человеком, в то время как обыкновенный индивид на сегодняшней стадии эволюции пока еще представляет собой фрагмент подлинного Человека» (Ключников С. Ю.Провозвестница эпохи огня. М., 1991. С. 57). Одно из достижений мистики заключается в представлении о высших совершенных существах, восходить к которым должен человек.
В мистике человек отождествляет себя и культурного героя-предка и пытается сохранить то, чего он лишился в процессе эволюции. М. Элиаде пишет, что уход от времени и отказ от истории являются существенно важными элементами всех мистических переживаний. Первое помогает преодолению страха смерти. «Достигнув этого состояния мистического экстаза, первобытный человек не чувствует себя больше беззащитным перед неподдающимися предвидению угрозами сверхъестественного мира. Он обрел в этом мире нечто даже большее и лучшее, чем помощь, чем защиту, чем союзников. Сопричастие, реализованное церемониями, – вот в чем его спасение» (Леви-Брюль Л.Сверхъестественное в первобытном мышлении… С. 129). Значение мистики в том, что оно дает «анестезиологическое откровение», сообщающее покой душе, дает разгадку тайны, содержащейся в самой этимологии данного термина, хотя ее нельзя передать другим в силу неизреченности мистических интуиций. Последующие отрасли культуры и пытаются найти словесную формулировку данных откровений.
В сознании неизбежно присутствует личное Я, а стало быть, представление о смерти. Выход из сознания (или, как еще говорят, приобретение космического сознания, сверхсознания) позволяет преодолеть осознание смертности и страх смерти. Борясь против смерти, мистика соединяет человека с Вечным. «Это не было убеждение, что я достигну бессмертия, это было чувство, что я уже обладаю им», – говорится в одном из сообщений (Джемс В.Цит. соч. С. 318).
С мистикой тесно связана магия, которая находится в таком же отношении к мистике, как техника к науке. Магия – техника мистики, а магические обряды – прообразы последующих более развитых ритуалов. Многие магические действа основаны на стремлении вызвать какое‑либо явление природы путем подражания ему, и это свидетельствует о больших возможностях подражания первобытного человека и значении, которое он этому придавал. Мистический закон сопричастности по форме (нарисуй изображение врага и проколи его – враг умрет) и по содержанию (заклинание, прочитанное над волоском с головы человека, гарантирует его любовь) – как хорошо должны были первобытные люди относиться друг к другу, боясь обидеть ближнего, если верили в это! Мистическая культура не создала цивилизации, так как мистика не выходит вовне из сферы духа. Но без нее последующая эволюция была бы невозможна.
Мистическая духовность еще не является в полном виде разумной деятельностью, но она также и не относится к области чувств, так как ее истоком не являются пять чувств человека (иногда имея ее в виду, говорят о шестом чувстве). Это как бы нечто переходное между чувствами и разумом, особый канал связи и приобретения информации.
Мистику можно сопоставить с первым фазисом теологического мышления, по О. Конту. Говоря о трех фазисах теологической стадии мышления – фетишизме, политеизме, монотеизме, – Конт, по существу, имеет в виду три отрасли культуры: мистику, мифологию, религию. На стадии фетишизма, по Конту, преобладают инстинкт и чувство; на стадии политеизма – воображение (главное, что необходимо для искусства, которое упустил из виду Конт). Конт считал, что во втором фазисе предметы лишаются навязанной им жизни, переносимой отныне на вымышленные существа. Здесь подмечен переход мистики в мифологию и процесс становления логического мышления. Внутренняя жизнь отходит от вещей и рассматривается сама по себе. Затем, полагает Конт, разум начинает все более и более сокращать прежнее господство воображения. Происходит постепенный переход от мифологии к философии, от теологической к метафизической стадии. Теперь ясно, что на пути рационализма можно выделить не три, а больше стадий. Все началось с дологической стадии, на которой сформировались мистика и искусство. Лишь на стадии мифологии появилась логика, необходимая для того, имело место объяснение как таковое. Каждая предыдущая стадия не сдавалась (да и не сдалась до сих пор), а пыталась взять реванш в иной форме с использованием достижений других стадий, что и удалось дважды (религия и идеология).
Мистика жертвы
Считая древнейшим культ умерших, Г. Спенсер относил к первоначальному виду жертвоприношений «кормление» покойников. Вторая стадия жертвоприношения – жертвоприношения духам и богам, третья – принесение в жертву себя. Без этого невозможно соединение с Единым.
Когда появились жертвоприношения, сказать нельзя, но они известны в самых примитивных культурах собирателей. Принесение в жертву представляет собой освящение жертвы, которой может быть и животное (в том числе тотемное), и человек. Так как жертва почитается священной, то вкушение жертвенного мяса – это как бы поедание Бога (в христианстве такую роль выполняет причастие: люди распяли пожертвовавшего собой Бога и во время литургии в символической форме причащаются его телом и кровью). Получалось так, что священное животное, родовое божество приносилось как бы в жертву самому себе.
Мистика присутствует в жертвоприношениях на всех исторических стадиях, например, в представлении о мистических свойствах крови как очистительном средстве. «Многие весьма распространенные среди первобытных людей обряды, более или менее различающиеся в деталях, имеют целью использовать мистические свойства крови, добиваясь сопричастия им определенных предметов и определенных существ. Так, в Британской Новой Гвинее… девять человек этих туземцев поднялись по реке Сприби, чтобы построить себе лодку. Когда последняя была готова, туземцы принялись искать жертву, кровью которой они должны были крестить лодку согласно своему обычаю. Они встретили одного несчастного туземца с реки Сприби, которого и убили» (Леви-Брюль Л.Сверхъестественное… С. 213–214). Часто жертва приносилась в начале строительства, и таких примеров можно привести множество. Подобные вещи Леви-Брюль квалифицирует как «мистическую гигиену». Вспомним, что кровопускание долгое время рассматривалось медициной в качестве универсального лекарства от всех болезней для животных и людей. Кровь в этом случае выступает как мистическая сила. «Это жизненное начало борется с другой силой, такой же невидимой, с другим зловредным началом, с дурным влиянием, каковым является болезнь. Кровь имеет силу колдовского средства, лекарства, одерживающего победу над околдованием» (Там же. С. 215). Это справедливо, однако, лишь в случае, когда кровь выходит из тела преднамеренно, т. е. когда речь идет о жертве.
В мифологии это мистическое представление трансформируется в идею очистительной жертвы, которая приносится во время обряда жертвоприношения. «Тот, кто вольно или невольно нарушил традиционные правила и в силу этого считает себя находящимся в преддверии несчастья (нарушение табу сделало его нечистым), тот, кого преследует неудача (доказательство того, что он находится под действием дурного влияния), должен совершить церемонию очищения при посредстве крови из сердца животного, которое обычно указывается ему ведуном или знахарем. Животное приносится в жертву и чаще всего съедается стариками около священного огня. Тот, кто хочет совершить над собой обряд очищения, не получает своей доли мяса. Он обязан энергично натирать верхнюю часть тела и руки кровью, проделывая это до тех пор, пока все корки грязи, наросшие на его теле и несчищавшиеся, быть может, в течение многих лет, не отстанут от кожи и не смешаются с этой кровью» (Там же. С. 224).
Освободиться от своих грехов можно и с помощью так назваемого «козла отпущения», в роли которого выступают различные животные и даже растения.
По мнению Робертсона Смита, кровь тотемического животного символизирует единство общины, а ритуальное умерщвление и поедание тотемического животного есть заключение «кровного союза» общины с ее богом.
К теме «культура и жертва» мы будем возвращаться не раз. Пока отметим, что захоронение предков было первой жертвой человека, породившей духовную культуру. Человек все более отходил от окружающего мира, но стремился вернуться в него с помощью жертв, призванных восстановить утрачиваемое единство. Развитие словесной культуры сопровождалось мистическим отказом от слова (христианские молчальники), поскольку, как утверждал еще Лао-цзы, «говорящий не знает, а знающий не говорит». Мистика отказывается и от разума, от всего, присущего человеку на более высоких стадиях развития. Наконец, мистика настаивает на отказе от личности, т. е. на жертве основным, что есть у человека и что рассматривается тождественным самой его жизни. Это присуще буддизму, в котором отказ от личности составляет высшую ступень восьмеричного пути Будды; есть это и в христианской мистике. В видении одной женщины, описанном В. Джемсом, Бог, по ее словам, «как бы покупал ценою моей боли свое существование… Через меня Он свершил нечто, – что именно и по отношению к кому, не знаю – употребив на это все страдание, на какое я была способна» (Джемс В.Многообразие… С. 313). Вывод: «вечная необходимость страдания и его вечное назначение свидетельствовать о том, что кроется за ним» (Там же). «Гений похож на человека, – заключает В. Джемс, – который приносит в жертву свою жизнь, чтобы приобрести достаточно средств для спасения от голода своей округи; и в то время, как он, умирающий, но удовлетворенный, приносит сотню тысяч рупий, необходимых для покупки хлеба, Бог отбирает у него эти деньги, оставляя ему лишь одну рупию, со словами: «Вот это ты можешь отдать им; только это ты приобрел для них. Остальное – для Меня»» (Там же. С. 314).
Человек приносит в жертву самое дорогое для него – разум, речь, личность. Ради чего? Ради истины, которую говорящий не может высказать; ради культуры, которая сопровождает человека на всем пути его становления и существования. Жертва предстает как двигатель жизни – и не только в первобытной культуре.
Вопросы для повторения
• Что такое мистика?
• Каковы ее характерные свойства?
• На каком этапе развития человечества возникает мистика?
• Что такое дологическое мышление?
• Как тотемизм, анимизм, фетишизм связаны с мистическим отношением к действительности?
• В чем причина единства первобытного человека с природой?
• Какое значение имеет мистика для развития других отраслей культуры?
• Почему всегда в принципе возможно, а в последнее время имеет место увлечение мистикой?
• Как соотносится мистическое и рациональное?
• Каково значение мистики?
• Кого называют культурными героями и Учителями Человечества?
• Как связано возникновение мистики с преодолением страха смерти у первобытного человека?
• Что такое магия?
• Как соотносятся мистика и магия?
• Как связаны с мистическими представлениями жертвоприношения?
Литература
1. Фрэзер Дж.Золотая ветвь. М., 1980.
2. Леви-Брюль Л.Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.
3. Элиаде М.Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
4. Мистическое богословие. Киев, 1991.
5. Джемс В.Многообразие религиозного опыта. СПб., 1992.
6. Штайнер Р.Христианство как мистический факт и мистерии древности. Ереван, 1991.
Глава 4
Искусство: становление видимой духовной культуры
Искусство требует жертв.
Что такое искусство?
Искусство – отрасль культуры, выражающая не практическое, а эстетическое отношение к действительности. Предпосылкой возникновения искусства выступает мистическое воображение, направленное на достижение определенных культурных целей. «Вряд ли можно сомневаться в том, что все человеческое искусство первоначально развивалось на службе ритуала и что автономное искусство – «искуство для искусства» – появилось лишь на следующем этапе культурного развития» (Лоренц К.Агрессия. М., 1994. С. 83). Постепенно воображение отрывалось от мистических корней и становилось самоценным. А когда оно довлеет и претендует на решение основных проблем, стоящих перед человеком, искусство становится главенствующей отраслью культуры.
Искусство – синтез мистики и языка (в том числе языка живописи, пластики и иных форм культуры), и чем большее значение приобретали речь и мышление, тем выше становилась роль искусства. Когда слово появилось, оно должно было рассматриваться как нечто сверхъестественное хотя бы потому, что имело огромное социальное значение, и это отразилось на значении искусства. Литература вырастала из словотворчества, творила язык, который затем использовался для создания мифологии.
Искусство создает эмоциональные связи в условиях, когда логические связи еще отсутствуют. В этом смысле искусство названо «мышлением в образах». Вначале так и было. На следующем этапе эмоциональные связи будут заменяться логическими, приближая искусство к мифологии и философии.
Танцами, наскальными рисунками искусство было на службе мистики, а точнее, магии, которая вдохновлялась мистическими представлениями. И тем не менее это была не только видимая, но и рационализированная мистика, поскольку в самой дифферен-цированности произведений искусства, их построении, композиции и содержании должны присутствовать элементы рациональности. Говоря точнее, искусство изначально – не мышление в образах, а образы, ведущие к мышлению. В своем развитом виде искусство – целостное мышление-чувствование, в котором слиты отражательный, воображательный и смысловой моменты. Этим искусство отличается от науки, религии и философии, поскольку в первой преобладает отвлеченно-рациональный отражательный момент, во второй – отвлеченно-чувственный воображательный, а в третьей – смысловой, определяемый главным для философии – поиском смысла жизни как высшей цели.
Искусство рассматривалось Л. Н. Толстым как способ единения людей на чувственном уровне. «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их» (Толстой Л. Н.Что такое искусство? // Собр. соч. Т. XV. М., 1983. С. 80). Это определение искусства хорошо согласуется с высокой ролью подражания и внушения в жизни первобытного человека.
Это же рождающееся чувство сопереживания, общее для всей культуры, роднит искусство с мистикой. Как и мистика, искусство основано на отождествлении. «Настоящее произведение искусства делает то, что сознание воспринимающего уничтожает разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом‑то освобождении личности от своего отделения от других людей, своего одиночества, в этом‑то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства» (Там же. С. 165). Это слияние достигается не непосредственно, как в мистике, а опосредованно через звуки, слова, движения. Цель искусства, по Толстому, – любовное единение всех людей, и вдохновляется оно любовью, помогающей передавать свои чувства другим.
Вывод Толстого имеет отношение к культуре в целом. Вся культура является способом единения людей, а различные отрасли ее отличаются тем, как именно оно осуществляется. Искусство объединяет людей на уровне воображения, как религия – на уровне веры, философия – на уровне понятий, наука – на уровне теорий. Искусство в социальном смысле отличается от других отраслей культуры формой, но не сутью.
Главным мерилом искусства Толстой считал степень заразительности, хотя важно, конечно, и внутреннее совершенство. Подлинное произведение искусства способно перевернуть душу человека и его жизнь. Искусство самоценно в себе самом и не должно подчиняться какой‑либо внешней идее. Но как отрасль культуры оно отвечает высшим потребностям людей и главенствует тогда, когда составляет сердцевину их поисков и переживаний. Вершиной искусства остается время, когда, появившись в форме обрядов и ритуалов, оно играло основную духовную роль в жизни людей, объединяя в них то, что преобладало, пока они не стали видом Homo sapiens, – их чувства.
Происхождение искусства
Духовную культуру можно разделить на невидимую и видимую. К первой относится мистика. Искусство – начало видимой духовной культуры. В своем происхождении оно не что иное, как объективизация мистики. Духовная культура в целом исходит из культа, и искусство является видимым проявлением его, можно сказать, видимой мистикой. Искусство фиксирует прозрения мистики и практической деятельности людей. Выйдя из мистики, искусство – следствие и отрицание ее. Вначале искусство интенсивно мистично, потом все дальше отходит от мистики, но никогда насовсем.
Если истоки мистики коренятся в самом происхождении мира, то истоки искусства – в эволюции природы, и мы замечаем их в животном мире. Искусство основывается на чувствах, а чувства в большей или меньшей степени испытывают и животные. К. Лоренц пишет о триумфальной песне диких гусей, а Д. Вико полагал, что героический стих родился из ликования.
Для того чтобы сформировалась новая отрасль культуры, необходимы три условия. Первое – соответствие ее стадии развития человека. Это условие налицо на этапе перехода от неандертальца к Человеку Разумному, когда стали формироваться образы, мышление и речь. Искусство появляется, когда вычленяются образы, но нет еще понятийного мышления. На пути от неандертальца к Человеку Разумному (а истоки подобного подхода прослеживаются в животном мире) брали какую‑нибудь одну черту предмета и называли ею его целиком: «голова» вместо «человека», «парус» вместо «корабля», «острие» или «железо» вместо «меча» и т. д. До сих пор у некоторых примитивных народов обобщающая сила мышления столь слаба, что они имеют, скажем, много слов для обозначения разных видов снега, но не имеют слова, обозначающего снег как таковой. Это частное определение и ведет к появлению в первую очередь более метафоричных видов искусства. Вико делает вывод, что «поэзия зародилась вследствие недостаточности человеческого рассудка и что из-за появившихся впоследствии Философии, Искусства, Поэтики и Критики, и даже как раз вследствие их, не появилось другой Поэзии, даже равной, не говоря уже о большей» (Вико Д.Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994. С. 137).
Второе. Каждая предыдущая отрасль создает почву для следующей. Это условие в виде закона мистической всесвязанности тоже соблюдается. Наконец, третье условие – социальное. В обществе должны произойти изменения, которые дают стимул развитию данной отрасли культуры. Таковым стало, по Б. Ф. Поршневу, появление частной собственности.
Причина возникновения искусства в ранние времена видится многими исследователями в том, что искусство – это подражание природе, а подражание было сильно развито в первобытном человечестве, как и в современных детях. Как говорит Д. Вико, «люди детского мира были по природе возвышенными Поэтами» (Там же. С. 84). И чуть ниже: «детский мир состоял из поэтических наций, так как поэзия – не что иное, как Подражание» (Там же. С. 88). Здесь искусство возводится к начальным этапам культуры на том основании, что для него имеет большое значение подражание, свойственное детям и первобытным людям. Люди способны на подражание в высшей степени. Но почему эта способность именно в данное время привела к искусству? Чтобы иметь то, что запрещено после введения частной собственности, отвечает Поршнев. За отождествление же образа и вещи ответственна мистика. Таким образом, каждая последующая отрасль вырастает из предыдущей и потребностей среды.
Эволюция жизни с сохранением особенностей мистического отношения к действительности привела к искусству. Искусство начинается с того момента, когда мы можем что‑то сделать или сказать. И чем лучше мы делаем или говорим, тем мы искусней. Отсюда и производство называлось «поэма», а искусство – «технэ».
Искусство навсегда останется юностью человечества. «Как в старости человек вспоминает свою юность и справляет праздники воспоминания, так и отношение человечества к искусству будет скоро трогательным воспоминанием о радостях юности», – писал столь нравящийся молодежи Ф. Ницше (Ницше Ф.Человеческое, слишком человеческое // Соч.: В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 357). Противопоставляя Диониса и Аполлона, Ницше считал, что искусство как аполлоновское рождается из первоначального хаоса дионисийства. Этот первобытный хаос мистичен. Поскольку мистика лежит в основе духовной культуры, можно сказать, что в основе всех отраслей культуры лежит исходный хаос. Источником искусства, по Ницше, являются два бога – Аполлон и Дионис, красота и хаос. Красота появляется из хаоса и создает произведение искусства. Говоря о двух мирах искусства, различных в их глубочайшем существе, Ницше нащупывает историческое место искусства между мистикой Диониса и мифологией Аполлона. Искусство идет от Диониса к Аполлону. Для того чтобы мистическое начало искусства не разрушило индивида, требуется, по Ницше, гармония Диониса и Аполлона, называемая им предустановленной гармонией. Говоря о взаимодействии Диониса и Аполлона в создании искусства, Ницше в мифологической оболочке представил процесс вырастания образов из мистики.
В мистике образ тождествен предмету. По закону сопричастности наскальные рисунки пронзенных стрелами диких животных появились потому, что первобытные охотники верили в то, что такие изображения воплотятся в жизнь на охоте. Связь данных изображений с местами захоронений позволяет также предполагать, что доисторические рисунки в пещерах должны были активизировать магические силы, обеспечивающие удачную охоту покойника. Такая гипотеза подтверждается анализом искусства Древнего Египта, которое было преимущественно магическим. Лишь затем постепенно выясняется, что образ не тождествен предмету. Искусство выросло из мистической веры, себя не оправдавшей. Это становится ясно, и отказ от собственности выступает как плата за создание искусства.
Психологическую неудовлетворенность человека выставляет в качестве предпосылки развития искусства З. Фрейд. «Художник – это первоначально человек, отвращающийся от действительности, потому что он не в состоянии примириться с требуемым ею отказом от удовлетворения влечений; он открывает простор своим эгоистическим и честолюбивым замыслам в области фантазии. Однако из этого мира фантазий он находит обратный путь в реальность, преобразуя, благодаря своим особым дарованиям, свои фантазии в новый вид действительности, который принимается человечеством как ценное отображение реальности» (Фрейд З.Основные психологические теории в психоанализе. М.; Пг., 1923. С. 87–88).
В какой мере можно здесь говорить о жертве? В человеке формируется образ предмета как психологическая компенсация за невозможность владеть им как собственностью. Через какое‑то время человек осознает, что образ не дает ему, вопреки мистическому закону сопричастности, реального владения предметом. Нарисованное блюдо не насыщает, и в нарисованном доме не укрыться от холода. Если человек отказывается от стремления к обладанию собственностью и продолжает творить, наслаждаясь образами самими по себе, то этот момент есть точка перехода от главенства мистики к лидирующей роли искусства.
Искусство с присущей ему образностью противопоставляет себя потребительскому отношению к действительности, материальному вообще в пользу непрактического, созерцательного наслаждения красотой. «Красота спасет мир», потому что заставляет отказаться от эгоизма собственности, силы вещизма, разделяющей людей. В этом смысле можно сказать, что отказ от собственности после возникновения института частного владения ею – главная жертва художника. Здесь мы находимся в области догадок, потому что практически ничего не известно о времени возникновения искусства. По-видимому, оно потрясло основы общества. В дальнейшей истории искусства мы видим даже слишком много частных жертв, восходящих к главной.
В искусстве кристаллизируются образы, возникшие из мистической ориентации первобытного человека. В процессе развития языка и мышления они превращаются в мифы, связывающие более или менее логично мир повседневного опыта с миром сверъестественных сил, который в мифе не менее реален, чем чувственный мир.
В выходящем из мистики мифологическом искусстве много сокрытого специально, чтобы профаны не проникли в тайники народного духа. «Женщины и непосвященные знают только их букву, тогда как их глубокий смысл и мистическая сила, на которой основана вся действенность их мифов, открыты лишь мужчинам, которые считаются достаточно квалифицированными для того чтобы быть в них посвященными, чтобы их сохранять и передавать, чтобы выполнить те тайные церемонии, которые с ними связаны» (Леви-Брюль Л.Первобытная мифология. М., 1930. С. 265).
По мере развития речи и понятийного мышления искусство все дальше отходит от мистики. Обряды и мифы усложняются, и постепенно начинает забываться источник их, придававший искусству объективное значение. С утратой мистических основ искусство субъективируется. Тяготение великих художников к мистике (например, Толстого, Достоевского и других к Оптиной Пустыни) представляет собой стремление вернуться к корням и обрести объективное содержание.
Преобладает та отрасль культуры, которая определяет жизнь людей. Таковым было искусство, когда оно было священным. «Произнесение этих мифов есть, таким образом, нечто совсем иное, чем простой обряд. Оно равносильно действию, от него в сильнейшей степени зависит сама жизнь общественной группы. Если бы не было больше мужчин в зрелом возрасте, хранителей этих священных мифов, способных произносить их в надлежащий момент, племя было бы обречено на угасание. Ведь молодые люди не могли бы больше обучиться произнесению этих мифов. А в этом случае виды животных и растений, явялющиеся источником существования для туземцев, исчезли бы» (Там же. С. 388).
Искусство было господствующим тогда, когда еще недостаточно развилось понятийное мышление и не возникла потребность в систематизации всего культурного наследия. Когда эти предпосылки проявились, из синтеза мистики и искусства сформировалась мифология. Искусство должно было накопить большое количество произведений, для того чтобы наступил следующий этап культуры – мифологический, являющийся по существу систематизацией первобытного искусства.