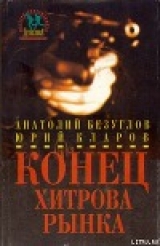
Текст книги "Конец Хитрова рынка"
Автор книги: Анатолий Безуглов
Соавторы: Юрий Кларов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Неопознанные трупы обычно фотографируют в пяти положениях. Причем отдельно фиксируются положение убитого, повреждения, следы крови, лицо и ушная раковина, снимок которой нередко помогает провести опознание. Оперативники же ограничились обзорными фотографиями. Единственное, что Мотылев догадался сделать, – это отметить в протоколе красное чернильное пятно на указательном пальце правой руки убитого, дактилоскопировать труп и снять слепки со следов ног предполагаемого убийцы. Но раствор гипса был слишком жидкий, а дно следа, перед тем как залить его гипсом, не смазали маслом, и поэтому слепки оказались совершенно непригодными для идентификации[9]9
Идентификация – отождествление, в данном случае возможность установить, кому принадлежит след.
[Закрыть]. Только на подошве одного из них можно было различить букву А. Как мы впоследствии выяснили, такие ботинки выпускала фирма «Анемир» (Абрам Немировский).
Вторичный выезд на место происшествия ничего не дал: прошла полоса дождей, и если раньше можно было разыскать какие-то улики, то теперь даже Шерлок Холмс и тот опустил бы руки. Фрейман и следователь дорожно-транспортного отдела ГПУ два дня проторчали на станции. Они допросили около пятидесяти человек. Илюша облазил каждый кустик, каждую ямку, но ничего, кроме разбитых очков, которые могли принадлежать кому угодно, не привез. Эксгумация трупа, проведенная по его указанию, тоже ничем не порадовала. Скудный багаж следствия пополнился лишь детальным описанием трупа и серией добротных фотографий.
Прежде всего требовалось установить личность погибшего. Но сделать это было не так-то просто.
Судя по одежде, рукам, не привыкшим к физической работе, выработанности почерка, грамотности и особенности лексики (если письмо, разумеется, было написано им), убитый относился к зажиточным слоям населения и был достаточно Культурным человеком. Стремление убийцы сделать неузнаваемым лицо жертвы давало возможность предположить, что неизвестный, скорей всего, москвич и убийца знал его раньше. Это были более или менее обоснованные предположения, а все остальное относилось к области догадок, абсолютно все, в том числе
и мотивы преступления (как будто ограбление, и в то же время на пальце погибшего оставлено платиновое кольцо).
«Туалет» трупа провести не удалось: слишком сильно пострадали мягкие ткани лица и даже кости. Никаких заявлений об исчезновении людей в милицию не поступало. Содержание обнаруженного письма тоже было плохим ориентиром. После взятия Екатеринбурга белыми судебный следователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда Наметкин и член суда Сергеев, которым было поручено расследование обстоятельств расстрела Николая II (в дальнейшем Колчак назначил для этого судебного следователя по особо важным делам Омского суда Соколова), превратили дом Ипатьева в своеобразную белогвардейскую Мекку. Сюда приходили на поклон, а порой из любопытства, русские и чешские офицеры со своими женами и любовницами, монархисты всех мастей и оттенков, делегации сибирского купечества, иностранные представители при штабе верховного правителя. Сотни и сотни людей! Вполне возможно, что убитый был одним из них. Что это давало следствию? Ровным счетом ничего. И все же найденное письмо сыграло решающую роль в опознании.
Помогла случайность. Но стоит ли противопоставлять случайность закономерности? Мне приходилось встречаться с людьми, буквально предрасположенными к различного рода «случайностям». Случайность и неизбежность тесно связаны друг с другом. Их взаимоотношения мне всегда напоминали соседок по коммунальной квартире: порой поспорят, порой и поссорятся, а отношения все-таки поддерживают – как-никак кухня общая…
VI
Вся жизнь Веры, по крайней мере до замужества, была посвящена моему воспитанию. Мне доставалось за лень, безалаберность, легкомыслие, разбросанность, смешливость. Но особенно ее возмущала моя склонность к беспорядочному чтению. Читал я действительно много и бессистемно – все, что попадалось под руку, а под руку мне попадались самые разнообразные книги.
– Чем так читать, лучше вообще не читать, – строго говорила Вера, извлекая из-под моей подушки «Записки палача» или переписанные от руки стихи Баркова. – Объясни, зачем тебе этот пошляк Барков? Зачем тебе книжонки по спиритизму, хиромантии, хирогномии, физиогномистике? Ты можешь мне объяснить?
Объяснить я, разумеется, не мог. И тем не менее в дальнейшем мне не раз приходилось пользоваться кладовой своей памяти. Пригодилась даже физиогномистика. В начале тридцатых годов она помогла мне установить контакт с одним из обвиняемых в крупном хищении. Физиогномистика была его коньком. Мы поговорили с ним об этой «науке избранных», после чего он проникся ко мне симпатией и начал давать показания… Видимо, следователю и агенту уголовного розыска трудно заранее предположить, какие знания и когда могут им пригодиться…
И вот, вторично читая найденное письмо, я обратил внимание на особенности почерка: сильно вытянутые в длину буквы и сдвоенные в нескольких местах штрихи. Мне помнилось, что я о таких отклонениях где-то читал. Но что и где? Я позвонил Злобинскому, ученику известного в то время графолога Зуева-Инсарова. Графология тогда еще не была объявлена лженаукой, и криминалисты нередко прибегали к ее услугам.
– Вытянутые в длину буквы и сдвоенные штрихи? – переспросил Злобинский. – Заочно сказать не могу. Перешлите мне письмо.
По целому ряду соображений я не хотел знакомить с содержанием этого документа никого из посторонних. От услуг Злобинского пришлось отказаться.
Где же я читал об этих проклятых штрихах?
Позвонила Вера, ядовито сказала:
– Если ты собираешься ночевать на работе – привезу подушку и одеяло.
Я уверил ее, что ночевать на работе не собираюсь и скоро буду дома.
– Тогда заезжай по пути на Покровку и получи у Гринблата мои очки. Ты обещал еще неделю назад…
Гринблат, старейший московский окулист, маленький, моложавый, с умными, веселыми глазами, провел меня в свой кабинет, увешанный таблицами разнокалиберных букв, и указал рукой на кресло.
– Присаживайтесь, пожалуйста. Несколько минут вам придется подождать: мы уже заканчиваем.
В кресле напротив меня сидел худосочный мужчина с приплюснутым, как у боксера, носом.
– Пугаться не стоит, – ласково, как ребенку, говорил ему Гринблат, – но своими глазами вам нужно заняться всерьез. Воленс ноленс[10]10
Хочешь не хочешь (лат.).
[Закрыть], как говорится. С астигматизмом шутки плохи…
Гринблат говорил ему что-то еще, но я уже ничего не слышал.
Когда пациент ушел, окулист вопросительно посмотрел на меня.
– Чем могу быть полезен?
– Хочу получить у вас маленькую консультацию. Что такое астигматизм?
Гринблат не удивился. Могло показаться, что он даже ожидал от меня чего-либо в этом роде.
– Астигматизм… Вы о физике имеете представление?
– В общих чертах.
– Астигматизм – болезнь глаз. Ведь наши глаза – это оптические системы. Астигматизм – один из недостатков оптики: деформация сферической волны… Как бы вам популярней объяснить? Если у человека роговица глаза или хрусталик неправильной формы, то в глазе вместо одного главного фокуса образуется несколько. Это вам о чем-нибудь говорит?
– Как астигматизм сказывается на зрении?
– Ну, астигматизм в 0,5-0,6 диоптрии практически безобиден, а в более тяжелой форме – вещь не из приятных. Все воспринимается искаженно, вместо точки, например, вы видите кружок или линию… Слабость зрения, повышенная утомляемость, головные боли…
– На почерке астигматизм как-нибудь сказывается?
– Разумеется. Астигматика всегда можно узнать по почерку. Вот полюбуйтесь, – он продемонстрировал мне чек, выписанный только что ушедшим пациентом. – Видите, как он пишет? Так пишут все астигматики…
Точно такие же сдвоенные штрихи букв, как и в письме неизвестного, только сами буквы вытянуты не в длину, а в ширину.
– Распространенное заболевание?
– Нет, за последние месяцы этот господин был первым больным, который обратился ко мне по поводу астигматизма. Близорукость, дальнозоркость, конъюнктивиты, травмы, катаракта – вот хлеб офтальмолога.
Я поблагодарил Гринблата за консультацию и спросил, сколько я ему должен. Врач от гонорара отказался.
– У меня слабость к тайнам, – улыбнулся он, – а вы так таинственно расспрашивали меня, что требовать дополнительную компенсацию было бы несправедливо. Вы случайно не налетчик? Нет? Жаль. Я давно мечтал познакомиться с налетчиком. Среди моих знакомых нет ни одного налетчика. Обидно.
Я утешил Гринблата, что подобное знакомство не исключено в будущем, и отправился обратно в уголовный розыск, совершенно забыв про Верино поручение.
Полученные мною сведения давали не так уж много, но они были тем кончиком ниточки, взявшись за который можно было попытаться распутать весь клубок. Фрейман это прекрасно понимал. Когда я рассказал ему о беседе с Гринблатом, он заметно оживился.
– Если убитый действительно автор этого письма, то тебе, гладиолус, надо ставить памятник. Как говоришь? Астигматизм? Язык сломаешь! Это они специально такое название придумали, чтоб следствие запутать…
Опрос окулистов Москвы занял бы у нас не меньше недели. Но уже на следующий день один из наиболее расторопных оперативников нашей группы – Кемберовский позвонил мне из городской глазной больницы имени В.А. и А.А. Алексеевых (ныне Институт глазных болезней имени Гельмгольца), где он проверял карточки больных астигматизмом. Кемберовский сказал, что среди больных числится некий Богоявленский, содержатель антикварного магазина на Малой Дмитровке. По словам лечащего врача, Богоявленский, обычно отличавшийся исключительной пунктуальностью, пропустил важную консультацию у профессора Бесараба и уже больше месяца не появляется в больнице, где ему подбирали стекла для очков.
Я приказал Кемберовскому немедленно подъехать в антикварный магазин и навести там соответствующие справки.
Через час снова звонок.
– Товарищ субинспектор, говорит агент третьего разряда Кемберовский. Разрешите доложить?
– Докладывайте.
– Мною установлено, что убитый – Богоявленский. Приказчик сказал, что хозяин месяц назад уехал и больше не появлялся.
– Одежду, которая была на Богоявленском, он описал?
– Так точно, описал. Полностью совпадает. Сказал, что хозяин носил платиновое кольцо, был высокий и волосы имел русые… Он, товарищ субинспектор! У меня на. эти дела нюх…
– Хорошо. Никуда не отлучайтесь до прибытия оперативной группы. Чтобы все служащие Богоявленского были на месте.
– Да их всех только двое – приказчик да уборщица. Магазинчик маленький, лавка вроде…
– Ждите оперативную группу. Самостоятельно никаких действий не предпринимайте. Ясно?
– Так точно.
Кемберовский, попавший в угрозыск после демобилизации из армии, где прослужил три года, чем-то напоминал неистребимого оловянного солдатика. Трудно было даже представить, что у него дом, семья, дети и что он знает какие-либо слова, кроме «так точно», «разрешите доложить», «будет исполнено». Его четкие, резкие движения настолько походили на движения механической игрушки, что у меня при виде его всегда появлялось детское желание взять отвертку и поближе познакомиться с хитрым устройством этого странного механизма: Но, как известно, недостатки человека – только продолжение его достоинств, и Кемберовский обладал многими важными для оперативника данными, прежде всего исполнительностью. Я мог быть уверен, что все мои указания будут выполнены в точности, а это было весьма существенно: излишняя инициатива не всегда похвальное качество.
Сразу же после разговора с агентом я зашел к Фрейману.
– Нюх, говоришь? – усмехнулся Илюша. – Есть две вещи, которые мне всегда не нравились: собаки без обоняния и оперативники с нюхом…
Словом «нюх» у нас действительно злоупотребляли, особенно часто им пользовались, когда не могли отыскать доказательств. Но какие были у Фреймана основания сомневаться в сведениях, сообщенных агентом?
– Слышал про любимую пословицу Груздя? – спросил я.
– Нет.
– Моряк без триппера, что баржа без шкипера…
Фрейман засмеялся.
– Неплохо. Но ты это к чему?
– К тому, что у каждого свои убеждения…
– А ты, гладиолус, начинаешь кусаться, – с уважением сказал Илюша, засовывая в карман завернутый в газетную бумагу бутерброд с колбасой. – Мне это нравится: очень люблю зубастых. Поедешь со мной?
Мне очень хотелось поехать, но меня ждали вызванные на допрос люди.
– Отправляйся один. Вечером расскажешь.
– Если будет что.
– Будет, – сам не зная почему, уверенно сказал я.
VII
После окончания гражданской войны Москва некоторое время напоминала большой антикварный магазин. Рынки города были заполнены старинными вещами. Тарелки и блюдца с меткой Екатерины II, бюсты царей, известных и не особенно известных генералов, ветхие дамские зонтики с резными ручками, портреты на кости и металле, серебряные блюда XIV века, ларцы с заржавевшими секретными замками, фарфор с завода Попова.
На промышленно-показательной выставке ВСНХ еженедельно проходили аукционы.
– Фарфоровая фигурка саксонской работы! – бойко выкрикивал разбитной аукционист, зорко оглядывая зал. – «Девочка-пастушка» с небольшим дефектом. Цена 50 копеек. Прошу обратить внимание на изящество линий! Итак, 50 копеек. Кто больше? 50 копеек – раз! 50 копеек – два! Третий раз 50 копеек… Нет желающих?
Чашки старинные, фарфоровые, саксонские, без ручек, остальные в порядке. Бывшая собственность бывшей графини Берг (была ли такая графиня, не знал никто, в том числе и сам аукционист, но упоминание титула, как правило, возбуждало любопытство: графья пользовались!).
Демонстрирую герб. Цена – 2 рубля 50 копеек. Кто больше? Два шестьдесят – слева, два восемьдесят – направо, три рубля – в пятом ряду прямо… Ваша цена, слева в первом ряду…
На аукционы чаще всего забредали случайные люди, те, которые могли раскошелиться на два, в крайнем случае, на три рубля, чтобы украсить свою жилкооповскую комнату «девочкой с дефектом» или побитыми молью рогами оленя. Нэпманы предпочитали антикварные магазины, где иногда можно было приобрести действительно уникальные вещи. Они не жалели «совзнаков», которые не котировались даже на Ревельской бирже. Они жаждали «красивой жизни» и надежного помещения своих капиталов.
Торговля старинными художественными вещами и редкими книгами процветала на Сухаревском рынке, который тянулся от розовой Сухаревской башни до Красных ворот, на Рождественке, Малой Лубянке, в Большом Кисельном переулке.
Роскошные, поставленные на широкую ногу магазины перемежались магазинчиками, лавками. У каждого антиквара был свой покупатель. К Мазингу на Арбат, где дешевле чем за «червячок»[11]11
«Червячок» – червонец (жаргон).
[Закрыть] вещь и не купишь, ходили, например, крупные заезжие торговцы с тросточками, в модных регланах и фетровых шляпах. У букиниста Шмакова клиентура помельче – коммерсанты средней руки, спецы, коммивояжеры, дантисты. Лавочники, торговцы в розницу, приказчики чаще всего толкались у продавца фарфора Булкина или старьевщика с Малой Лубянки Комаровского.
Обороты антикваров росли со сказочной быстротой. Эта торговля считалась чуть ли не самым прибыльным делом после торговли мануфактурой. Но, судя по всему, Богоявленский не был модным антикваром, хотя его магазинчик и находился на бойком месте, недалеко от шумной и многолюдной Страстной площади.
Магазин помещался в полуподвале большого дома с лепными украшениями и затейливыми балкончиками. Соседнее помещение занимала «единственная в Москве» лавка Л. Глика: «Избавиться может всякий от пота – была бы охота. Уничтожайте бородавки, крыс, тараканов и прочих паразитов продуктами Глика. Полный успех гарантируем для всех!»
Рядом с красочной рекламой предприимчивого Глика, объявившего беспощадную войну всем паразитам, скромная вывеска «Антиквариат. Н. А. Богоявленский» совершенно терялась. Не привлекала внимания и витрина. За тусклым стеклом, заляпанным грязью, с трудом можно было разглядеть трех уродливых китайских божков на инкрустированном перламутровом колченогом столике и лениво покачивающуюся пудовую люстру с хрустальными
подвесками. Сюда забредет разве только любопытный. Солидному покупателю здесь делать нечего.
Мотылев, который поехал вместе с Фрейманом, кивнул на листок картона с надписью: «Магазин закрыт на материально-финансовый учет».
– Кемберовский постарался.
Внутри магазинчик тоже ничем не отличался: скромные обои с цветочками, облупившаяся краска… На полках – чучела птиц, пепельницы, табакерки, сервизы. Все это тусклое, неброское, покрытое пылью.
Кемберовский сидел у входа на табуретке и курил. При виде Фреймана и Мотылева он загасил о подошву сапога самокрутку и доложил, что все указания субинспектора Белецкого полностью выполнены.
– Разрешите идти?
– Конечно.
Из-за прилавка вышел высокий костистый старик в темной поддевке – приказчик Богоявленского.
– Тоже из сыскной будете?
– Сыскная, папаша, еще в семнадцатом упразднена, теперь уголовный розыск, – нравоучительно сказал Мотылев, преисполненный важностью порученного ему дела.
– Ну, это нам без разницы. Что розыск, что сыскная полиция, абы нас не тревожили.
После того как Фрейман сверил образцы почерка и фотокарточки, он уже не сомневался, что убит именно Богоявленский. Тем не менее он не торопился с формальностями.
– Помешали торговле?
– Какая там торговля! – сказал приказчик. – Слезы одни. С утра статуэтку саксонскую только и продал. Не идет к нам покупатель…
– А у Глика, мы проходили, народу невпроворот…
– Ну какое сравнение? Глику зимой снег дай – он тебе из него звонкую монету выбьет. Коммерсант. Торговля – дело такое, к ней вкус иметь надо…
– А хозяин ваш разве не коммерсант?
– Одно название. Нету у него вкуса к торговле. Не то, чтоб заговорить покупателя, товар лицом ему показать, а и не выйдет к нему со своих аппартаментов. Уж на что булочник Филиппов богачом был, империалистом по-вашему, а и тот понимал: ублажишь покупателя на копейку – рубль заработаешь. Улыбка много не стоит, а тоже капитал наращивает. Улыбнулся хозяин, шаркнул ножкой, раскланялся – гостю и приятно, и за ценой не постоит, и еще, глядишь, заглянет. Вон оно как! В каждом ремесле свои секреты потаенные…
– Это верно. А Николай Алексеевич надолго уехал?
– Кто его знает? Сказал: уезжаю. А куда, зачем, надолго ль – не доложился. Вот ждем его уже, почитай, месяц… А что с ним? – спохватился словоохотливый приказчик. – Проштрафился перед властью или как?
– Да нет, не проштрафился…
Старик с облегчением вздохнул. Чувствовалось, что эта мысль его тревожила.
– А чего же вы к нам пожаловали? – спросил он.
– Не обо всем можно говорить, папаша, – вставил Мотылев.
– Да я и не любопытствую. Сыскное дело до нас отношения не имеет. Я только за Николая Алексеевича опасался. Хороший он человек, уважительный, на чужое добро не зарится да и своим не очень дорожит.
Расчувствовавшись, старик протянул Фрейману и Мотылеву табакерочку с нюхательным табаком.
– Одолжайтесь. Я, признаться, дыма не уважаю. От него дух тяжелый в комнате. А понюшка очищает, после понюшки дышится легче. Не желаете? Зря. Хорош табачок, с сосновым маслицем да с розовой водичкой… Рецепт-то свой, проверенный.
Фрейман умел располагать к себе людей, а Семен Семенович – так звали старика – любил поговорить. Поэтому уже через полчаса Илюша узнал почти все, что его интересовало. До революции Семен Семенович служил старшим приказчиком в булочной. Когда начался голод, уехал к родне в деревню. В 1922 году вернулся. Работы было мало для молодых, не то что для стариков. Хорошо, на бирже труда оказалась свояченица: то туда сунет, то сюда. Так и перебивался на временной работе, пока в магазин Богоявленского не устроился. О хозяине приказчик отзывался хорошо:
– Чудак, конечно, что в торговое дело полез, не по нему это дело, а человек справедливый, обходительный: сколько у него служу, а чтобы хоть единожды дурное слово услышал. Смирный такой… Жаль только, что к хлыстовству склонность имеет…
– С чего вы это взяли, Семен Семенович?
– Не знал бы – не говорил, греха на душу не возьму. Образок на его половине видел с дарственной от Гришки Распутина, а уж тот хлыст чистой воды был, не зазря его владыка Гермоген да Илиодор анафеме предали. Да и дамочка к нему одна заходила, вроде юродивой, все Гришку поминала. Николай Алексеевич ей говорит, что, дескать, ты, госпожа Лохтина, при служащем моем язык распускаешь, а она ему этак быстро-быстро залопотала на языке каком-то иноземном: французском, что ль, а может, и английском. Я-то только церковнославянскому обучен.
– Ну, Локтину Веру Ивановну я знаю, – сказал Илюша, умышленно искажая названную приказчиком фамилию. – Вздорная баба, маникюршей в пассаже работает…
– Не Локтина, а Лохтина. Ольга Владимировна Лохтина, – сказал Семен Семенович. – И вовсе не маникюрша. Я за свой век в людях научился разбираться. Хоть вид у той дамочки и зачуханный, а сразу видать: было времечко – с серебряного, а то и с золотого блюда едала. Дворянских кровей дамочка, вот что я вам скажу!
Лохтина… Эту фамилию Фрейман хорошо помнил. Об Ольге Владимировне Лохтиной – одной из самых ревностных и самых эксцентричных поклонниц Распутина – в начале 1917 года писали многие падкие до сенсаций газеты. Приводились какие-то дурацкие телеграммы, которые она слала царю, ее высказывания о Гермогене, о религиозном обновлении, началом которого явилась Февральская революция. Неужто та самая Лохтина? По высказываниям приказчика получалось, что та самая…
– Часто она навещала Николая Алексеевича?
– Да раз пять, пожалуй, была. Николай Алексеевич ей из кассы деньги давал. Жалел ее очень, праведницей называл. «Смирению, – говорит, – Семен Семенович, у нее и покойные цари учились. Не каждый, – говорит, – бархатные одежды на рубище сменит…» Заботился о ней. Нынешним летом хотел меня даже к ней на квартиру послать, проведать, только она сама пожаловала…
– Так что избавились от лишних хлопот?
– Ну какие хлопоты? Она не так чтобы уж далеко комнату снимает, где-то в роще Марьиной.
– А о чем эта Лохтина обычно разговаривала с Николаем Алексеевичем?
– Разве упомнишь? Да я и не прислушивался особо. Говорят себе – ну и пусть говорят. Мое дело сторона. Да и то сказать, язык-то Лохтина чесала, а Николай Алексеевич все больше молчал и улыбался. Только раз, помню, она его из всякого терпения вывела. Осерчал он очень и говорит: «Я, говорит, шантажа не боюсь, и Таманскому меня не запугать». А Лохтина ему что-то быстро-быстро на иноземном языке залопотала, видать, уговаривала, что ли. Только Николая Алексеевича не уговоришь. Сидит белый как стенка и все свое повторяет: дескать, раз так решил, значит, так оно и будет. Ну а Лохтина, само собой, в слезы, что он поперек ей действует…
– А кто этот Таманский, тоже антиквар?
– Вот чего не знаю, того не знаю. Не слыхал я про такого антиквара. Только того Таманского они нет-нет, а поминали в разговоре… Таманского да еще Соловьева Бориса… Не любит их Николай Алексеевич, иначе как фармазонами не называет.
Таманский и Соловьев… Кто они? Какое отношение имели эти люди к Богоявленскому? Что их связывало? Почему Таманский шантажировал антиквара и что было поводом для шантажа? Ответить на эти вопросы старик не мог. А может быть, просто не хотел? Нет, наверно, все-таки не мог…
– Скучно живет Николай Алексеевич?
– Оно конечно, какое уж там веселье! Ни в театр, ни в ресторацию, ни в кинематограф… Все дома да дома. Разве когда съездит на день-два. Уж не знаю к кому. Спрашивать стесняюсь, а сам не говорит. Вот только сей раз чего-то задержался…
– Зато, наверное, друзья навещают?
– И этого нет. Ну, дамочка наведывается. На масленицу пару раз господин седоватый заходил из бывших. А так все один да один… Пелагея наша, уж на что баба темная, крестьянская, а и то удивляется. И лицом, говорит, вышел, и статью, и нравом, и капитал есть, а живет монах монахом. Вроде какого святого…
Мотылев относился к мирной беседе Фреймана с приказчиком явно неодобрительно: уж слишком она была не похожа на привычный разговор следователя с подозреваемым. «Мудрует» Фрейман!
– Чем же он, папаша, у вас занимается? – не выдержал он. – Торговать не торгует, развлекаться не развлекается… Чудно что-то! Деньжат у хозяина много было?
Старик пропустил вопрос Мотылева мимо ушей.
– Чудно говорите? Это вы верно заметили.
– Уж куда верней! – ухмыльнулся Мотылев, приподняв куцые брови над изюминками глаз. Он подмигнул Фрейману. – Чудеса в решете! Слушаю тебя, папаша, и вроде в театре сижу!
Старик насупился: этот нагловатый парень ему с самого начала не понравился. И чего ему от него надо? То ли дело этот рыжий: аккуратный такой, обходительный, даже не поверишь, что из сыскной.
– Вот ваш сотоварищ, – сказал он, обращаясь к Фрейману, словно Мотылева здесь и не было, – сомнение высказал. Оно, может, и сомнительно, а только так оно и есть. Мне Николай Алексеевич тоже очень удивительным человеком кажется. Я ведь много всяких людишек перевидел. И купцов знавал, и коммерсантов, а вот такого впервой встретил. Ведь человек – он человек и есть. У каждого своя человеческая сущность, своя линия в жизненном пути. Один копейку выбивает, другой горькую пьет, третий к женскому полу слабость имеет, а тот чудит, к примеру, среди людей себя выпятить хочет: вот я какой, ни на кого не похожий. Это тоже бывает. А вот к Николаю Алексеевичу я все присматриваюсь да присматриваюсь, а линии его жизни углядеть не могу. И чудить не чудит, и пить не пьет, и делом не горит. Иной раз по неделям его не видишь и не слышишь. Постучишься к нему в дверь: «Кассу изволите принять?» – «В следующий раз, Семен Семенович». Мне что? В следующий так в следующий. Мое дело телячье…
Старик так говорил, как будто в чем-то оправдывался. Несколько слов, сказанных Мотылевым, нарушили ту дружелюбность, которую тщательно создавал Фрейман. Теперь приказчику казалось, что его в чем-то пытаются запутать, уличить в неизвестном ему преступлении. Он уже не сорил щедро словами, осторожничал, тщательно обдумывал ответ. Произошло то, чего больше всего опасается опытный следователь, – нарушение контакта. Несколькими сказанными к месту шутками Фрейман разбил ледок недоверия, но полностью восстановить прежнюю атмосферу уже не мог. Проклиная в душе Мотылева, Илюша осторожно направлял разговор в нужное русло. Его интересовали привычки Богоявленского, образ жизни, который вел странный хозяин антикварного магазина.
– Кстати, Семен Семенович, – как будто между прочим сказал он, – где вы держите письмо, которое пришло Николаю Алексеевичу?
– А здесь, в конторке…
Этот вопрос был пробным камнем: ни о каком письме Фрейман, разумеется, ничего не знал. Но приказчик был слишком далек от методики допросов, и вездесущность уголовного розыска его поразила.
– Ишь ты, и о письме уже знаете, – с уважением сказал он, роясь в бюро. – Не зря, видать, в старые времена говорили, что сыщик и под землей все видит.
Мотылев расценил это почему-то как признание его собственных заслуг и самодовольно сказал:
– На том и стоим, папаша.
Он все более входил во вкус порученного ему дела и жаждал показать Фрейману, что неудачный осмотр места происшествия – чистая случайность и что таких оперативников, как он, Мотылев, надо еще поискать. Он достал из кармана гимнастерки какую-то бумажку, повертел ее перед глазами и внушительно сказал:
– С нами, папаша, темнить не надо. У нас все, как грецкие орехи, колются: раз – и на две половинки! Вон как!
Старик посмотрел на него непонимающими глазами:
– Это вы к чему речи такие?
– А к тому, что тень на плетень наводить не следует, к тому, что правда – мать, а вранье – мачеха.
– А я, господин хороший, никогда не вру, – сухо сказал старик.
– Вот и хорошо, папаша. Не врать – главное. Рабоче-крестьянский суд всегда чистосердечное признание учитывает!
Когда старик отошел к прилавку, Мотылев притянул к себе Фреймана и горячо зашептал ему в ухо:
– Илюша, будь другом, дай мне его на пять минут. Ну только на пять минут! Чего тебе стоит? На твоих глазах расколю… Твоих мудрований он все равно не поймет. С ним по-простому, по-рабоче-крестьянскому надо: сколько сребреников получил, иуда, за смерть своего хозяина? Расколется, как пить дать расколется. Точно тебе говорю! Он наводчик, больше некому. Я за ним во время нашего разговора наблюдал: то бледнеет, то краснеет. Нервничает, гад старый!
– А ты, между прочим, тоже то краснел, то бледнел, – сказал Фрейман. – Может, ты с ним в паре работал, а? Рабоче-крестьянский суд ведь учитывает чистосердечное признание…
– Чего с тобой говорить? – обиделся Мотылев. – Тебе все шуточки да шуточки.
– Это потому, что, когда мама меня носила, она ни одного представления в цирке не пропускала, – объяснил Фрейман и ласково добавил: – А если ты еще раз, гладиолус, помешаешь мне работать – выгоню.
Не обращая внимания на осуждающий взгляд приказчика, Фрейман вскрыл письмо, адресованное Богоявленскому.
«Милостивый государь Николай Алексеевич! Испытываю немалое неудобство перед Вами за свою чрезмерную назойливость. Тем не менее не могу не воспользоваться вашей благорасположенностью ко мне и к делу, коему я посвятил остаток своей жизни, и не напомнить о своей просьбе. К моему глубочайшему сожалению, до сего времени я не получил от Вас надлежащих ответов на свои вопросы, а без Вашей бесценной помощи труд мой не представляется возможным закончить, ибо, как Вам известно, в последней странице истории российского самодержавия слишком много пробелов. Понимаю, что Вы не смогли тотчас откликнуться на мою просьбу в силу каких-либо весьма существенных обстоятельств личного характера. И все же осмеливаюсь Вас побеспокоить еще раз. У всех у нас имеются свои неотложнейшие дела, но и у всех нас, истинно русских людей, есть и великий долг перед памятью невинно убиенного государя императора Николая Александровича, испившего до дна горькую чашу в Екатеринбурге, долг коий мы обязаны сполна оплатить по мере сил наших. Руководствуясь оными соображениями, я и посчитал себя вправе напомнить Вам о Вашем обещании.
Преданный вам С. Стрелъницкий.
P. S. Вашу книжечку дневника перешлю Вам с первой же оказией. Ожидаю следующие».
Судя по штампу на конверте, письмо было из Петрограда. Обратного адреса Стрельницкий не написал.
– Николай Алексеевич часто получал письма?
Приказчик развел руками:
– Чего не знаю, того не знаю. Ящик почтовый на той двери, что со двора на половину хозяина ведет. И ключик от ящика у него, и доставал он почту всегда сам…
– Как же это письмо к вам попало?
– А потому что заказное. Хозяина не было, вот почтальон мне и принес под расписку.
Сидевший на стуле Мотылев покрутил головой, но «взяться» за старика все-таки не решился: пусть Фрейман сам расхлебывает эту кашу.








